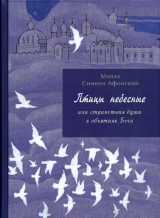
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 65 страниц)
СТАРЕЦ
Господи Боже мой, в Твой прекрасный мир я вторгался, как невежда, полагая его даже не своей собственностью, которую никогда бы не стал разрушать, а как обязательное приложение к своему существованию. И лишь постигнув, что весь мир в Тебе и из Тебя, Господи, стал бояться по невнимательности своим дыханием уронить даже каплю росы с древесного листа, благоговейно принимая в себя Твою неизъяснимую жизнь, как самый невероятный и непредставимый дар.
Сердце человеческое всегда стремится к покою, в то время как помыслы никогда не заканчиваются и являются прямой противоположностью покоя. Здесь на помощь человеку в борьбе с помыслами может прийти только Церковь с ее благодатными Таинствами и, словно чудотворящий и животворящий дар Небес, словно луч вечной жизни – милость Христова в облике христоподобного духовного отца.
Через полгода меня благословили быть пономарем, оставив за мной чтение кафизм, часов и шестопсалмия. Пономарить мне нравилось. Теперь я уже не стоял с девушками на клиросе, а прислуживал в алтаре, где можно было молиться. Расторопным пономарем, к сожалению, стать мне не удалось. Но я старался выполнять это послушание со всем вниманием и благоговением к престолу Божию, где совершалось Таинство священной литургии. Еще мне нравилось слушать беседы священников, а также рассказы и воспоминания старого пономаря и старушки-свечницы о церковной жизни прихода. Эта старушка полюбилась мне тихостью характера и светлым ясным лицом, на котором всегда светились затаенным теплом добрые глаза. Вскоре нам прислали второго диакона, грузного парня с красивым басом, но у него была какая-то своя жизнь и мы не сошлись.
В отношения между священниками и в церковные дела я старался не входить и не любопытствовать о внутриприходской жизни, что оставило добрую память об этом периоде моего обучения в Никольском храме. А вот с молодым диаконом, отцом Евгением, чуть постарше меня и его женой, я очень сдружился. Лучше и ближе чем они, у меня, среди верующих церковных людей, никого не было. Еще когда я стоял в уголке храма на службах, стараясь быть незаметным, он подходил ко мне с кадилом и добросовестно овевал меня облаками ладана, что приводило меня в смущение. В один из таких дней, в конце службы, он подошел ко мне и сразу спросил:
– Ты какие-нибудь книги православные имеешь?
В те времена, тем более в глухом Таджикистане, православных книг невозможно было отыскать днем с огнем.
– Есть немного, – ответил я. – Евангелие, «Отечник» и «Откровенные рассказы странника». Еще перепечатал сам «Приношение современному монашеству».
Он попросил подождать его после службы, чтобы вместе пойти в их дом, который они с женой купили совсем недавно. Они вдвоем вышли из церкви и мы пошли по улице, разговаривая словно старые знакомые. Домик их был чистый, беленький, весь в цветущей сирени и гортензиях, которые посадила его жена. Они поставили чай, сладости, потом показали мне свою небольшую библиотеку. На полках стояли настоящие книги, а также перепечатанные на машинке. Отец Евгений достал с полки «Лествицу» Иоанна Лествичника и протянул ее мне:
– Читал?
– Нет, даже не слышал о ней.
– Прочитай, потом скажешь свое мнение…
Диакон учился заочно в семинарии в Сергиевом Посаде и у него на полке стояли учебники – машинописные тексты, переплетенные в виде книг. Я заинтересовался:
– А можно еще учебник какой-нибудь почитать?
– Вот, возьми! Будут вопросы – спрашивай!
Это был учебник «История Русской Православной Церкви». При расставании мы поняли, что наши отношения установились надолго.
Все, о чем повествовалось в «Лествице», глубоко вошло в мое сердце. Мудрость суждений и удивительный язык этой книги заставили меня взглянуть на жизнь по-новому, с другой, духовной точки зрения. Вопрос – как жить, чтобы спастись? – отпал сам собой. Книга открыла мне ясные и возвышенные перспективы духовной жизни. Но те критерии, которые она поставила передо мной, смутили меня своей, как мне думалось, недосягаемостью. Об этом я рассказал диакону:
– Ну, ты совсем не так понял суть книги! – взялся растолковывать мне добросердечный друг. – Все то, о чем в ней написано, достижимо и выполнимо! Но для этого нужно как следует потрудиться!
Он оказался прав, и я часто с благодарностью вспоминал его совет и поддержку. А учебник церковной истории я читал с упоением – столько нового мне открылось в истории Русской Церкви. Все учебники диакона по истории Вселенской Церкви стали надолго моим любимым чтением, что мне очень пригодилось в самом недалеком будущем.
Отец Стефан, наблюдая за моим воцерковлением, помог мне наладить личное молитвенное правило, включающее, кроме утренних и вечерних молитв, Каноник и акафисты. Эти акафисты многие годы служили мне большим утешением. Для изучения богослужения он рекомендовал мне добавить в ежедневное правило чтение служб из каноника, исключая те места, которые относятся к обязанностям священника. В течение нескольких лет это правило являлось для меня опорой в жизни, и постепенно душа начала выздоравливать от понесенного наказания за гордыню.
Мне стало понятно: без Исповеди и Причащения невозможно устоять в духовной брани, потому что энергия нападения зла во много раз превышает человеческие силы. Теперь я особенно бережно начал относиться к периоду после Причастия. Старался побыстрее попасть домой и начать молиться, пока тепло благодати пребывало внутри меня. Тоска и уныние незаметно исчезли, перейдя в полную уверенность в истинности церковной жизни. Но неопределенность жизненного пути волновала меня вновь и вновь периодически возникающим недоумением – как жить дальше?
Жажда молитвенной жизни опять неспешно пробуждалась в сердце, и я как мог прилагал все силы, чтобы утвердиться в молитвенном распорядке. Добрый отец Стефан, приглядываясь ко мне, однажды заметил:
– Что-то ты, Федор, много молишься. Ты делай всего понемногу: и в кино сходи, и телевизор посмотри, и молитву не оставляй!..
Такие советы смущали меня и приводили в замешательство.
События шли своим чередом. Время от времени приходили письма от Виктора. Сначала он сообщал, что учится в семинарии, затем, что зачислен послушником в монастырь, наконец, пострижен в монахи и рукоположен в иеродиакона. Он приглашал навестить Лавру, но больше всего обрадовало его предложение представить меня своему духовнику – отцу Кириллу, о котором иеродиакон писал много восторженных строк. Это предложение взволновало мою душу, не забывшую преподобного Сергия, с которым она стала связана неразрывными узами. И сама Лавра с ее старинными зданиями, крепостными стенами и площадями в цветах казалась среди мирской жизни неземным раем и благодатным прибежищем для уставших душ, ищущих надежной опоры в духовной жизни. После пустыни мои пылкие надежды на самостоятельный поиск спасения стали скромнее, поэтому я с радостью откликнулся на письмо Виктора и сказал родителям, что хочу поехать в Троице-Сергиеву Лавру повидаться с моим другом. Отцу и матери это сообщение доставило много радости, так как они почувствовали в моем намерении нечто большее, вошедшее в нашу жизнь и менявшее ее неуловимо и деликатно. Это было то, что называется Промыслом Божиим.
Иеродиакон, которого теперь звали Пименом, встретил меня со своим новым другом, отцом Прохором. С этим иеромонахом некогда архитектор сооружал келью схимнику. Высокий приветливый парень с ясными доверчивыми глазами, улыбаясь, благословил меня. Друзья помогли мне устроиться в гостинице для паломников. Внимательно осмотрев мой внешний вид, иеродиакон заметил, что мне желательно носить более строгую, черную или серого цвета одежду.
– Но у меня как раз одежда серого цвета! – возразил я.
– Мало ли что! Это ведь джинсы, а нужно носить скромную одежду!
Я не стал спорить, покоряясь его доводам. Монахи отвели меня к мощам преподобного Сергия, и после молитвы возле его раки попрощались:
– Ты молись, а завтра будь готов идти к отцу Кириллу на исповедь.
Со мной был мой Молитвослов и неразлучный Каноник, просмотрев который отец Пимен посоветовал:
– Пока молись, как тебя благословили в Душанбе, но тебе лучше попросить благословение на монашеское правило у нашего батюшки…
Утром я уже стоял в битком набитой верующими маленькой комнатке для приема жаждущих исповеди и совета у старца. Духота стояла страшная, хотя форточка была открыта. Мы были стиснуты в тесном пространстве, где находились, в основном, женщины разного возраста, но стояли и мужчины. В углу на подсвечнике горело с десяток свеч и возвышался аналой с раскрытой Псалтирью. Верующие по очереди читали кафизмы. Дверь в нашу комнатку периодически открывалась и в нее втискивались другие богомольцы. Выходить никому не позволялось, потому что исповедь происходила уже в стенах монастыря, а за дверью присматривал строгого вида бородатый вахтер.
От духоты мне стало не по себе и я решил постоять на воздухе во дворе, чтобы немного отдышаться. Но бородатый вахтер быстро подошел ко мне:
– Вы что тут делаете?
– Вышел подышать…
– А если вы хотите дышать, то дышите с той стороны!
Он схватил меня за руку, быстро вывел через монастырскую проходную и захлопнул дверь.
«Вот это да! Только приехал и уже вытолкали из монастыря!» – возмущался я, уныло стоя возле проходной.
Вахтер в окошке делал вид, что не замечает меня. Там и нашел меня мой заботливый иеродиакон:
– Как ты здесь оказался?
– Вышел подышать, а вахтер вывел меня из монастыря!
– Не обижайся, у него послушание такое!
Это слово мне уже запомнилось. Оно всегда говорилось монахами с особым значением – «послушание»!
Вновь я прошел с иеродиаконом через проходную. Вахтер промолчал, не глядя на меня. Теперь я уже еле втиснулся в ту же комнатку. Места почти не осталось и мой друг с усилием припер меня сзади дверью, пообещав, что скажет обо мне отцу Кириллу. Как только я оказался внутри, дверь напротив отворилась и в комнату вошло живое солнце – не обжигающее, а согревающее и исцеляющее своим теплом – солнце добра. Таким я увидел известного старца. Его лицо сияло в окаймлении белоснежных волос. Все остальное, кроме удивительного лица, казалось, не имело очертаний. Только оно выделялось в солнечном сиянии его мудрых глаз, излучающих нежность и мягкую доброту. Лишь через некоторое время я разглядел, что он был одет в длинную монашескую мантию с надетой поверх епитрахилью и крестом на груди. Черный цвет мантии сливался с полумраком дверного проема, поэтому мне запомнилось, прежде всего, сияние его светлого лица. Казалось, что живет только оно, словно лик одного из святых с древних икон.
Старец произнес начальный возглас и тихим голосом начал читать чин исповеди для богомольцев. Голос его был глуховатый, с небольшой хрипотцой. Своей кротостью он словно буравом проникал в покрытое толстой корой греха мое истомленное сердце, освобождая его от тьмы страстей. Его голос уже звучал в каких-то моих сокровенных сердечных глубинах, которые много лет тосковали именно по такому голосу и именно по таким интонациям. Как будто мое сердце нашло во плоти ту святость, которую оно тщетно искало в миру среди людей. Слезы невольно потекли по моим щекам, волна за волной. Все в комнате расплылось. От хлынувших слез огоньки свечей превратились в радужное сияние. А голос старца звучал и звучал, очищая в душе пласты душевной грязи. «Боже мой! – взмолилось мое сердце. – Ты привел меня к самому любимому, самому лучшему, самому родному батюшке на свете, который теперь для меня дороже родного отца! Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»
Подошла моя очередь. Я вошёл к батюшке на исповедь, спустившись на две ступеньки вниз, в еще более маленькую комнату, и опустился на колени перед аналоем с Евангелием и крестом. Наконец, я смог разглядеть духовника хорошо: худое лицо с впалыми щеками, в уголке носа шрам от ранения слегка прикрывали седые усы. Борода у него была длинная, с тремя косицами, глаза необыкновенно мудрые и добрые.
Сердцем и душой я уже полностью принадлежал моему старцу, духовному отцу и самому родному человеку на свете – отцу Кириллу. Долго и сумбурно я рассказывал о своей жизни, захлебываясь слезами. Духовник внимательно слушал, не перебивая и не задавая ни одного вопроса, а затем сказал:
– Нельзя жить в тупике. Нужно расти. Бог долго поливает дерево, а если не растет, срубает.
После разрешительной молитвы он благословил меня пока продолжать жить в пустыне и молиться, а также исполнять послушание пономаря, но не меньше двух раз в год приезжать к нему на исповедь и принимать участие в послушаниях в Лавре вместе с другими паломниками.
– Батюшка, что мне делать в пустыне?
– Сначала не делай того, чего нельзя делать православному человеку, а потом делай то, что нужно делать, чтобы спастись… – улыбнулся отец Кирилл.
– А что нужно делать?
– Всегда ищи одной правды Божией! Знаешь заповедь: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»? Избегай всякого зла и живи в добре.
– Батюшка, а можно мне начать читать монашеское правило?
– Можно, можно, – согласился он и благословил меня: – Читай главу Евангелия, две главы Апостола, три канона с Акафистом и кафизму. А главное – подвизайся в смирении. Если будут какие-либо недоумения по правилу, твой иеродиакон растолкует тебе все…
Я вышел через другую дверь, словно неся в груди светлый огонек свечи. Внутри что-то тихо светилось, согревая душу. У двери меня ожидал мой друг:
– Ну как впечатление?
Я глубоко вздохнул:
– Знаешь, просто нет слов… Лучше него я еще не встречал в жизни человека!
– Ну еще бы! Теперь держись его и будь у старца в послушании! А правило монашеское он тебе благословил?
– Благословил, только у меня много вопросов, в какой последовательности и когда его читать?
– Слава Богу! – обрадовался отец Пимен. – Может, тоже монахом станешь! Не безпокойся за правило, я тебе все объясню!
Именно в Лавре, под благословением преподобного, под родной рукой старца и в присутствии его святой души я понял то, в чем серьезно ошибался. Святые люди всегда были, есть и будут, несмотря ни на какое коммунистическое или иное засилие. Приходилось встречать священников, соблазненных привилегиями и церковной карьерой, но были и такие светильники Божии, как отец Кирилл и множество подобных ему старцев, пронесших несокрушимую веру во Христа через все испытания и оказавших неизмеримую благодатную помощь множеству верующих. Эти удивительные люди воплотили в себе совершенное уподобление Христу.
– Хочешь познакомиться с удивительным старцем? – спросил меня как-то отец Пимен, когда мы сидели у него в келье.
– Конечно.
– Он бывший профессор, а теперь схииеромонах Моисей.
– А удобно просто так нагрянуть, отче?
– Удобно, удобно, он хороший, сам увидишь, – заверил друг.
Погода стояла еще довольно холодная. Отца Моисея мы застали в коридоре: ледяной водой из умывальника он мыл свои длинные белые волосы, стоя возле раковины в подряснике и засучив рукава.
– Отцы, проходите в келью, там у меня Алеша сидит… – и добавил. – Карамазов… – в голосе старца слышалась улыбка и большая доброта.
В келье мы увидели паломника лет тридцати, по виду бывшего военного, который взял благословение у отца Пимена. Старец вошел в комнату, небольшую, со скудной мебелью. В углу стоял аналой, лежали раскрытые книги, у старинных икон горели лампады. Я подошел под благословение:
– Что, из мира, молодой человек? – спросил отец Моисей.
– Из мира, батюшка, но стремится в Лавру! – ответил за меня мой друг.
– Поиски счастья в миру – это словно бежать за радугой, никогда не поймаешь! Ведь счастье не ждет тебя где-то, оно в тебе прямо сейчас и это – Христос! А как у вас дела с молитвой?
– Стараюсь… – смущаясь, ответил я.
– Если человек не молится, он начинает жить миром. Когда он живет миром, то и других тянет в него. С другой стороны, тот, кто живет молитвой, живет Богом, выходит из мира и другим указывает путь спасения. Так, отец Пимен?
– Так, батюшка, – улыбнулся иеродиакон, понимая намек старца.
– Корень спасения – глубокое убеждение в безполезности всяких мирских дел! Грустно не знать Христа, даже если знаешь весь мир…
Мы вышли из кельи отца Моисея, размышляя над его словами.
Несколько дней, которые я пробыл в Лавре, молясь у преподобного, были освещены тем благодатным внутренним огоньком, который согревал и утешал сердце и душу. С этим тихим и трепетным светом в сердце я вернулся самолетом в Душанбе и с восторгом поделился с родителями впечатлениями от встречи с отцом Кириллом:
– Он такой добрый, мудрый и очень хороший! К тому же он еще и духовник самого Патриарха! – похвастался я, поднимая статус своего старца в глазах родителей.
Отец и мать со счастливыми улыбками смотрели на меня, совершенно согласные с тем, что они услышали. Заочно они уже полюбили самого родного и любимого человека в нашей семье.
Монахиня из нашего храма поздравила меня с тем, что отец Кирилл взял меня в духовные чада:
– Он замечательный батюшка, я много слышала о нем хорошего! – говорила она мне. – А я бы тебе посоветовала все же съездить еще к одному старцу. Он великий подвижник и духовный светильник!
– Кто же это, матушка?
– Отец Николай, на острове Залита, под Псковом! Слыхал о нем?
– Нет, не слышал…
– Так поезжай к нему, советую!
Я задумался. Образ отца Кирилла уже вошел в мое сердце и оно не желало искать для себя никого другого.
– Как-то не тянет ехать, матушка… Мне мой батюшка очень понравился и я не могу уже ездить к другим духовникам, простите!
– Ну как хочешь… Тогда держись своего старца, он тоже хороший духовник!
Так я и не поехал на остров Залита, хотя впоследствии много знакомых ездило к этому известному духовнику. Моя душа уже поселилась у ног моего любимого духовного отца и не могла его оставить.
Задавшись целью исполнить послушание, которое мне благословил иеродиакон, я купил темно-серый простой костюм и черную рубашку, в которых мне было очень душно и жарко в летнем Душанбе. В таком виде я стоически ходил на службы в храм и вскоре это стало моей привычной одеждой. Молитвенное монашеское правило мне пришлось по душе и усвоилось на одном дыхании. С правилом приходила пусть небольшая, но ощутимая благодать, дающая силы жить и радоваться. Еще оставалась радость поэзии, которой я доверял свои сокровенные чувства и переживания. В газете продолжали появляться мои стихи, благодаря доброму отношению к моим стихотворным попыткам заведующей отделом поэзии. За время работы в сейсмологии мне удалось собрать большую библиотеку из популярной тогда серии «Библиотека всемирной литературы», а также все переводы таджико-персидской поэзии, в которых я нашел немало мудрых строк. Из своих стихов того периода, посвященных моим родителям, осталось в записях всего два стихотворения: одно – посвященное матери, а другое – нашему дому.
* * *
Занялся неспешно свет березовый
В милой роще шелковых волос.
Ты – моя единственная родина
С озером невыплаканных слез.
Дай же вечно любоваться зорями
Доброго и милого лица!
Навсегда я с тихими озерами
Глаз твоих, без края и конца…
* * *
Эту улицу, в сон погруженную,
Ярким солнцем завороженную,
Ни гроза, ни дожди, ни метелица,
Разбудить никогда не осмелятся.
Эту улицу с болью сердечною
Время выткало трелью скворечною,
Запечатала звездами ранними
За горами высокими, дальними.
Затуманило вишней нарядною
И лозой заплело виноградною,
Под сиренями спрятало росными,
Чтобы мы не нашли ее взрослыми.
В середине лета пришло письмо от иеродиакона. В нем он сообщал, что за участие в подготовке Православного Поместного Собора ему благословили отпуск и он приедет в Душанбе со спутником – поэтом, который взял благословение на эту поездку у отца Кирилла. Мы встретились с отцом Пименом в аэропорту и с сердечной теплотой обнялись. Он по-прежнему оставался самым близким моим товарищем. Поэт должен был приехать поездом. Иеродиакон начал разговор с того, что после утомительного послушания в Лавре ему хорошо было бы с молитвой пожить в уединенном месте в горах. Мы сошлись на том, что отправимся в ущелья хребта Хазрати-Шох, который понравился схимнику, и побываем на том месте, где вся их компания сооружала келью.
Дождавшись поэта, которым оказался Алексей – чадо отца Моисея, мы выехали на попутных машинах в Куляб. Оттуда добрались до поселка Муминобад, расположенного в предгорьях долины. Дальше мы двинулись вверх горной тропой, по сторонам которой открывались изумительные виды на отроги хребта Хазрати-Шох, называемые Чиль-Духтарон. Это одно из удивительных горных нагромождений, которое довелось видеть. На огромную высоту уходили лабиринты каменных башен, столбов, куполов, арок и монолитных блоков, представляющих собой горные останцы – неразрушенные фрагменты твердой породы, протянувшиеся примерно на сто пятьдесят километров.
Нам хотелось напрямую подняться на сам хребет, чтобы срезать долгий кружной путь и добраться до уединенного укрытия, которое выбрал для себя кавказский монах. Увидев подходящую тропу, мы начали подъем. Поднявшись примерно на тысячу метров, нашли узкую скальную перемычку шириной не более двух ступеней и длиной метров тридцать. Она выходила на обширный зеленый луг в зарослях «лисьих хвостов». Там виднелась палатка пастухов и вился дымок. Не без робости мы с иеродиаконом, молясь друг за друга, перешли эту страшную перемычку, по бокам которой зияла бездна. Веревочной страховки, к сожалению, у нас не было. Потом в путь отправился наш спутник. На середине этого опасного перехода у него, видимо, закружилась голова. Он взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие – сердца наши замерли. Но поэт все же обрел равновесие и присоединился к нам на другой стороне. Стало ясно, что в горах ему несдобровать. Я как мог, успокаивал его, рассказывая различные случаи из горной жизни, которые имели благополучное или забавное окончание.
Мы подошли к палатке, представлявшей собой большой брезентовый тент. Под ним тлел очаг, над которым висел закопченный чайник. От овечьей отары, пасущейся вдали, к нам помчались разъяренные псы. Из палатки выскочил мальчик-пастух и, отогнав лающих собак, позвал нас внутрь. Там отдыхали два старика-таджика, а мальчик следил за огнем. Старики не знали ни слова по-русски, как и мальчик. Пришлось кое-как говорить мне и, после обмена новостями, беседа замолкла. Мальчик снял чайник с огня, старик что-то сказал ему. Тот выбежал из палатки и быстро вернулся. В руках он держал белые лепестки дикой розы, которые тут же бросил в кипяток. Затем старик разлил чай по пиалам и подал нам. Чай из лепестков был восхитительный; чтобы выразить свое восхищение, я сказал, поднимая пиалу, вспомнив своего друга-узбека из пустыни:«Хороший!» Старики тоже подняли пиалы и повторили: «Хороший!» С каждой пиалой мы поднимали восхитительный напиток и восклицали: «Хороший!», и нам согласно отвечали пастухи, держа в руках пиалы: «Хороший, хороший!» Расстались мы довольные друг другом. К тому же выяснилось, что это плато круто обрывается с трех сторон и остается только обратный путь через нашу перемычку. Чтобы не рисковать, мы проползли опасное место на четвереньках. В опасности первым я вспомнил своего любимого старца – сердце жаждало новой встречи с ним и еще больше – исповеди.
У добра никогда нет отказа, а у зла никогда нет пощады. Зло хочет жить только в тени добра, а тень добра – это люди, утратившие это добро. Милость Бога к нам открывается вначале как суровая десница Божия, не дающая нам обрести покой во зле. Затем эта милость открывается нам как рука любящего старца, выводящего нас из области зла. И если мы доверимся ей, то благодать Божия обнимает нас, как руки любимой матери, даруя нам святость и блаженство Небесных обителей, путь в которые нам любвеобильно открывают сострадание и любовь святого человека – духовного отца.








