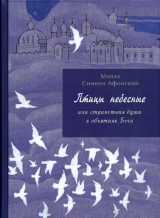
Текст книги "Птицы небесные. 1-2 части"
Автор книги: Монах Афонский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 65 страниц)
МОНАШЕСТВО
Не могу я, Боже мой, осветить себя мыслью моей, ибо она есть тьма и тьма есть разумение мое. Но благодать Твоя, коснувшись разумения моего, просвещает душу мою небесным светом, ибо Ты Сам для Себя – свет, а для тьмы моей – Ты мой светоносный Спаситель, дабы во свете Твоем я увидел для себя свет спасения.
Только постигший немощь свою истинно сострадает ближнему и любит Бога, а утвердившийся в гордыне никому сострадать не может, ибо горькая ненависть побуждает его видеть в каждом ближнем врага и соперника, а в Боге – противника для своей гордыни. Любые явления, во всем их многообразии, мимолетны. Но когда внимание останавливается на них, душа останавливается в своем развитии. На этом этапе может возникнуть угроза нравственного падения, если душа решительно не стряхнет с себя зачарованность внешними обстоятельствами, вступая в пожизненный подвиг отречения от мира в монашестве.
Некоторым шоком стало для меня знакомство с монастырской кухней. Еще свежо было в памяти удивление от того, что на кухне семинарии работало много студенток-регентш, от которых приходилось беречь свои глаза. И когда я перешел в монастырь, то с души словно свалился камень. Но, став послушником, в первые же дни мне пришлось как-то стоять с подносом в очереди за блюдами, которые нам следовало разносить в трапезной сидевшим монахам. Я не мог поверить своим глазам – в окошке раздачи все поварихи были те же самые девушки из семинарии. «Делать нечего, придется терпеть!» – внушал я себе, неся поднос с тарелками.
На исповеди я высказал свое недоумение старцу:
– Батюшка, мне в миру приходилось очень тяжело от блудных браней. Чтобы сохранить целомудрие, я спасался тем, что убегал в горы. А здесь, в монастыре, везде девушки перед глазами!
– Не бойся, Бог оградит тебя от браней! – ответил отец Кирилл, и в его голосе звучала уверенность, которая передалась и мне.
Поистине Бог оградил в монастыре не только меня, но и всех, с кем я принял постриг. Как будто с неба опустился дивный покров благодати и оградил душу, словно небесным куполом. В дальнейшем, сколько мне ни приходилось поневоле общаться с девушками в Лавре, таких тяжелых и невыносимых блудных браней, которым я подвергался в миру, у меня уже не было.
Так вот, о кухне… в то время на послушании заведующего кухней трудился многоопытный умудренный архимандрит и духовник, отец Тарасий, имевший большой дар любви к людям. Этот дар ярко проявился, когда он стал духовником в городской тюрьме и обратил к Богу много заблудших душ. Похоже, от работников продуктового склада он услышал, как непросто у меня пошли дела с монастырским питанием и мороженым хеком. Я начал замечать на столах трапезной миски со свежим винегретом из отварной свеклы, горошка, картофеля и моркови. Это блюдо мне пришлось по вкусу и, питаясь им, я с облегчением заметил, что судороги в ногах прекратились.
По своему послушанию, помогая в очередной раз переносить на кухню ящики с продуктами, волей-неволей мне пришлось познакомиться с поварихами. Они оказались хорошими целомудренными девушками, добрыми и приветливыми. Чтобы удержаться в семинарии, им пришлось устроиться на работу в монастыре, поскольку все рабочие места в семинарии были уже заняты. В беседе со мной они как-то обмолвились:
– А ты знаешь, отец, как много времени нужно для приготовления винегретов? И все это из-за тебя!
– Как из-за меня? – озадачился я.
– Да это же ради тебя наш архимандрит приказывает часто готовить винегрет, желая помочь тебе в твоей болезни! А чтобы ты не догадался, что это блюдо мы делаем ради тебя одного, он приказывает делать его на всю братию…
Можно представить, как я был удивлен благородством души этого замечательного человека, и то чувство исключительной благодарности, которую я испытывал к нему всю свою жизнь в Лавре. Спаси вас всех Господь, святые и праведные отцы Свято-Троицкой Сергиевой Лавры!
Главными событиями того периода являлись приезды в Лавру Святейшего Патриарха Пимена. Монах с юности, он был исключительно одаренной личностью государственного масштаба и мудро вел Православную Церковь по сложному пути ее охранения под коммунистическим игом. Когда я увидел впервые Патриарха, он уже мало говорил, больше молчал, а если произносил проповедь, то каждое его слово, продуманное и взвешенное, прерывалось долгим молчанием. Святейшего постоянно сопровождали два помощника – архидиаконы внушительной наружности, которые впоследствии были рукоположены в епископы. Патриарх любил говорить проповеди в Троицком храме, стоя на амвоне, рядом с мощами преподобного Сергия. Народ слушал эти проповеди, затаив дыхание.
Свое веское слово он обращал также к студентам-семинаристам и академикам, когда выступал в актовом зале семинарии. Помню его независимое и строгое отношение к любому угодничеству. Как-то на встрече с семинаристами, когда я еще учился в семинарии, Патриарх Пимен поднялся с кресла и встал на сцене, ничего не говоря, молча и внимательно вглядываясь в лица студентов. Наш класс посадили близко к сцене и поэтому нам были слышны все негромкие разговоры между сидевшими за столом гостями, преподавателями и ректором. Желая прекратить затянувшееся молчание Святейшего, к нему осторожно подошел его помощник, представительный архидиакон, и тихо стал подсказывать Патриарху на ухо слова речи: «Дорогие мои друзья – студенты и преподаватели…» Но тот спокойно повернулся к нему и громко сказал на весь зал: «Так может ты и скажешь?» Архидиакон, смутясь, отошел в тень за занавес. Однако, одно направление в Русской Православной Церкви неприятно коснулось и меня. Однажды всем семинаристам объявили по классам, что необходимо собраться в актовом зале на встречу с религиозной делегацией из разных стран, представляющей движение за мир во всем мире. Что-то во всем этом скрывалось неладное, потому что инспектора строго объявили: «Кто станет укрываться от этого мероприятия, будет наказан, вплоть до исключения!» По пути в актовый зал я решил зайти в туалет и там отсидеться, но у дверей комнаты уже стоял грозный инспектор.
На сцене актового зала, за длинным столом, мы увидели буддистов в оранжевых одеяниях и, кажется, американцев из какой-то свободной «церкви». Одна американка из их числа быстро ходила по рядам и раздавала студентам листки с текстом и говорила по-английски: «Сейчас все вместе будем молиться по этим молитвам!» На листке я прочитал нечто вроде: «Да исполнится миссия Израиля, миссия Америки, миссия Италии…» и тому подобное. Наклонившись к соседу, я прошептал: «Да ну их, с их молитвами! Я не могу молиться по этим листкам!» Семинарист согласно кивнул головой. За столом поднялся человек, говоривший по-русски с сильным акцентом, и сказал, что сейчас вслед за ним все должны повторять слова молитв из записок, которые нам были розданы. Зал начал хором повторять слова молитв вслед за оратором, но многие семинаристы сидели молча. Я опустил голову и молчал, решив, что больше в эти игры я играть не буду. Сидевшие среди нас преподаватели строгим шепотом уговаривали студентов: «Молитесь! Молитесь!» Ощущение на душе от этих «молитв» было очень тягостное. Полагаю, что большинство студентов и преподавателей молилось без всякой задней мысли, считая, что все это действие – пустое празднословие.
Вечером я пришел к своему духовнику:
– Батюшка, что делать? Загнали всех нас на дурацкие молитвы с буддистами и сектантами и угрожали, что исключат всякого, кто будет уклоняться от чтения молитв…
– Ты не ходи больше на подобные собрания!
– А если исключат?
– Пусть исключают… Православие – это наша жизнь, в которой нет компромиссов с диаволом!
Эта беседа явилась для меня настоящим уроком хранения Православия и укрепила в необходимости не уклоняться от него ни на волос, даже ценой каких-либо неприятных последствий. Подтверждение этому я нашел впоследствии в первых машинописных книгах отца Софрония (Сахарова), ходивших по рукам братии.
Итогом экуменических встреч явилась стелла, водруженная японскими буддистами в сквере неподалеку от храма Пресвятой Богородицы. Воспылав ревностью хранения православной веры, вместе с преданным моим другом той поры, отцом Прохором, мы решили ночью выкопать этот каменный языческий символ и разбить. Приятной неожиданностью для нас явилось то, что когда ночью мы забрались в сквер с лопатами, то не обнаружили этой стеллы – кто-то до нас уже выкопал ее и унес. Нам оставалось от всего сердца порадоваться за тех решительных парней, которые сделали это, опередив нашу попытку.
Несмотря на политические веяния того периода, семинарская жизнь стала для меня благословенным временем дисциплинированна душевных устремлений, порой благодатного посева необходимых знаний и основ Православия. Учебу в семинарии можно сравнить с периодом новоначального послушника в монастыре, когда душа приобретает необходимый фундамент монашеской духовной жизни в начальном этапе стяжания смирения и благодати.
В семинарии мне все стало родным: и семинарский храм Покрова Пресвятой Богородицы, и преподаватели, с их тихими ровными голосами, чтение молитв в классах перед началом занятий, сами классы, с лампадами и иконами в углу, и, конечно же, семинаристы – большей частью самые лучшие юноши, которых мне довелось встретить за всю свою жизнь.
Когда я стоял в храме на службах среди множества молящихся студентов, сердце мое наполнялось тихим счастьем, ощущая причастность к большой и прекрасной семье – духовных чад преподобного Сергия. Особенно мне нравился обычай при пении «Честнейшей» опускаться на колени, как делали многие семинаристы, и, положив горячий лоб на свои ладони, лежащие на прохладном полу, сладко молиться Пресвятой Богородице. Однажды в этой семинарской церкви мне неожиданно довелось увидеть глазами и ощутить всей душой, как Святой Дух сгущается, уплотняется и, словно текучая благодатная сущность, входит в потир, стоящий на престоле. Это переживание стало сопровождать каждую литургию.
На исповеди я, волнуясь, рассказал батюшке об этом видении.
– Ты, вот что, не увлекайся этим… Пусть тебе было дано познать действие благодати, но ты лучше не принимай такие видения и не отвергай. Считай себя недостойным их – и будешь в безопасности.
Слово отца Кирилла было для меня законом. После этой беседы видения прекратились, хотя осталось небольшое сожаление, что литургии стали как прежде, без подобных откровений.
Семинарская и академическая библиотека вселяла в меня благоговение. Там я впервые взял в руки старинные православные книги, в красивых переплетах, со старым правописанием. Несмотря на желание сразу взяться за тексты святых отцов, отец Кирилл определил для меня круг чтения. Сначала я несколько раз перечитал авву Дорофея, святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, после чего старец разрешил мне прочитать все «Добротолюбие», без пятого тома.
– Батюшка, а почему мне не благословляете сразу прочитать пятый том?
– Чтобы ты не заболел умственным поносом! – улыбался старец.
– А что это такое?
– Это когда книги глотают одну за другой, а в сердце ничего не остается…
Пятый том он благословил прочитать тогда, когда меня рукоположили в иеромонаха. Труды преподобного Исаака Сирина стали моей настольной книгой, вместе с «Лествицей» преподобного Иоанна Лествичника, которого я перечитывал безконечно. Но глубоко понять суть творений светильников Церкви у меня не было ни возможности, ни времени; на чтение оставалась лишь часть ночи и немного свободного времени в воскресные дни. Поэтому серьезное изучение святоотеческого наследия пришлось отложить до лучшей поры. Лишь в горах у меня оказалось достаточно возможностей, чтобы не спеша, вдумчиво, и как бы заново открыть для себя драгоценную суть их боговдохновенных творений. Только потом пришли ко мне удивительные книги святителей Григория Богослова, Василия Великого, преподобных Макария Египетского, Симеона Нового Богослова, Кассиана Римлянина.
Каждая книга становилась открытием. Перебирая в памяти периоды любви к определенным авторам этих священных текстов, я замечал, как Господь, по мере готовности души воспринять смысл мудрых изречений, наполненных Святым Духом, открывал ей одного автора за другим. Если откровения преподобного Силуана Афонского помогли утвердиться в монашеской жизни еще в Лавре, то книги старца Софрония помогли мне очистить сердце от многих надуманных суждений и представлений, скрыто таившихся в глубинах души и мешавших ей возрастать духовно. Уже на Афоне, о котором я не мог тогда даже мечтать, произошло знакомство сначала с местом упокоения малоизвестного тогда старца Иосифа Исихаста, а затем с первыми переводами его трактатов. После чего Господь привел нас в келью его выдающегося ученика – старца Ефрема Катунакского, братство которого помогло нам стать на ноги в начале нашей афонской жизни – на благословенной Каруле.
В постоянной суете послушаний, словно глас небес, прозвучал голос духовника: «Готовься к постригу в монашество!» Еще прежде поступления в семинарию, отец Кирилл дал мне монашеское правило и наставление: «Стань истинным монахом прежде монашеского пострига, потому что после пострига уже поздно становится монахом!» Я старался искренно исполнять все заповеданное мне духовным отцом, хотя не все и не всегда получалось. И вот, наступило время настоящей монашеской школы – стать подобным простому булыжнику на берегу моря, у которого нет острых граней, потому что вода стерла их полностью. Таким должно быть сердце монаха, обкатанное безпрерывными волнами искушений, как передали нам святые отцы.
Меня и еще одного послушника, крупного парня, осторожного и молчаливого, присланного каким-то московским Владыкой, определили на постриг. Пострижение послушников, с которыми я жил в одной общей келье, назначили на другой день. Сам чин пострижения произошел так, словно я попал в какое-то иное, неземное измерение, через которое все слова и монашеское молитвенное пение слышались как будто издалека, а то, что видели глаза, словно происходило в каком-то золотистом тумане, озаренном огоньками свечей.
Нас одели в длинные белые рубахи, и мы поползли по узкому коридору, который образовали монахи, закрывшие нас с двух сторон своими черными мантиями. Я полз вторым и постоянно упирался головой в ноги ползущего впереди медлительного послушника. Народ, собравшийся в храме, пытался заглянуть через головы монахов, старательно закрывавших нас от любопытных паломников. Затем дружеские руки подхватили и подняли нас. Перед нами стоял новый наместник, архимандрит Феофан, незнакомый мне и сменивший прежнего, ставшего епископом, и духовник Лавры – милый моему сердцу отец Кирилл.
Как постригали стоящего рядом послушника, я не видел: сердце колотилось, в горле постоянно пересыхало, ноги дрожали. Наконец, подошла моя очередь. Помню, я должен был три раза взять ножницы с Евангелия и отдать наместнику, помню, как должен быть ответить, согласен ли я добровольно стать монахом. Затем с моей головы крестообразно состригли волосы, и множество заботливых рук стали одевать меня в монашеские одежды. Помню, что я отчетливо услышал свое новое монашеское имя «Симон» и удивился, почему именно это? Но затем полюбил его так, что совершенно забыл свое мирское имя.
Пришел я в себя уже после того, как увидел, что полностью одет и стою в мантии, в клобуке, который сползал мне на глаза, с четками в одной руке, а в другой – с крестом и свечой. Наместник прочитал молитву и вручил нас в духовное окормление отцу Кириллу, который сказал нам краткое наставление и тепло поздравил новопостриженных. После этого братия начала подходить к нам на братское целование и каждый спрашивал: «Что ти есть имя, отче?» На что нужно было четко называть свое монашеское имя. С новыми именами иногда происходила забавная путаница. Рассказывали, что не все новопостриженные монахи от волнения могли сразу запомнить свое имя. Помню, что мой друг по свечному ящику, когда у него спросили его имя, ответил – «Керосин», в правильном звучании – Кенсорин. Другой монах искренно отвечал от волнения: «Скорпион!», его назвали в постриге Сарапионом. В нашем постриге таких казусов не произошло, потому что имена были простые и ясно выговариваемые.
Затем, с пением и свечами, братия проводила нас на вечернюю трапезу, после чего нас оставили на ночь в алтаре главного храма, чтобы мы в бдении провели всю ночь. Мы уселись на скамьи в алтаре и взялись за четки. Все в душе моей было переполнено такой благодатью, что я плохо соображал, что со мной происходит. Больше всего запомнилось, что твердый клобук постоянно съезжал на глаза и резал уши. Ни тела, ни самого себя я не чувствовал, буквально плавая в преизбытке благодати, которая, казалось, струилась безпрерывно и нескончаемо с купола храма.
Утром, вместе с братией, мы присутствовали на молебне преподобному Сергию, а затем с зажженными свечами отстояли на амвоне литургию, во время которой нас причастили. На обеденную трапезу нас, с пением и свечами, монахи повели через Лаврскую площадь. Народ бежал за нашим шествием, с любопытством рассматривая и фотографируя новопостриженных монахов. В трапезной мы сидели перед лицом наместника и старцев с внешней стороны стола. Есть перед ними было неудобно, поэтому я съел только хлеб и выпил чай. После чего мы в алтаре молились до вечернего богослужения, в течение которого вновь стояли на амвоне, держа в руках зажженные свечи. Так продолжалось трое суток. Периодически в храме нас навещали монахи, приходил и отец Кирилл, чтобы подбодрить нас утешительным словом и добрым наставлением. Навещал меня и мой друг, отец Пимен, вместе с отцом Прохором. Довольные нашим постригом, они улыбались и поздравляли нас, желая благодатного монашества. После окончания трехдневного укрепления в монашестве нам дали отдохнуть один день. Затем вновь потянулась череда ежедневных послушаний – «свечной ящик», уборка снега, посещение богослужений, на которых мы читали помянники – большие книги с многочисленными записями о здравии и упокоении, и толстые пачки поминальных записок, поданных богомольцами.
Помню громогласное и впечатляющее воскресное пение на клиросе, которым управлял знаменитый тогда регент, архимандрит отец Матфей. Монахи и благочестивые миряне стояли внизу, под возвышающимся над ними клиросом, заполненном певчими, среди которых выделялась внушительная фигура архимандрита. Мы, молясь, молча читали толстые пачки записок. Время от времени отец Матфей сверху наклонялся к нам и страшным шепотом грозил: «Перестаньте сейчас же шелестеть, из-за вас ничего не слышно!» Глядя на красные от напряжения лица поющих певчих, мы не могли понять, о чем он говорит.
Меня часто благословляли читать полунощницу. В полутьме древнего Троицкого храма, озаренного лишь лампадами и свечами, трепетавшими золотыми огоньками на большом подсвечнике, было очень уютно и благодатно. Голос мой дрожал, я боялся сбиться или допустить ошибку в тексте, но, слава Богу, все обходилось, оставляя в душе чувство благодатного умиления на весь день. Опытный монах, помощник благочинного Мефодий, ныне уважаемый епископ, подбодрил меня:
– Нормально читаешь, Симон. Только не волнуйся!
– А что, чувствуется?
– Есть немного… – улыбнулся монах.
Благодаря такой дружеской поддержке сердце стало ощущать себя в кругу родных и близких людей.
Ко всему прочему из всех послушаний добавилось еще одно, которое меня полностью выбило из монашеского распорядка и учебы в семинарии. Неожиданно отца Пимена назначили экономом Лавры, а прежний эконом получил назначение восстанавливать Оптину пустынь.
– Не согласишься ли помочь мне в моем послушании? – спросил меня как-то новый эконом.
– А что я должен делать?
– Дела твои будут небольшие, но ответственные. Лавре разрешено начать восстановление старых заброшенных корпусов и я не успеваю за всем следить. Возьми на себя контроль за строительными работами, для меня это будет большой помощью… – растолковал мне отец Пимен.
– Хорошо, благослови, отче! – пришлось ответить мне, утешая себя тем, что всегда приятно помочь другу.
Но я не представлял тогда себе, во что невольно ввязался: «беготня», как называли это послушание монахи. С раннего утра до обеда – безпрерывная толчея среди рабочих и машин, подвозящих стройматериалы. До глубокого вечера – решение проблем и нестыковок на строительных площадках. А в конце рабочего дня, вместе с экономом, – осмотр произведенных работ и составление рабочих планов на следующий день. Иной раз эти «планерки», как тогда это называлось, затягивались до позднего вечера. Еще нужно было уделить время монашескому правилу и личной молитве. Бывало, что днем мы не успевали попасть на чтение монашеского правила у отца Кирилла и тогда его читали вместе в келье эконома.
К нам часто присоединялись наши близкие друзья – загруженный лекциями и преподавательской деятельностью в Духовной академии отец Анастасий и отец Прохор, также обремененный различными монастырскими послушаниями. Порой монашеское правило приходилось читать поздним вечером. От сильной усталости мы опускались на колени и по очереди читали каноны. Запомнилось, что однажды, когда подошла моя очередь читать кафизмы, я заметил, что не понимаю, что читаю. Смысл текста совсем не доходил до меня и это было последнее, что осталось в памяти. Я заснул, стоя на коленях, с книгой в руках.
Когда я пришел в себя, то заметил, что стояла полная тишина. Псалтирь лежала на полу, а моя голова покоилась на Псалтири. Приподняв голову, я осмотрелся: на часах был третий час ночи, а мои друзья спали на полу на коленях, положив голову на скрещенные ладони. Я заметил, что отец Прохор пошевелился.
– Отец, – прошептал я, – ты не спишь?
– Нет… – шепотом ответил он.
– А почему же ты нас не разбудил? – удивленно спросил я у него.
– Вижу, что вы все спите, поэтому я решил вас не будить…
– Отцы, уже скоро утро! Простите, что бужу вас!
Они приподнялись, не понимая, что происходит. Я рассказал им, вызвав улыбки на лицах, о деликатности отца Прохора. Затем дочитал кафизму и мы, распрощавшись, покинули келью эконома. Я шел под качающимся светом фонарей, облепленных летящим снегом, и благодарил Бога за этих хороших добрых монахов, с которыми Господь сподобил меня дружить, хранить веру и укрепляться в молитве.
Господи, горстка малых Твоих сынов света, любящих святое имя Твое, сильнее безчисленных армад сынов тьмы, упивающихся одуряющим напитком земных познаний. Причисли и меня к сынам немеркнующего света Твоего, к тем, кто не желает питаться отбросами мирского знания, но утоли мой духовный голод крупицами Божественной благодати, падающими из пречистых рук Твоих, когда Ты насыщаешь в нетленном и лучезарном Царстве Твоем верных сынов Своих, которые не от мира сего!








