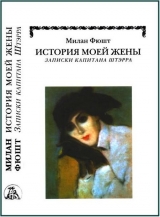
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
Однокашник мой был очень раздосадован.
– Ведь я же писал им, что приеду, да не один, а с гостем, – тупо уставился он перед собой. – Ну ладно, обожди! – глаза его блеснули.
К наступлению сумерек он взломал кладовую. Понятное дело, я тоже помогал ему. Усердствовали оба, посмеиваясь. Натопили комнату, стол накрыли – загляденье, скатерть белого дамаста сверкала, что твое ледовое поле: закусок натащили и пир закатили чин чином: красноватые и темные колбасы-окорока образовали дивный натюрморт. Но затем так хорошо начавшийся праздник был испорчен. Отчасти потому, что мы взломали и шкаф – приятелю вздумалось раздобыть денег. Это воспоминание не из приятных. Ну а уж другое – еще хуже. Мы подогревали на огне спиртное, и тут в комнату вошла молоденькая девчонка… А потом она расплакалась. Ее никак нельзя было унять, она все плакала и плакала.
Незачем объяснять – хуже нет, чем иметь дело с подростками, ума ни на грош, до человека не доросли пока что – так, козявки какие-то. Мы не придали этому делу значения, вот только наутро нам почему-то не хотелось смотреть в глаза друг другу. Приятель мой оставил на конторке матери визитную карточку со словами, дескать, мол, благодарим за гостеприимство, с чем мы и отбыли.
Но в эту ночь плач девчушки так и не выходил у меня из головы. Он преследовал меня непрестанно, я никак не мог от него избавиться, словно он был послан мне в наказание, что ли. И сердце колотилось в точности, как тогда.
Ведь сейчас я так же терзался из-за судна.
Ну что я за человек за такой – никудышный, никчемный и гнусный!.. Словно несешь в себе порчу и заведомо известно, что до добра она тебя не доведет.
«Что я наделал с этим красавцем кораблем? – мучился я угрызениями совести всю ночь. – Зачем только мне его доверили?» Повторяй, корабль и правда был как картинка, вычищенный-вылизанный, ухоженный весь, в порту приписки, когда нам его передавали, старший чиновник особо предупредил, что о любом, даже самом незначительном дефекте, будь то хоть малейшая царапина на полировке, беспременно докладывать надобно, а тут трещат в огне и краска, и полировка, и роскошная обшивка.
«Да-а, Кодор, и ты на мне погорел!» – подумал я, имея в виду человека, который, на свою голову, порекомендовал меня пароходной компании.
Корабль был окутан удушливым смрадом – вроде как когда обжигают свежеокрашенную деревянную посуду, детские игрушки, либо рождественские шкатулки – сладковато-приторная вонь, от которой с души воротит. Мне и по сей день дурно делается, стоит только где-нибудь увидеть эту деревянную утварь. Ничего не поделаешь, так уж мы приучены жизнью: к кораблю своему привязываешься. Даже понятия о целости-сохранности и те у нас другие; ежели чашка какая разобьется или ключ потеряется, для нас жалость какая. Ну а уж такое ценное судно загубить – с ума спятить можно, сердце разрывается.
«Выходит, жизни пассажиров вы ни во что не ставите?» – поинтересовался у меня кто-то после этого случая. Как это «ни во что не ставим», нам и собственная жизнь дорога. К половине третьего утра я велел объявить тревогу. Только что уж тут греха таить, опять я допустил промашку – поздно спохватился. Отчего, почему – Бог весть, то ли впал в оцепенение, то ли еще какая дурь накатила… Должно быть, полвторого было, когда первый помощник вытянулся передо мной по стойке «смирно».
– Не дать ли по радио сигнал бедствия, капитан?
Я глянул на барометр, потом на небо.
– Обождем, пожалуй, смотрите, дождь висит.
– Можем ведь опоздать… палуба прогорит…
Он счел за лучшее оборвать фразу.
– Не прогорит! – отмахнулся я. – К тому же ответственность за корабль несет капитан, а не офицеры.
Он отошел, но через полчаса вновь подступил ко мне.
– Прикажете распорядиться?
– Нет.
Конечно, и мне следовало бы объяснить причину промедления. Но как? Не надо забывать, что с младых ногтей нам внушали понятие о чести мундира, на чем, собственно, и строилась система ответственности и самолюбия… да-да, я понимаю, все это сущее безумие. Разумеется, офицер был прав, и тем не менее… Сам справлюсь, без чужих подсказок – такого рода упрямство сидит в каждом человеке. А тут аккурат мы стали подбираться к источнику возгорания. Я находился там и видел собственными глазами: где-то впереди, в глубине трюма замерцал слабый, едва уловимый отблеск, мирный и неопасный, точно пламя свечи – кто бы мог подумать, что в этом корень беды?
«Ну и слава тебе, Господи!» – взмолился я про себя – как есть отъявленный безумец.
Судите сами: небо заволокло тучами, и ветер не особо старается, да и барометр упал… А я готов был жизнь свою прозакладывать, что будет дождь. Вот-вот, сей момент, еще малость обождите, и дождь польет – цеплялся за одну надежду, и тут ты хоть что со мной делай.
Должен заметить, есть во мне некая странная особенность: не способен я по-настоящему верить в опасность, в роковую беду, которая и до погибели довести может.
А на сей раз до погибели было рукой подать. В полтретьего утра палуба и впрямь прогорела, и корабль занялся ясным пламенем. Вы только представьте себе небольшое суденышко, объятое огнем, которое знай себе мчит в ночном мраке этаким летучим факелом. И механизмы работают бесперебойно, словно сердце не чующего свою погибель человека. Превосходный корабль, безупречно построенный, великолепно оснащенный, он до конца служил верой и правдою, и я был близок к слезам, так бы и набросился на прожорливое пламя с кулаками, бился, сражался с ним насмерть.
– Теперь свисти не свисти – один черт, – сказал кому-то из матросов старший помощник, но так, чтобы и я слышал. Это было после того, как я подал целую серию радиосигналов и велел запустить сирену.
И ведь не от какой-то там непочтительности офицер этот так выразился, просто трясло его от бессильной ярости, вот и повел он себя так, будто спьяну. Сам я почти не ощущал усталости, а было бы с чего: ведь колотило словно в буйном припадке трое суток не переставая… Я же, повторяю, тогда пребывал в полном бесчувствии. Только глаза болели да в горле першило от дыма, вот я и спасался водой с лимоном у себя в каюте, где погрузился в бессмысленные расчеты, из коих выходило, что, будь у меня часа четыре или хотя бы три, я бы успел довести в целости судно до гавани, как это было с «Джудиттой» под Триестом.
До Александрии всего каких-нибудь шесть десятков миль, – сокрушался я, должны же проходить здесь хоть какие-то суда. Но нет, как назло, никаких судов в помине. Под вечер в одном направлении с нами промчалось какое-то чешское судно, да с тем и пропало. Берег перед нами пустынный, голый, ни тебе островка какого, ни наблюдательной станции, ну ничего, никакой спасительной зацепочки.
Тогда-то я и поклялся Пресвятой Деве, что с таким утлым суденышком больше отродясь связываться не стану – конечно, ежели вообще уцелеем. Не по мне она, эта хрупкая роскошь. Отчего, почему – тут уж и гадать нечего, не для меня эта затея, и все. Останусь на прежней своей службе, что бы супружница моя ни говорила.
К жене своей я тоже, кроме ненависти, в тот момент ничего не испытывал…
В три часа пополуночи Дон Попе, болезненной наружности испанец, застрелился у себя в каюте. К счастью, кроме меня никто не прознал об этом. Дон Хулио, младший его братец, этакий типичный паразит, заявился ко мне с требованием, чтобы я подтвердил: он, Хулио, на правах единственного родственника может присвоить себе по закону весь скарб своего покойного брата. Что я и подтвердил.
И тут дали себя знать первые опасные порывы ветра. Что теперь, спрашивается, делать – приказать застопорить машины, когда единственное наше спасение – скорость хода? Я спустился в один из салонов, чтобы подготовить людей к аварийной высадке. Но какое там! Меня чуть не разорвали на куски.
– Что это за пароход за такой? Да и капитан хорош! – раздавались со всех сторон выкрики. – Почему вы не подали сигнал бедствия? – подскочил ко мне высоченный молодой человек с безумным взглядом. Под мышкой он сжимал, точно узелок с вещами, прильнувшую к нему бледную, маленькую женщину, скорее похожую на ребенка. – Мы хоть подохни, а вам и горя мало?! – выкрикивал он дрожащими губами.
Пришлось вытащить револьвер, а в таких случаях это скверное дело.
Пассажиры враз смолкли, застыли, готовые наброситься, точно волки. Но я успел воспользоваться этим кратким моментом. Швырнул револьвер в сторону и закатил речугу:
– Люди! Руку мне прищемило крышкой люка, я истекаю кровью. Мундир на мне прожжен, на теле ожоги до мяса. Так что видите, я, себя не щадя, делаю свое дело. И от вас требую того же! – надрывался я. Крикуны притихли. – Если вы поддадитесь панике, – продолжил я, – меня вы тоже выбьете из колеи, а это означает конец для всех нас. Вдумайтесь сами, ведь без меня шагу не ступить. Зато если вы проявите выдержку, обещаю вам – лопну-тресну, а спасу вас всех до единого…
Взгляните на меня! Похож я на человека, который не способен сдержать свое слово? – и травлю дальше в таком же духе. Стыдно вспомнить, какую чушь я тогда городил, зато действие оказалось поразительным. Настроение перешло в другую крайность. Видно было, что люди раскаиваются в содеянном и всячески стараются расположить меня к себе. Кто-то протянул мне брошенный мною револьвер, точно сердце свое протягивая на ладони. Подобные сцены тоже долго не выдержать.
Вообразите, к примеру, навалилось на меня какое-то армянское семейство с выражением своих пылких симпатий: и ну обнимать, прогорелую одежду мою руками гладить, да трещать по-своему слова какие-то умилительные. Толку-то чуть, ведь по-французски они ни бельмеса, впятером язык коверкают, что-то сказать пытаются, а все одно ничего не поймешь. Страсть, да и только! Тут священник ихний воздел свой крест, осенил меня с воплями да причитаниями – устроил наспех в углу нечто вроде богослужения. Сутолока от этого меньше не стала.
Только я решил было оставить несчастных предаваться молитвам, а самому исчезнуть под шумок, как вдруг вцепилась в меня некая молоденькая мисс и не дает за дверь выйти.
– Обожаю вас! Неужто вы не видите, что я от вас без ума? – лепетала она, подкрепляя свои слова странными, завлекательными улыбками, а сама все жалась ко мне, норовила повиснуть на шее. Чудо как хороша была малышка.
– Неужели вы не заметили, что я всю дорогу не свожу с вас глаз? – вскричала она. – О, не уходите, не уходите! – пыталась она удержать меня изо всех сил. – И без того уже все равно! Право же, все равно, – объясняла она окружающим. – А для меня он – идеал.
Бедняжка явно повредилась рассудком. А родители девушки, два старика, с бессмысленной улыбкой выслушивали ее безумные речи, словно одобряя их. И в глазах их отражалась мучительная мольба: свершись, мол, что угодно, лишь бы я спас их дитя.
С трудом мне удалось как-то выпутаться. Я гладил девушку по голове… И тут вынужден кое в чем признаться. Есть в человеке какие-то мутные токи, в которых ничего не стоит заблудиться и потонуть. Ведь среди этой ужасной, безумной сцены мне вдруг ударило в голову, что недурно, ах, как недурно бы целоваться с этой прелестной девушкой. И мигом кровь закипела в жилах.
Из всего этого напрашивается один вывод: в каждом человеке гнездится безумие. Его обиталище – в потаенных глубинах души…
Я приказал спилить фок-мачту, чтобы не рухнула, и сделал прочие распоряжения, понимая, к чему идет дело. Судно устало скрипело, гребной вал отзывался зловещим скрежетом. Одного матроса из команды, который хотел броситься за борт, мне вовремя удалось удержать.
– Чуть погодя стравите пар, чтобы предотвратить взрыв, – отдал я последний приказ, с чем и удалился к себе в каюту и запер дверь.
То, что сотворил над собою Дон Попе, оно и мне под силу. Дай только, фонари снаружи погаснут. Ответственность, безответственность… пусть их делают, что хотят. Да и первый помощник – человек умный.
При этом я ведь даже в тоску не впал. Знай твердил про себя: все, хватит с меня. Человек никудышный, никчемный, чего ради мне дальше мучиться? Довольно, хватит!
Слыханное ли дело – побросать все и вся на произвол судьбы, пусть даже жизнь тебе обрыдла и ненавистна! Я и по сей день с ужасом вспоминаю об этой минуте. Только ведь не стоит забывать, что я был сломлен и жаждал скорейшей смерти, как глотка заветной влаги.
И вот ведь еще странность какая: о жене даже и мыслей не возникало. Во всяком случае, ей бы не удержать меня от рокового шага.
– Она ведь все равно не любит меня, – отогнал я эту мысль как последнее препятствие. Причина тому была проще простого: семейная жизнь вновь покатилась под откос, были тому явные свидетельства, и сносить все эти странности стало мне не под силу. Надоело!..
Первым делом я хорошенько заткнул уши ватой, чтобы отгородиться от внешнего шума: топот, грохот, звук падения тяжелых тел, рев сирены – будто бы мир вокруг рушился. А мне хотелось малость спокойствия, чтобы с мыслями собраться.
Какой же чушью несусветной все казалось – и не передать: жизнь, все старания, усилия. Словно пелена спала у меня с глаз. К чему была вся эта изнурительная докука? Стой я вместо этого обочь дороги, посвистывая, и добился бы того же самого. И готов был оставить сей бренный мир, не испытывая ни малейшей боли или сожаления.
У меня еще достало выдержки помыть холодной водой голову и шею. Спросите, зачем я это сделал? По-моему, ничего удивительного. Уж, конечно, не в угоду постороннему миру. Довелось мне однажды наблюдать одинокого старика, страстотерпца, сорвавшегося с цепи, с горящим взором – он тоже решил покончить счеты с жизнью и ждал лишь того момента, когда его больное дитя в соседней комнате отдаст Богу душу. Так вот этот старик напоследок съел два яйца всмятку. Почему, спрашивается? Да потому, что хотелось есть. Потому что жизнь берет свое, покуда теплится. То бишь до последнего мгновенья.
Мое мытье холодной водой, очевидно, из такого рода явлений.
Меж тем снаружи послышались грохочущие удары – один за другим, затем – возгласы, крики, но я даже не выглянул из каюты.
О случайностях моряку известно больше, чем кому бы то ни было другому: ведь вся наша жизнь состоит из случайностей. Вот и сейчас… Сперва мы угодили в шторм – собственно, потому я и уединился у себя в каюте: шторм означал печать на нашем смертном приговоре. Погибель, конец.
Порывы ветра были мощными, а волнение, движение вод и еще того пуще: в такие моменты кажется, словно бы некие необоримые силы выворачивают море наизнанку. Где-то к северо-востоку, востоку от нас вспыхивали молнии и лило с небес, а над нами – как назло, ни капельки. При этом ветер гнал тучи в нашу сторону, но над нами они ни на миг не задерживались, их тотчас уносило прочь. Стрелка барометра опускалась все ниже, а дождя нет как нет – все по той же причине, из-за бешеной скорости ветра. Тем временем развиднелось, но и это мне было без разницы. Я даже иллюминатор в каюте закрыл занавеской.
И вот сижу я в полутьме, сигаретой изредка попыхиваю, и вдруг этакое благостное спокойствие снизошло на меня, сроду ничего подобного испытать не доводилось. Легкость, просветление, можно сказать, небесное, горечь вся словно улетучилась. Тяжести тела не ощущаешь, мысли бродят раскрепощенные, чувства бесплотные…
«Неужто это и есть смерть? – мелькнула в голове мысль. Но в то же время и снаружи вроде бы изменилось что-то, похоже, вокруг нечто происходит. – К чему бы эта тишина внезапная?» – стал я прислушиваться.
Никак ветер стих?! – вскочил я на ноги. Но в этот момент раздался и стук в дверь.
– Накрапывает дождь, – слышится шутливо-радостный голос, и добрый вестник уходит. – Вот-вот польет! – доносится чуть поодаль.
А я все стою, не в силах сдвинуться с места, – настолько потрясли меня эти слова. Славные парни! Я не задумываясь оставил их, но они не покинули меня. А уж до чего мерзко вел я себя ночью – злился, бесновался… Но вот ведь достаточно оказалось благого знака небес, чтобы все дурное оказалось забыто.
Ветер изменил направление, а шторм внезапно перерос в ураган. На нас враз обрушились громовые раскаты и ливень: мы угодили в спасительную грозовую зону. Молнии огненными стрелами вонзались в водяную толщу вокруг судна, окутавшегося дымкой пара.
К тому времени я уже успел выбраться наружу. Бродил, подобно выздоравливающему после тяжкой хвори, однако радости отнюдь не испытывал. Кутался в плащ, пытаясь унять дрожь во всем теле, но счастья от рождения заново не чувствовал.
Да, чтобы не забыть: на миг столкнулся я с малышкой мисс. Она вполне пришла в себя, оправилась от пережитого ужаса и даже не стыдилась своего поведения.
– Ах, капитан! – щебетала она. – Ах, капитан!.. – Правда, в глазах ее блеснули слезы, а щечки слегка зарумянились.
Я погладил ее по щеке – прелесть, глаз не оторвать, вынужден подтвердить еще раз.
Минуло полтора суток, и мы доплелись до Александрии…
– Fare and water bad masters! Огонь да вода – плохие советчики! – сказал мне на другой день старший помощник. Голос его звучал подобострастно, словно бы офицер стремился сгладить какую-то неловкость.
– И даже премиальные никому платить не пришлось, – с улыбкой заметил я, когда мы вместе осматривали судно. От палубы, правда, по-прежнему поднимался пар, но мы неустанно поливали ее водой, чтобы сбавить жар.
В ту самую пору жена моя влюбилась в юношу из благородных по имени Поль де Греви; он якобы состоял в родстве с прославленным в истории семейством Латур де Пин. В светских кругах молодого человека для краткости звали Дэден. Так же называла его и моя жена, а уж что она прониклась к нему самыми нежными чувствами, я сразу заметил.
Вы спросите, с чего бы, мол? А вот с чего! Вся она сделалась словно кипятком ошпаренная – жаркая и мягкая. И хотя на Дэдена вроде бы и не смотрела, но я-то чувствовал, как от нее к молодому человеку непрерывно струятся токи блаженного единения и неразрывной связи. А в каких выражениях она представила его мне?
– Это мой самый дорогой друг… конечно, после вас, – добавила сразу же. Зачем, спрашивается? А главное, с чего бы ей вздумалось быть настолько откровенной?
Не обольщайтесь! Откровенность была рассчитана на то, чтобы успокоить меня: если, мол, высказать все, как на духу, кто заподозрит дурное! Но я-то заподозрил. По мне, говори она что угодно, а любовью женщины бывают осиянны, как славой.
М-да, это вам не мелкая интрижка вроде как тогда с Ридольфи, тут дело посерьезней – сразу чувствовалось.
«Значит, она увязла всерьез, – думалось мне. – Ладно, поглядим, что дальше будет. Присмотрим вполглаза и не теряя спокойствия. Ведь юнец-то пока не производит впечатление влюбленного по уши».
Дэден скорее производил впечатление вполне уверенного в себе молодого человека. Влажноватые усы, сладострастный рот и такое скучающее выражение лица, чтоб мы даже и не надеялись: он никоим образом не намерен развлекать нас. А теперь рассмотрим его одежду: пальто дорогое, мягкое, но небрежно наброшенное и просторное сверх всякой меры, аж болтается на фигуре, шляпчонка маленькая, чудная какая-то, а башмаки – впору горные вылазки в них совершать, либо сей момент, с места в карьер – и на охоту. Руки бессильно поникшие – устал человек, от скуки изнемогает.
Ничего не попишешь, думалось мне. Графское происхождение дает себя знать.
Зато в глазах его проблескивало коварство, вспыхивали этакие гаденькие огоньки, в особенности стоило ему на меня глянуть. Вроде бы он старался дать мне понять: «Умные рожи ты строить мастер, а толку что? Дурак он и есть дурак!» (Это я, стало быть.)
Ну, и с первого слова-взгляда давай величать меня «морским волком». Так прямо и заявил: «Вы, говорит, старый, испытанный морской волк». А я ему спокойно так отвечаю:
– Никакой я не морской волк, так же как и вы не сухопутная крыса. – И улыбаюсь ему этак ласково. Я вообще теперь взял себе за правило улыбаться. К тому же очень уж любопытно было, что он мне на это ответит. Заметит ли, как я его презираю, уже хотя бы за одну эту блажь изъясняться со мной на морском жаргоне. (Ему, видать, с моряками общаться приходилось, вот он и понахватался расхожих словечек.) Да, кстати, чтоб не забыть. Как только увидел я этого юнца, сразу же вспомнился мне Дон Хулио со своим скарбом на ночном судне. Оба разительно были похожи, и не только небрежным чувством достоинства, но и тем, что усы у обоих точно медом были намазаны: мягкие, блестящие, с отсветом ночной страсти. И губы яркие, пухлые, четко очерченные.
Дома я возьми да спроси у супружницы моей:
– На какие доходы живет этот молодой человек?
– Он писатель, – отвечает она.
– Писатель?
– А кроме того у него богатый дядюшка, – скромно добавляет она.
– Паразит, значит, – подытоживаю я свое мнение не обинуясь. Чего здесь, думаю, церемониться?
Тут и слепому стало бы ясно, до чего она напугана.
– Он тебе не нравится? В самом деле не нравится? – раскудахталась она. Это был один из редких моментов, когда она сделалась мне противна. Что за глухота, за тупость этакая? Что могло мне в этом субъекте нравиться? Да меня же еще и улестить стремится, за престарелого дядюшку принимает, который должен покровительствовать ей в любовных делишках! Флирт покрывать, советами снабжать или черт его знает, какая еще мне роль уготована?
– Ради Бога прошу, – взмолилась она, – любите его, Жак, заклинаю вас, любите его! Он так добр ко мне… – и пошло-поехало. Слушал я и диву давался. До сих пор у нас как-то не заходило речи о супружеской верности и тому подобном, не очень-то я жалую такие темы. Но тут уж не выдержал.
– Значит, я должен любить вашего ухажера, Лиззи? – и громко расхохотался. А жена моя покраснела.
– До чего же вы вульгарны! – воскликнула она с горечью и презрением. – Не ухажер он мне, так и знайте: не ухажер! – От возмущения она даже стукнула по столу кулачком. – Он мне близкий, давний друг. Мы знакомы с незапамятных времен, а сейчас встретились совершенно случайно. Вы, право же, не в своем уме, Жак!
Это я-то не в своем уме!
– Оставим ум в покое, а вот сердце мое не обманешь, – парировал я. И сразу же подыскал сравнение. – Ты мне напоминаешь курицу, готовую снестись. – Я хохотал, не в силах остановиться. – Ведь ты форменным образом места себе не находишь. Знаешь, какую картину я наблюдал однажды в деревне? Ежели хозяйка не желает, чтобы курица снесла яйцо, она заталкивает несушку в ведро с холодной водой… Так вот и у меня прямо руки чешутся проделать с тобой то же самое.
Она уставилась на меня в полной оторопи.
– Вы сравниваете меня с курицей?
– Да-да. И радуйтесь, что покамест с курицей.
– Покамест? – переспросила моя супруга.
– Вот именно.
– Вы мне угрожаете?
– Да, угрожаю. – С этими словами я ушел в другую комнату. Мне было трудно дышать.
Однако жена проследовала за мной. Коснувшись пальцем моей руки, проговорила:
– Как же вы изменились! До чего стали грубы! – И оборвав свою речь, на сей раз вышла из комнаты.
Неужели я и вправду стал груб? Возможно. Раздражителен? И это не исключено. Но не исключено и другое: жена моя действительно невиновна – даже эту мысль я склонен был допустить: с такой обидой и столь невинно смотрела она на меня. Вдруг мне все это почудилось? Женщины склонны к романтическим грезам, молодым людям свойственны роли рыцарей, ну, а мне-то какая отведена роль?
Кстати, жена моя понятия не имела о том, что со мной творится. История о пожаре прошла мимо ее внимания, а когда ей задним числом показали статью в газете, все было в порядке, люди не пострадали, так что не о чем было и говорить.
– У вас случился пожар? – с легким испугом запричитала она. – Опасно было? – И все в том же роде. Что я мог бы ответить ей? В ее же духе? Захлебываться словами, живописать в красках, как мне было трудно?
Ничего этого я делать не стал. Даже голос ее меня раздражал.
– Да, горело, – ответил я. И на том с пожаром было покончено. Кстати, я вовсе не нуждаюсь в сочувствии, в обсуждении моих переживаний – заранее знаю, что это впустую. Не жду ни жалости, ни поддержки – не вижу в том смысла. Случилось то, что случилось, сам и расхлебывай.
Признаться, я был на взводе, это правда. Постоянно взвинчен. Компании случайных людей стали для меня еще более чуждыми, их развлечения – непонятными, их спокойствие раздражало. Я чуть не набросился на официанта, который недостаточно вежливо обошелся с моей супругой, нагрубил какой-то старухе… впрочем, оставим это. Следует учитывать, что моряк всегда нервничает на суше, поскольку чувствует себя не в своей тарелке. В море – будь я хоть распоследний матрос – я ощущаю себя человеком, каждое действие мое исполнено смысла, мое поведение важно для других людей. А здесь я никто. Превращаюсь в ничтожество. Добавим к этому городской мусор. На борту тоже мусора хватает, но при желании я могу смыть его за борт. Даже душу собственную могу отдраить дочиста, ежели возникнет охота. И тогда все вокруг сверкает, и солнце сияет тоже. А здесь что мне чистить, воздух? Потому как он ведь тоже грязный. Люди же словно плесневеют в своих конурках подобно старому хламу на чердаке, особенно сильно такое впечатление зимой, когда они не высыпаются и по утрам клюют носом в трамваях.
Это я к тому веду, что на берегу нашему брату тоже несладко живется. Не жизнь, а стоячее болото, да еще после перенесенных бурных страстей. Я, например, терзался, словно заживо погребенный в бескрайней, беспросветной кошмарной ночи, не в силах вырваться на волю. По-прежнему ощущал себя на борту стройного, прекрасного судна, которое безудержно рвется вперед, объятое пламенем, стучит машиной, пробиваясь в ночи, потому как упрямо не желает сдаваться. Чем вам не живой человек? Та ночь запечатлелась в моей памяти как бездонная пустота, небытие, а само суденышко – точно душа моя в этой космической пустоте… иначе и не могу выразить. По ночам я вскрикивал в ужасе и просыпался, плавая в поту: ведь всем своим существом я находился там.
Жена моя, конечно, тоже пробуждалась с вопросами: «Что с вами такое?» – и садилась в постели. Но я не утруждал себя ответами, предпочитая вести разговор с самим собою – в трамваях, на улице. И не было этим беседам ни конца, ни края. Ну, вот, к примеру:
– У нее все ее беды от любви, но ведь мои-то – нет.
– Больше я на берег ни ногой, – твердил я себе. – Ежели я тебе не безразличен, тогда изволь следовать за мной на борт, коль скоро там мое место…
А иной раз, под другое настроение, заявлял противоположное: сроду больше не выйду в море, на черта мне сдалась она, такая жизнь!
Словом, впал я в такое расположение духа, когда и сам не знаешь, что думать. Выскажешь мысль – вроде все верно, подумаешь совсем обратное, и тоже нечего возразить. Порой даже жалость охватывала: эх, почему только я той ночью пулю себе в лоб не пустил?
Целый, невредимый, ни болячки, ни хвори никакой… а сам ты словно карманные часы: ходят хорошо и точно, да только слышится некая пустота в самом тиканье. Стало быть, есть в механизме неполадки какие-то…
И вот тут-то кстати подвернулся этот барич Дэден, придал мне малость сил самим своим существованием. Уже хотя бы тем, что вынудил меня считаться с ним, ну, и кое-чем другим, о чем сейчас пойдет речь.
Как-то раз мы вместе сидели в Кафе-де-Сен-Лю, принадлежавшем моему давнему другу, бывшему капитану нормандского судна. И Дэден, конечно же, он теперь был с нами неразлучен. Как я терпел это, не пойму до сих пор. Но как ему это удавалось? Тоже уму непостижимо.
«Когда же он умудряется писать, писателишка этот?» – порой задавался я вопросом. И склонялся к мысли, что ничего он не делает, не говоря уж о сочинительстве. Вынесет разве что ночную вазу за своим дядюшкой-графом, после чего напялит охотничью шляпу красоты неописуемой и ну – Париж завоевывать. От таких мыслей непрестанно пребывал я во взвинченном состоянии.
И все же как-то раз я подкинул жене на пробу замечание:
– Судя по всему, этот Дэден славный малый.
Она так и просияла.
– Вот видите? Я же вам говорила! – Вспыхнула вся от радости и давай разливаться соловьем.
Словом, так дело и обстояло – все в открытую, черт бы их побрал!
Ну, а я-то, спрашивается, чего ради из себя такого терпеливца строил? По двум причинам. Во-первых, отдавал ему должное. И то сказать: не ворует, а ведь мог бы. Более того, самолично вернул мне кошелек. Я забыл его на столике в буфете, а месье Дэден – нет чтобы себе в карман сунуть, взял да принес мне. Не ворует человек, уж это ли не великое достоинство!
А кроме того тяжеленько приходилось сносить кислые взгляды моей супружницы. После грубых моих выпадов с прошлого раза взялась испепелять меня взглядами, будто я собственноручно лишил жизни ее отца родного. Ах, так? Больше вам пощады не будет! Вместе – так вместе, будто пришпиленные. Да я еще «славным малым» его обозвал! Первым делом супруга моя решила сблизить нас. Беседы происходили следующим образом.
Мадам шла промеж нас, а мы с означенным господином по обе стороны от нее. Она и передавала слова одного собеседника другому:
– Дэден полагает, что сигары другого сорта лучше. – Мой муж советует нам наведаться в другой синематограф. И так далее. Месье Дэден иной раз адресовал мне какую-нибудь реплику, я же ему – никогда. Но без конца ломал голову, как бы отшить этого субъекта?
Ведь как ни крути, а ситуация аховая. В лучшем случае он – идеальный друг, книжками ее снабжает, всякие другие мелкие услуги оказывает, все уши ей прожужжал, до чего хорошая получилась бы из нее кинодива (на такую дешевую приманку, по-моему, любая женщина клюнет, даже самая умная) – словом, он ей родственная душа, а я некультурный, неотесанный мужлан. Добытчик средств к существованию, тягловая сила. Ну, и серый, как положено.
Зато в обществе нормандца я чувствовал себя отменно. Человек, что называется, свой парень, которому нет нужды объяснять, каково это, когда тебе в лицо кричат: «Да что это за капитан за такой? Вы в ответе за наши жизни!» – ну и прочие «приятные» вещи.
– Признайтесь по совести, любите вы эту вонючую лужу, морем именуемую? – задает мне вопрос нормандец (и, сами понимаете, как нельзя кстати). – Что до меня, то я-то завсегда к нему с любовью. Особливо когда сам на суше! – и регочет во всю глотку. – Отвечайте-ка положа руку на сердце: неужто не радуетесь, когда покидаете свое шаткое корыто и нога ступает на твердую землю? А уж в особенности теперь, после этого несчастного случая?
– Бог его знает, – уклончиво пожимаю я плечами.
– Разве там еды такой отведаешь? – не отстает он. Следует заметить, что в мою честь хозяин собственноручно поставил на стол лучший окорок, нафаршированный по особому рецепту – как готовят у него на родине, вот и допытывался, по вкусу ли мне его стряпня.









