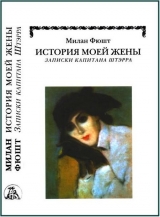
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Милан Фюшт

За «Историей моей жены» Милана Фюшта сразу же закрепилось название «великого романа». Произведение, вышедшее в свет в 1942 году, почти не затрагивает событий, происходивших в мире в то время: экономических кризисов, социальных потрясений, вооруженных конфликтов и даже мировых войн, т. е. катаклизмов XX века. И тем не менее роман, в свое время номинированный на Нобелевскую премию, до сих пор пользуется широчайшей популярностью не только на родине писателя, но и за ее пределами. Милан Фюшт пишет о вечном: о любви и ее превратностях, о муках ревности, изменах (предполагаемых и, увы, фактических), о страстях, захватывающих человека безоглядно и безвозвратно. Прием повествования от первого лица позволяет глубоко проникнуть в переживания героя и представить его читателю во всей полноте, откровенности, а порой даже неприглядности чувств и поступков. Перед Вами «психология любви», и кому из нас не хотелось бы ознакомиться с этим увлекательным пособием из первых рук? Милан Фюшт предоставляет нам такую возможность.

История моей жены
(Записки капитана Штэрра)
Mottó:
«Te vocamus, quod sic plasmavisti hominem et hominem itidem vocamus, qui tamen debet praestare seipsum… percipe hanc altercationem in corde nostro diabolicam, Domine! Et oculos sanctos Tuos in inopiam nostram conjicere non gravator, sed conspice portentum clam nobis abditum, in exits… accedit, quod allectationes nutriunt ipsum velut alece. Et ne nos inducas in tentationen, supplicamus ad vesperum, peccatum tamen ostium pulsat intratque domum en intrat prorsus ad mensam. Amove ergo sartaginem igneam, qua caro siccatur, nam animal in me debile crebro».
«К Тебе, Всевышний, взываем, Кто сотворил человека как есмь, и ко человеку взываем, ибо он такоже в ответе за себя самого… отнесись и к сему, как к дьявольскому наущению в сердце нашем, Господи! И не отвращай от нас святых взоров Своих, дабы узрели мы ничтожество наше, но и чудищ, кои таятся внутри нас, ибо сии споспешествуют тому, что соблазны питают человека, ако если бы давали ему рыбную похлебку. И не введи нас во искушение, молим Тебя ежевечерне, когда грех у дома нашего, и паки входит в дом наш, и восседает к столу… Так удали же раскаленную сковороду, на коей горит плоть наша, поелику зверь во мне, и плоть моя столь падка до соблазнов».
(Из средневекового моления)
Часть первая

 то жена изменяет мне, я давно догадывался. Но чтобы с этим… Росту во мне шесть футов и дюйм, веса – двести десять фунтов, богатырь да и только! Где ему против меня, да я этого месье Дэдена, как говорится, соплей перешибу… Так поначалу мне казалось…
то жена изменяет мне, я давно догадывался. Но чтобы с этим… Росту во мне шесть футов и дюйм, веса – двести десять фунтов, богатырь да и только! Где ему против меня, да я этого месье Дэдена, как говорится, соплей перешибу… Так поначалу мне казалось…
Впрочем, не с этого надо бы начинать. Но что поделаешь, я и сейчас выхожу из себя, стоит мне только о нем подумать.
Знаю, напрасно я женился. Уже хотя бы потому, что мне нечасто приходилось иметь дело с женщинами, по натуре я – человек холодный. Если вспомнить молодые года, то вынужден признаться: любовных приключений у меня почитай что не было. Упомяну два случая, а там судите сами. Было мне лет тринадцать, жили мы в ту пору в голландском городе Снек близ Фрисландии. Как-то раз я слонялся в парке, а там на скамье сидела гувернантка с ребенком.
– Veux-tu obeir, veux-tu obeir? Ты, мол, тоже готов слушаться? – окликнула она меня. Мне ее слова очень пришлись по душе, а она добавила: – Vite, vite, depeche-toi donc, быстрей, быстрей, торопись же!
Я пришел в восторг. Быть может, тогда и запала мне в голову мысль жениться на француженке. Короче говоря, слушал я, слушал ее напевную речь, а потом меня словно осенило: отошел я в сторонку, вырвал из блокнота листок бумаги и написал по-голландски (потому как по-французски я тогда ни говорить, ни писать толком не умел, дай Бог было разобрать, что тебе говорят): «Greppel, greppel», – всего два слова. А смысл такой, что пойдем, мол, в канаву. Там, в парке, был поблизости довольно большой ров, поросший зеленой травкой. Подошел я к гувернантке и, как в детстве, когда меня посылали к разносчику за какой-либо покупкой, благонравно замер перед нею и протянул свою писульку.
Гувернантка решила, что я не в своем уме.
Слово «канава» она поняла, а вот суть дела постичь не могла. Правда, подростком я был крупным, лет восемнадцать мне можно было дать без труда, однако носил короткие штаны с короткими же носками и синюю матросскую блузу, воротник которой матушка утром завязала бантом. Румянец был во всю щеку – уши тоже были красные и к тому же большие, зато зубы сверкали белизной, а глаза – дерзостью. При этом я не был испорченным мальчишкой – право слово! Откуда набрался я храбрости написать подобное, до сих пор в толк не возьму.
А гувернантка смотрела на меня во все глаза, можно сказать, пожирала глазами.
– Que c’est que tu veuxl Чего же ты хочешь? – спросила она.
Я даже в тот момент не устыдился. Постоял с видом благовоспитанного мальчика, затем убежал прочь. Так же поступил я и на другой день, и на третий.
Гувернантка, стоило ей издали заметить меня, покатывалась от хохота, держась руками за стройные бока. Подопечный ребенок тоже захлебывался смехом, а я знай себе стоял у скамьи, с проникновенным взглядом, явно показывая, что не отступлюсь от своего.
– Mon pauvre garson, – приговаривала она, по-прежнему смеясь, но щеки ее полыхали жарким румянцем. – Eh bien, tu ne sais pas ce qu’il te fant? – в тоне ее звучала жалость. Женским опытом она, судя по всему, обладала. – Мой бедный мальчик, – повторяла она. – Ты ведь и сам не понимаешь, в чем твоя беда, не так ли?
Взгляд ее обжигал, словно палящее солнце, а пальцы тянулись к моей щеке, чтобы ущипнуть. И тут я снова убегал.
Но в конце концов гувернантка трезво взглянула на вещи. «А почему бы и нет? – очевидно, задалась она вопросом. – Так хоть по крайней мере сплетен не будет, да и других осложнений не возникнет». И пассия моя придумала такой план.
Идея использовать канаву привлекла и ее. В одном месте через канаву был перекинут мостик, под сенью которого разросся кустарник, и сторож, совершая обход парка, проходил там дважды – в пять утра и после семи вечера, в остальное же время, особенно в послеполуденный зной, в том месте было безлюдно. Так вот, моя гувернанточка прибегала к мостику ранним утром – с какой-нибудь корзинкой или кувшином для молока; полуодетая и встрепанная со сна, женщина эта сводила меня с ума. Легко вообразить: во мне бурлила юная кровь, а ее тело хранило тепло только что оставленной постели.
Дома я изобретал какую-нибудь ложь, чтобы оправдать свои ранние отлучки, – общения с матерью я и без того избегал – и целыми днями слонялся по жаре как неприкаянный. Так продолжалось все лето. Тогда-то женщины и опостылели мне.
А год спустя после этих событий мой дядюшка, несколько испорченных нравов, зато единственный из всех родичей приятный человек, у кого я гостил летом, смастерил для меня приставную лестницу с крючьями, чтобы я прямо из своей комнаты мог взобраться в соседнюю квартиру этажом выше, где по вечерам принимала ванну неописуемой красоты дама. Из-за жары окна ванной комнаты были распахнуты настежь, и однажды, паря между небом и землей, я ступил на подоконник и, чтобы не напугать красавицу, шепнул:
– Это всего лишь мальчик…
Она и не испугалась, – ведь до этого видела меня не раз – только посерьезнела вдруг. Затем молча сделала мне знак рукой. Я соскочил с подоконника, и она с затуманенным взором приняла меня в свои объятия.
Словом, всего два этих – признаться, весьма непритязательных – любовных похождения и значились на моем счету в юности.
Остальные настолько незначительны, что и вовсе не заслуживают упоминания. Женщин я чурался и высмеивал породу пылких воздыхателей… В голове роились всякие пакостные мыслишки вроде этой: горделиво, с неприступным видом восседают в ресторанах, а между тем мне известно про них кое-что такое… Ну и тому подобное. Отношения с женщинами я, как свойственно многим в молодости, толковал упрощенно. Все здесь ясно и понятно – думалось мне.
Интересы мои постепенно переключились на еду, в особенности по мере того, как в ходе путешествий передо мной открывались все новые и новые миры. Один из моих знакомых, генерал Пит Менгз, как-то раз в моем присутствии рискнул заметить, что человек, мол, хуже свиньи, поскольку норовит отведать-попробовать все на свете. Я же на этот счет противоположного мнения. Как иначе постигнуть чужие вкусы и обычаи? Да и вообще, я убежден, что, если хочешь проникнуть в душу того или иного народа, надобно прежде всего вкусить их блюд.
В точности так я и поступал. Нет такого сорта вяленой баранины, будь та проперченной и жгучей, как пески Сахары, которой бы я не отдал должное. Не говоря уже о базарах, где на открытых жаровнях готовятся национальные кушанья! Идешь, бывало, по базару в Персии, среди чанов с тестом для выпечки хлебов – магометане великолепные мастера месить тесто и печь хлебы. К тому же не только стряпают превосходно, но и чистоту блюдут неукоснительно: на поварах фартуки снежной белизны, медная утварь начищена до блеска, – сам весь пропитаешься диковинными ароматами, которые не в силах забыть месяцами. Если не подворачивалось других занятий, я способен был просиживать там часами, лучшего отдыха для меня не существовало. Можно ли вообразить что-либо прекраснее пестроты и сутолоки чужеземного базара, его яркого многоцветья, взрывов смеха и звучания речи, которая тебе не понятна! А когда созерцание все же утомит тебя, велишь подать какое-нибудь необыкновенное кушанье и, насытясь, вновь предаешься бездумной праздности.
Знакомые называли меня «чудовищем» за то, что я норовил все опробовать и съесть, и за другую мою черту: не было такой работы, на какую я бы не подрядился. Никаким трудом не гнушался.
Всякое занятие оказывалось мне по плечу, не останавливало даже, если по три-четыре месяца приходилось жилы тянуть. Об этом свойстве моем знали и владельцы судов.
«Надрывается, как вол!» – раз отозвался обо мне Эбертсма-Лейнинген, парень из наших, над которым я вдосталь потешался, потому как для него сроду не находилось работы, я же всегда был при деле.
«Вол так вол, – думал я. – Очень даже полезная порода». Зато я способен на такое, чего никакому волу не осилить: могу не есть и не спать, если потребуется. Словом, что касается трудов или вынужденных лишений, никакие нагрузки не казались мне чрезмерными, если же речь шла о поднятии бодрости духа, тут я удержу не знал, преступая все границы возможного. Где теперь те славные денечки! Словно не обо мне рассказ, говорю – и самому не верится. Печально это, что уж тут отрицать.
«За всякие излишества приходится расплачиваться», – подвел я итог в душе.
Шкипером я тоже заделался довольно рано. Едва на губах молоко обсохло, а мне уже стали доверять ценнейшие грузы. Между тем я и сам научился обделывать делишки, возможности-то всегда подворачиваются, так что я постепенно оперился и к тридцати годам сколотил приличный капиталец.
И тут со мной приключилась беда, к тому же немалая. Меня постигла участь всех моряков – болезнь желудка. Внутри все словно панцирем сковано, куска не проглотить. Дело было так.
Наш корабль стоял в Неаполе, и я накупил всякой снеди в лучшей гастрономической лавке. Я вообще люблю делать покупки в Италии: хозяева неизменно доброжелательны, а на прилавках чего только нет. Вот и в этом магазине глаза разбегались от изобилия: окорока один другого аппетитнее, всевозможная дичь – от жаворонков, дроздов, перепелов и до упитанных уток; некоторые зажарены до румяной корочки, остальные дожидаются жарки, радуя глаз нежным желтым жирком; с головой, упрятанной под крыло, они казались экзотическим украшением мраморного прилавка. Я готов был часами любоваться изысканными закусками, пышными булками и калачами, горками орехов и каштанов, отборными гроздьями винограда, аккуратными пирамидами яблок и бутылками доброго вина, Бог весть почему напоминающими бойких молодок.
Изрядно набрав всякой всячины, я расплатился хрустящими ассигнациями, чтобы взамен насладиться шуршанием свертков. Это ведь особое удовольствие – идя по улице, слушать, как они меж собой шушукаются. Задушевный разговор их всегда был мил моему сердцу, но на сей раз я рассудил по-другому. Стоит ли нагружать себя уймой свертков и пакетов? Пускай доставят покупки на борт, тем более что в городе у меня кое-какие дела и надо еще созвать компанию на вечер. Так я и поступил.
– Ah, ah, Jacopo, carissimo amico mio, приветствую, друг мой любезный! – загалдели итальянцы, едва я сунул нос в их контору, и поспешили мне навстречу с распростертыми объятиями. Известное дело: итальяшек макаронами не корми, только дай им поднять шум на ровном месте, ну, а кроме того, мои приятели знали – если уж я зову к ужину, грех отказываться, не прогадаешь.
«А не подкрепиться ли малость в преддверии пиршества?» – подумалось вдруг мне, и я завернул в одно весьма приятное местечко. На молу, у самой воды, находился уютный кабачок. Посетителей в эту пору было раз-два и обчелся, тишина и покой вокруг так и манили к блаженной праздности. Я не стал противиться соблазну. Внутри расположилась компания парней, они угощались дешевыми устрицами с небольшими ломтиками белого хлеба и запивали снедь вином; я тотчас присоединился к ним, и мы прекрасно скоротали время за беседой. Раковины булькали в ведрах воды, когда мы опускали их туда, чтобы прополоскать, и все вокруг сияло чистотой: каменный мол, где мы сидели, море и сама жизнь, когда сердца были распахнуты навстречу друг другу. Красу дня увенчало солнце, багровым шаром опустившееся в море напротив Посилиппо.
«Что хорошо, то хорошо», – думал я, блаженно потягиваясь. И поскольку во мне всегда жила склонность к лицедейству, я вообразил себя этаким бывалым путешественником, который, пресытясь созерцанием чужих краев, возжаждал душевного покоя. Я заплатил за выпивку для всей компании, и парни поблагодарили меня стоя. (Итальянцы обожают красивые жесты.)
Однако подозреваю, что именно устрицы и погубили меня. По сей день тот ужин я считаю первопричиной своей немочи, поскольку вечером того дня самые изысканные деликатесы были не по мне: дюжина дешевых устриц застряла в желудке холодным комом.
Даже приготовления к званому ужину не доставили мне ни малейшей радости, хотя обычно именно они-то и приносили наибольшее удовольствие. Первым делом я проверил, все ли мои покупки прислали и не подменены ли какие продукты. Я взял себе за правило приобретать самое лучшее оливковое масло для готовки, похожее на желтый свет лампы. Взглянув на бутылку против света, я убедился, что в лавке меня не обманули: пробка не вскрыта, цвет и прозрачность идеальные – подобное созерцание всегда было мне в радость. Какое-то время я еще послонялся по кухне, следя, как варятся моллюски: к утехам чревоугодия надобно себя готовить – подобные навыки я уже освоил. Да что тут говорить, в ту пору жил я с умом! Я смотрел, как мальчишка-поваренок вытирает тарелки, как наводит блеск на бокалы, повращав изнутри кухонным полотенцем, а затем проверяет на свет, достаточно ли они сверкают. Иной раз в умелых движениях его сквозит спокойный ритм, и мне по душе и спокойствие этого ритма, и безукоризненное сверкание бокалов. Все существо мое пронизано благодушием во время этих неспешных приготовлений к ужину. Но на сей раз все было по-другому: я не испытывал ни малейшей радости, все внутри словно полнилось отравой.
А потом, когда собралась компания, я никак не мог подстроиться под своих приятелей. Они вели себя шумно, поглощали обильные яства, я же едва притронулся к еде. Гости во всю глотку горланили песни, а я только слушал. В те блаженные времена, попав в Левант, мы всегда запасались табаком; крикливо расхваливая свой товар, торговцы заваливали им суда. Табак был чудо как хорош – длинными прядями и удивительного, золотистого цвета, точно волосы юных девушек. Я вынес целую охапку и швырнул гостям. Сам я тоже пробовал затянуться, но понапрасну – еда и курево казались мне безвкусными, а жизнь – бессмысленной. До той поры я никогда и ничем не болел, даже расстройством желудка, но сейчас чувствовал, что мое везение кончилось. И стало мне очень тоскливо.
– Niente, niente, – сказал я приятелям, перекрывая звуки граммофона, – sono ип росо ammalato cosi. Ничего, ничего, немного нездоровится, – и сделал вид, будто опьянел от янтарно-золотистых вин.
Однако приятелям и без меня было весело.
– Vieni, vieni, иди сюда, – кричали они парнишке-стюарду, – ешь вместо хозяина. – И пичкали его деликатесами, хотя на судах всегда запрещалось есть во время несения вахты. Но сейчас я даже на это нарушение смотрел сквозь пальцы, настолько мне было худо.
Лишь когда компания разошлась, со злостью побросал за борт все остатки пиршества.
Я убежден, что именно хворь привела меня к женитьбе. Ну и вдобавок, в тот вечер я горько разочаровался в людях. Им главное набить желудки, а ты хоть пропади пропадом.
Ведь так уж оно повелось, что, невзирая на весь свой жизненный опыт, не можешь удержаться от обиды, когда ты в беде, а другие бегут мимо и даже не оглянутся. Это всегда больно ранит. А особенно близко принимаешь к сердцу обиды, связанные с едой. Речь не только о детях, я имею в виду взрослых людей, которые всерьез относятся к подобным вопросам, как бы ни пренебрегали ими иные снобы. Был у меня, к примеру, добрый приятель, Жерар Бист, который буквально впадал в меланхолию из-за неудачно приготовленного обеда.
– Тогда чего ради жить? – втолковывал он мне. – Месяцами заключен на этом паршивом судне, точно в тюрьме, и тебя лишают даже такой скромной утехи, как мало-мальски стоящая жратва? – И он был прав. Ну а уж насколько я-то был задет, нетрудно вообразить. Если лишиться этого удовольствия, то, спрашивается, что у меня остается? При моей всегдашней ненасытности привыкай осторожничать, соблюдай диету, ходи по больницам да бабкам-целительницам… Чего я только не перепробовал: и иголки втыкали в Японии, и числами лечили – все впустую! И наконец попал я к так называемому психоаналитику, которому, пожалуй, и обязан самым большим невезением в жизни.
– Уделите внимание женщинам, – посоветовал психоаналитик. – Да-да, женщинам! – Он подкрепил свою рекомендацию многозначительным взглядом.
Ну что ж, женщины так женщины. Далеко ходить не пришлось, поскольку именно в ту пору я познакомился со своей будущей женой.
Кокетливая француженка, веселая, хохотушка, она потешалась надо мной и заливалась неудержимым смехом, будто ее щекочут. Называла меня дядюшкой До-До, Кри-Крак и Бух-Бух – из-за моего смеха, подобного, по ее словам, оглушительным взрывам, и Медведем: до того, мол, забавно видеть, как торчат у меня за ушами уголки салфетки. А я действительно – сам не знаю, почему, вероятно, из укоренившейся привычки – за столом всегда повязывал вокруг шеи салфетку.
– Уши и без того большущие, – восклицала она, – а тут еще два торчащих уголка! – Она восторженно всплескивала своими миниатюрными ручками и резвилась, точно шаловливый щенок.
– Ах, какой неуклюжий да нескладный! – Таким возгласом она встречала меня, высунувшись из окна и наблюдая, как я поднимаюсь в гору (дом, где она жила, стоял на горе, за храмом, и вверх вела довольно высокая лестница). А у меня всякий раз почему-то возникало убеждение, что эта благоуханная французская розочка уже не раз выглядывала из окна навстречу ухажерам. Греховодница она была, греховодница, я почувствовал сразу же. Но какое это имело значение, если мне с ней было хорошо! Я попросил ее произнести заветную фразу: «Veux-tu obeir? Ты готов меня слушаться?» – и она исправно повторяла, а в дальнейшем повадилась всякий раз встречать меня так. Что и говорить, умна она была и сообразительна, да и ловкости ей было не занимать. На удивление быстро научилась правильно обращаться со мной: ни в чем мне не перечила, поступай, мол, как знаешь. Конечно, это свидетельствовало о ее немалом опыте, но я предпочел не замечать очевидного и отбросил все доводы рассудка.
«Коль скоро она нравится мне, женюсь, да и вся недолга!» – рассудил я. Моряки в подобных вопросах далеко не так осмотрительны, как остальные мужчины, – смело могу утверждать, поскольку достаточно нагляделся: обычный мужчина так и сяк взвешивает, прикидывает, прежде чем решиться на сей ответственный шаг.
Я же постоянно подвергался серьезным опасностям, и не только в море, – именно тогда завязалось дельце с отпетыми левантийскими мошенниками – так стоило ли принимать в расчет всякие пустяки вроде того, полюбит ли меня моя жена и сумеет ли хранить мне верность, пока я в плавании? Женщины вообще не отличаются верностью, а капитанские жены в особенности, с этим ничего не поделаешь.
Словом, накупил я своей француженке разных побрякушек да и женился. Потому как у нас, моряков, долгие ухаживания тоже не в заводе. Был у меня один товарищ, итальянец, который все ухаживания сводил к одной фразе. «Andiamo a letto, айда в постель!» – заявлял он даме после первой же вечерней прогулки, и находились особы, которых удавалось взять нахрапом. Сдавались, если не сразу же, то через неделю-другую. И нечего здесь возмущаться – такова жизнь. Конечно, некрасиво с моей стороны высказываться подобным образом, но стоит ли ходить вокруг да около? В те поры я рассуждал именно так, а не иначе, никакого священного трепета перед вступлением в брак не испытывал, семейные узы, семейная жизнь – пустые слова, ничего святого для меня здесь не существует. Так думалось мне тогда, хотя и оказалось, что я заблуждался. (Впрочем, именно об этом и повествует история моей жизни.)
Одним словом, я женился. По-моему, сразу же после свадьбы она позволила себе небольшую шалость – о том свидетельствовали кое-какие признаки. Не сказать, чтобы мне пришлась по душе этакая скоропалительность, но я не дал воли чувствам. Надо ли придираться по пустякам, внушал я себе. К тому же не привык я иметь дело с женщинами, которые всецело принадлежали бы мне одному, так что ж мне теперь, шпионить за ней, выслеживать, раздобывать доказательства неверности? Да на черта мне это сдалось! На сей раз не изменила – рано или поздно изменит, как же иначе: я целыми месяцами, а то и по полгода в отлучке, можно ли требовать от человека сверхчеловеческих усилий, чтобы женщина томилась и изнывала без любви? Если же она постоянно будет предаваться тоске, сможет ли певучим голосом произносить вожделенную фразу «Veux-tu obeir»? Мне самому пресная жизнь станет не в радость.
Повторяю, я не придал этой истории особого значения и фиксирую на бумаге все известное мне о первом случае не потому, что он чем-то особо примечателен. Просто, на мой взгляд, все, что случается впервые, заслуживает чуть большего внимания. Есть и другая побудительная причина. Я хочу дать представление о тех обстоятельствах, при которых протекала прежняя жизнь моей жены, и заставить читателя почувствовать, каким круглым дураком надо быть, чтобы при этом беспокоиться по поводу ее супружеской верности.
В то время на острове Менорка обретался весьма разношерстный народ: итальянские беженцы, славяне-эмигранты, группа шведов, которым не удалось прижиться в Южной Америке и которые дважды были приговорены к смерти, но оба раза бежали и где верхом, где в повозке пересекли континент от Атлантики до Тихого океана. Были тут и немецкие коммунисты, и польские повстанцы, и прочие темные личности, которые вполне могли оказаться шпионами. В большинстве своем люди необразованные и невежественные, они все же каким-то непостижимым образом ухитрялись сводить концы с концами. Один из них, к примеру, пробавлялся тем, что устраивал крайне убогие представления… ну и так далее. Среди этого сброда жила и моя жена. Тут у меня возражений не было: пусть по крайней мере узнает, почем фунт лиха и какова изнанка жизни. Пусть получит представление о тех мерзостях, каких я насмотрелся в гаванях и в прочих злачных местах. Ведь нашему брату жизнь прожить – все равно, что пройти через всю историю человечества в ее сжатом виде. А что сказать про мою собственную историю? Как-то раз пришла мне в голову мысль: прочти кто-нибудь мое жизнеописание после того, как Земля наша в льдышку превратится, и решит, будто бы здесь обитали сплошь мошенники, воры да убийцы, один чудовищней другого; будто бы и не было иного способа сохранить себе жизнь, кроме как отняв ее у ближнего… Ну а уж при нашем моряцком ремесле и вовсе годами не встретишь порядочного человека.
Поскольку же и супруга моя хлебнула горюшка, то не стоит – рассуждал я – опасаться, что вдруг да вздумается ей капризничать-привередничать и ко мне придираться: не так, мол, сказал, не так сделал – я от дамских капризов готов на стенку лезть. В этом смысле выбор мой казался подходящим.
Ну а теперь продолжу с того, на чем остановился, и расскажу об отношениях, какие складывались среди господских слоев острова Менорка. Дон Хуан, хозяин дома, где я жил, как-то раз в разговоре со мной попытался описать прихотливо запутанные связи, объединившие одну небольшую компанию, в которую входила и моя жена. Попробую воспроизвести его рассказ.
Следует начать с фрау Кох, первой супруги берлинского писателя, с которою тот развелся. Эта дамочка жила в любви и согласии с неким итальянцем по имени Самуэле Аннибале Ридольфи, обладателем собственного автомобиля. Кстати, синьора этого я знал – любезный до приторности, скалил в улыбке ровные белые зубы. Итак, это первая парочка – фрау Кох и Ридольфи, жили они на берегу моря. В тот год на новогоднюю ночь к ним в гости пожаловала супружеская пара из Скандинавии (то ли из Швеции, то ли из Норвегии), эти, хотя и знали друг друга с детства и в брак вступали по любви, за год семейной жизни успели разочароваться в прелестях брачных уз. И вот молодую жену прямо в новогоднюю ночь прихватил приступ аппендицита, ее пришлось отправить в больницу, а когда она оттуда вышла, то отправилась снова на морское побережье, к своей подруге…
– Вы спросите, к какой подруге? Да к фрау Кох номер один, к любовнице Ридольфи! Можете вы это понять, сударь? – в крайнем возбуждении вопросил старый господин, мой хозяин.
– Чего же тут не понять? Вот только отчего вы называете эту фрау Кох номером первым?
– Сейчас объясню, любезный сударь. А чтобы наглядней было, помечу-ка я на клочке бумаги трех участников любовной истории, иначе запросто можно запутаться. Ах да, совсем запамятовал – есть ведь еще и четвертый! Пожалуй, даже послюню карандаш, чтобы обозначить его поярче: малыш Уриэль на редкость смышленый и ловкий мальчик, я к нему расположен всей душою.
– Что еще за Уриэль?
– Сейчас узнаете, сударь мой, – проговорил он с неизменной своей улыбкой. – Если до сих пор все было более-менее ясно, то теперь начинаются осложнения. Герда, вышеупомянутая северная звезда, и до болезни своей была цветущим созданием, а уж после выздоровления и вовсе налилась соком, что спелый персик, и в результате, вполне естественно, покорила сердце обходительного Аннибале – пылкий итальянец влюбился. Фрау Кох, бывшей супруге берлинского писателя, не оставалось иного выхода, кроме как покинуть дом на морском побережье. Удалилась она не одна, ее сопровождало некое лицо… Не терпится узнать, кто именно? А ну-ка, пораскиньте мозгами, сударь! Правильно, малыш Уриэль!
– Вижу, что мне удалось заинтриговать вас, – лукаво усмехнулся он. – Тогда, пожалуй, самое время рассказать, кто он такой, этот мальчуган. Дело в том, что неугомонный Кох после развода женился вторично – с кем не случается! – и Уриэль родился от второго брака. Ничто не вечно в этом мире, вот и Кох со второй женой также развелся. Ребенок же воспитывался не матерью, а другой женщиной – подобные случаи встречаются, не правда ли? Ну так вот, малыша Уриэля опекала фрау Кох номер один, а потому он тоже был вынужден покинуть дом на морском побережье.
– По-моему, я очень хорошо излагаю, – удовлетворенно заметил Дон Хуан, попыхивая сигаретой. – Назовите мне еще хоть одного человека на этом треклятом острове, еп esta maldita isla, кто рассказал бы вам сию запутанную историю столь внятно и доходчиво, как я… Короче, родная мамаша маленького Уриэля собой была красавица из красавиц: миниатюрная, стройная евреечка, шея у нее белая, как у андалузской кобылицы – право слово, сударь, – а звать ее Ханна. Только красотке этой ребенок был вроде бы и ни к чему, поскольку у нее была своя жизнь: она поселилась на острове Форададе со своим любовником, молодым немецким летчиком. По слухам, эта парочка также пребывала в согласии. Но тут господин Кох прислал Ридольфи слезное послание, что в Берлине, мол, у него все идет наперекосяк, и тогда фрау Кох номер один – следите за схемой – написала на остров Форададе второй фрау Кох – смотрите, указываю стрелкой, – то бишь матери Уриэля, а ныне возлюбленной немецкого авиатора, красотке Ханне, и предложила ей купить на паях квартиру: тогда, мол, господин Кох сможет поселиться здесь, и они заживут все сообща. Просто и ясно, не так ли? – Хозяин весело расхохотался и от восторга натянул поглубже красный домашний колпак.
– Ну а теперь должно установиться равновесие; нагромождения сложностей, враз устыдясь, рассеются, как дым. И что бы вы думали, сударь? Все именно так и произошло, воцарилась toda armonia, то бишь совершеннейшая гармония. Теперь в одном доме живут пятеро: обе фрау Кох, молодой авиатор, любовник второй фрау Кох, красотки Ханны, мальчик Уриэль и сам господин Кох, переселившийся из Берлина. Все они варятся в этом соку, что, похоже, не умаляет их счастья.
Рассказ этот – всего лишь вступление, поскольку с настоящего момента к событиям подключается моя будущая супруга.
На сей счет также ходило немало слухов – ведь остров был поистине рассадником сплетен, – и вот что мне удалось узнать от моего хозяина и из прочих пересудов. Будущая жена моя в ту пору не удостаивала вниманием обходительного синьора Ридольфи, потому как единственно стоящим объектом своих симпатий сочла молодого авиатора по имени Эуген Хорнман. Как только парочка эта – Ханна и Хорнман – прибыла сюда, будущая супруга моя окончательно утратила самообладание. Уж очень приглянулся ей авиатор. Впрочем, ее можно понять: молодая преподавательница языка, попавшая в чужую среду, она, естественно, обрадовалась возможности хоть с кем-то поболтать по-французски. А Эуген Хорнман блестяще владел несколькими языками. Правда, поговаривали, будто бы все свои языковые познания, а в особенности безукоризненный французский, равно как и авиаторское искусство этот субъект использовал для разного рода сомнительных услуг (а может, и просто шпионил) в пользу Германии. И хотя подобные слухи, очевидно, пришлись не по душе моей будущей супруге, она не лишила Хорнмана своего расположения, и, по-моему, поступила вполне здраво. Будешь носом крутить – мало чего добьешься. Надобно уметь отличать самое важное для себя от менее существенного. Я, например, покуда не растерял здоровье, мог съесть масляную лепешку, хоть упади она на палубу. Вообразите себе: стоишь на вахте, под жарким солнцем, кок приносит вкусную выпечку, чтобы скрасить завтрак, я успеваю даже отведать кусочек, когда лепешка вдруг выскальзывает из пальцев… И тогда я попросту подбираю ее с пола и съедаю. Вы спросите, почему? Да потому, что потребуй я принести другую лепешку, она мне и в глотку не полезет. Та, первая, была вкуснее всего, и утерянного не воротишь. Весь мой жизненный опыт подтверждает эту истину, что бы там ни говорили чистюли и педанты. В подобных случаях, чтоб дать волю раздражению, разве что погрозишь морю кулаком.









