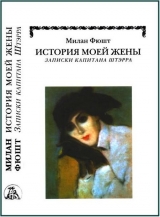
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Ах, так? Тогда не передавайте ему мои слова, – рассмеялся я, и едва мы очутились под сенью первого попавшегося дерева, я покрыл поцелуями ее мордашку. А про себя твердил: видел бы это благородный отпрыск ирландского дворянства! Некрасиво вел себя, охотно признаю, бессердечный поступок, подчеркиваю для тех, кто ценит раскаяние: знаю, что вел себя подло и жестоко. Но что поделаешь, случившегося не воротишь!
А мисс Бортон плакала. Что же до меня, то вместо того, чтобы сжалиться над нею, я наблюдал, как красиво у нее это получается. Кстати, есть ли что-либо прекрасней, чем плачущая юная женщина? Когда слезы текут и текут, подобно струям ручья или затяжного осеннего дождя, и не видать им ни края, ни конца. Да что тут говорить, даже когда она высмаркивала носик, это было тоже прекрасное зрелище.
Я не удержался и обнял ее. А она ударила меня по лицу. Так мы боролись какое-то время под кровом зимнего дерева, и я… даже этому смеялся. Ну, и лупят меня женщины, почем зря! И все норовят попасть в глаза. Что супруга моя, что барышня Бортон, ну, не странно ли это?
– Вы помнете мне шляпу, черт вас забери в бездну адову! – жарко шептала она с горечью. – У моего отца нет таких денег, чтобы каждый день покупать мне новые шляпки!
– У отца? – Слово задело мой слух. – А как же посланник небес? Или это неправда?
Да, пожалуй, неправда. Поскольку барышня всегда любила фантазировать. Фантазировать и упиваться своими фантазиями – такая уж она странная особа.
– Чтоб вас черти в ад утащили, – задыхаясь, повторила она.
– Утащат, утащат, – заверил я ее от всей души. А затем продолжил:
– А теперь скажи сама, разве это красиво? Жалеешь одного поцелуя, когда нам предстоит расстаться! Ты выйдешь замуж, я отправлюсь в ад – как ты мне пожелала. И больше никогда не встретимся. Во всяком случае, это маловероятно.
Меня так и подмывало рассказать ей в подробностях, куда я собираюсь и каковы мои намерения, но уж больно неподходящая была ситуация… Кроме того, она и не прислушивалась к моим речам. Всеми силами старалась освободиться, отбивалась ногтями и зубами, как свойственно женщинам, а затем скрестила руки на груди, чтобы я не дотянулся до ее губ.
– Нет и нет, делайте со мной, что угодно! По мне, так лучше умереть! Ненавижу свою жизнь, – рыдала она.
– Я точно так же, – ответил я.
– О, но я всех ненавижу и никого не люблю!
– Точь-в-точь как я, – откликнулся я с готовностью.
– Даже родителей ненавижу! – вне себя выкрикивала она, явно раздраженная моими ответами и словно отыскивая в душе все более и более горькие истины.
– А уж как родители мои ненавидят вас! – перебила она меня. – Нет-нет, не говорите ничего! Но ненависть их к вам безгранична.
«За что же им меня ненавидеть? – все же хотелось мне спросить. – Чем я им не угодил? Ведь все шло по воле их доченьки!» Но разговор был безнадежно испорчен, какую тему ни затронь, ни до чего не договоришься.
– Эх, был бы у меня брат!.. Он бы проучил вас, а то и убил бы.
Я тотчас представил себе этого братца: врезал бы я ему разок от души, и покатился бы он кубарем, носом снег пахать. Что поделаешь, такова участь исстрадавшегося человека: о чем ни подумает, все оборачивается унижением.
А барышня в рыданиях даже такое сказанула: – Вы мне всю жизнь исковеркали, да будет вам известно! – Обвинение прозвучало столь серьезно, что его нельзя было оставить без внимания даже такому закоренелому злодею, как я… Но я не придал этому значения. Чем, спрашивается, я изуродовал ей жизнь? Да ничем! – холодно констатировал я.
– Я любила тебя, – сказала она, утирая слезы. – И не заслужила, чтобы ты так грубо обращался со мною.
– Но вся любовь моя была понапрасну, – сказала она, пустив в ход ридикюль. И тогда я разжал объятия. Значит, всему конец.
– Я тоже тебя любил, – хмуро ответил я. – Веришь не веришь, но это было так. Прощай!
– Побудь еще немного, – попросила она, смягчившись.
Но теперь уже мне не хотелось быть с нею.
– Меня ждут к обеду. Надо идти домой, милая. Во всяком случае, пока что.
– Что значит «пока что»?
Я не ответил.
– Ты говорил, что уезжаешь. Это правда? И куда же, далеко? – приступила она с расспросами.
Я улыбнулся. Малышку явно разбирало любопытство, по ней видно было.
– Спрашивай смелей, не стесняйся. Куда я еду? В Южную Америку. Насовсем ли? Да. Нет у меня ни малейшего желания больше возвращаться сюда…
– Вы едете один? – решилась она наконец.
– Один, один! – засмеялся я.
– О, тогда хорошо! – сурово ответила она. Сурово, хотя и с облегчением. И не дрогнула. Лишь глаза ее все еще были влажными.
Только ведь такой оборот был мне вовсе не по душе, сами понимаете. Не хотел я обходиться с ней грубо.
А посему отправил ей послание – теперь уже я. Не хотелось бы, мол, столь холодно расстаться с ней, очень сожалею и прошу дать мне возможность еще раз увидеться с нею. И она действительно явилась на свидание. Должен признаться, мы оба старались поправить непоправимое; она была мила и уступчива, как никогда, я от чрезмерного усердия из кожи вон лез, но все было напрасно.
Не знали мы, как теперь быть друг с другом.
И это в порядке вещей. Негоже гнаться за тем, что давно ушло. Я вел себя нелепо. Сказал, что всегда буду помнить ее, а какой женщине приятно такое слышать? Она же смирилась с моим отъездом. Не сказать, чтобы с радостью, но умирать от горя вовсе не собиралась. И в этом тоже приятного мало. Ведь чего требует душа в таких случаях, чего?
Душа молит о невозможном, требует невозможного, ибо в этом ее суть, в самой ее природе заложена эта жажда. Чтобы я, в едином порыве, отмел все сомнения, чтобы вновь, как некогда, превратился в волшебника, и чтобы она, склонив головку мне на плечо, могла прошептать: «Ах, как удивительно прекрасен был день…» Или же я должен бы сказать ей – обожаю! – всего лишь одно-единственное слово, и все остальное было бы забыто. То, что есть, или то, что было…
Вместо этого я прочел ей лекцию об индейцах. Уму непостижимо, глупее не придумаешь. Все равно, что петухом кукарекать.
Она как-то раз сказала, что охотно поселилась бы со мною хоть на далеком острове. И как славно было бы сейчас ответить ей, приезжай, мол, потом ко мне. Однако хорош же я буду, если она отнесется к моим словам всерьез. Ведь эта возьмет и приедет, с нее станется.
Я рассказывал ей, что место, куда я еду – совершенно особый мир, не каждому подходит. (Это я добавил из осторожности: ей, мол, не годится, а мне по душе.) И уверял, будто бы давно мечтал попасть в Южную Америку. Сказать по правде, я нередко думал о тамошних жителях, равно как и о малайцах с их пьянящей жизнерадостностью, и все же… сплошь пустая болтовня. Почему, спрашивается, именно туда? Безродный, он и есть безродный и все равно нигде не найдет себе места. Вернется на родину – дома ему все не этак да не так, вновь отправится в странствия – везде останется чужаком на веки вечные. А я разливался соловьем, мол, это моя давнишняя мечта, мне всегда хотелось там обосноваться.
– Сравнить только, как живем мы и как живут индейцы? – мучил я вопросами несчастную девочку. И закатил ей целую лекцию – о самосозерцании. Этому ангелу! Какая лучезарная радость для туземцев жизнь сама по себе, как таковая. Эту тему я развил подробнее. Ведь вот способны же они целыми днями сидеть-посиживать в тени, у стен хижин, предавшись душою игре света и облаков, то есть созерцанию того, как с уходом дня уходит день жизни, а мы только диву даемся, с чего бы это они постоянно улыбаются? Просто так, ни с чего, или мечтам, которых у них полна голова?
– Хотя именно так и надо бы жить! – заявил я. – Ведь только оглядитесь по сторонам. Что тут, у нас? Не слышите, какой ужасный грохот? Не чувствуете напряжение большого города? Все окна сверкают, но ведь кому-то надо, не щадя трудов, заботиться об их чистоте. Или эти ужасные железные дороги! – в голосе моем звучало отчаяние.
– Вам не кажется, что здесь вся наша жизнь – принудительные обязанности? Люди живут и не знают, что значит радоваться жизни… – и так далее. Самому тошно приводить здесь все благоглупости, что я наговорил.
Впрочем, глупость ли это? Я и по сей день не знаю. Наверное, кроется здесь какой-то смысл. Вот только зачем было забивать девушке голову, когда ей хотелось услышать совсем другое? Она начала выказывать признаки нетерпения.
– Да, но мы же не дикие туземцы, – отвечала она. Или: – О, меня интересует только моя собственная страна, – и поворачивалась, чтобы уйти.
А я – за ней. И все норовил удержать ее за руку, чтобы остановилась она и выслушала меня за ради Бога. Чем это можно объяснить? И мне вспомнился залитый солнцем луг времен моего далекого детства.
– Куда ты несешься? – кричали на лугу какие-то старушки мне, мальчонке в костюмчике с бархатным воротником. – Не ходи, провалишься! – надрывались они. Но я их не слушал. Как человек, уверенный в себе и в том, что он делает, с надменной улыбкой, я вышагивал по зеленой траве, а старушки поспешали за мною. В том месте обрушился берег реки, и я в своем костюмчике с роскошным бархатным воротником мигом очутился в бурном потоке у мельницы. Ведь шел-то я прямиком туда.
Вот и сейчас точно так же. Как сомнамбула. Бывает ведь, что человек просто не в состоянии остановиться, прекратить делать что-либо. Как говорится, ум за разум зашел, даже не понимаешь толком, на каком ты свете.
Я расписывал ей, как выглядят легкие у рабочих мраморных карьеров, о легчайшей, переливающейся всеми цветами радуги пыли, которой заполнен воздух прядильни… хотя при этом у меня было чувство, будто бы это вовсе не я говорю, а родного брата двоюродный плетень, и старая плакучая ива кивает моим речам… (мы бродили в парке и его окрестностях). Так что вполне естественно я все больше и больше путался в словах. Чувствовал, до чего непослушны губы и заплетается язык: хочешь сказать «а», а он произносит «б». Хотел объяснить девушке все преимущества свободного, раскованного поведения и поймал себя на том, что готов выдать свою прежнюю семью со всеми потрохами и начал было выкладывать наши самые интимные семейные дела.
Какая, мол, адская картина и дьявольский шум, когда два разных человека по-прежнему борются в ком-то одном, в его душе: отец и мать – то есть вечно озабоченный, издерганный, измученный работой кочегар, не отходящий от топки, и язвительная и улыбчивая лентяйка… Только, к счастью, что-то заставляет в таких случаях человека умолкнуть.
«Ах ты, свет мой ясный! – с горечью подумал я. – Чего хочет от меня эта девица? Чтобы я потешал ее, достал ей луну с неба, когда я и камешек-то поднять не способен». Настолько слабым я вдруг почувствовал себя.
– Эй-хо! – окликнули меня какие-то парни, разгружавшие машину.
– Эй-хо! – отозвался я, отшатнувшись от витрины, в которую я, в моем смятенном состоянии, едва не врезался.
– Мне до России никакого дела нет! – заявила барышня.
– Эй-хо! А мне – есть. – Я по-прежнему придерживался своей основной точки зрения: хоть убей, а здесь мне жизнь не в жизнь. – Ведь как, по-вашему, чем они тут озабочены? Понастроить еще больше угольных шахт, чтобы прибавить себе еще больше обязанностей! А кстати, к чему эта поголовная тяга к деторождению по всему миру? – обратился я с вопросом к своему крольчонку. А вернее, к ребенку.
То был мой последний вопль души, взывающий к сердцу барышни. Услышала ли она его, так никогда и не выяснилось. Потому как в этот момент дорогу мне преградил нищий, и тем самым был положен конец нашей злополучной гонке вокруг Риджент-парка и его окрестностей. Я полез в карман за мелочью для побирушки, а когда поднял взгляд, передо мной стояла моя жена.
Стоит и широко улыбается. Делает вид, будто ужасно рада случайной встрече.
– Вот ты где, великий капитан, – говорит она мне и тычет в меня пальцем.
Оказывается, я должен проводить ее к некоему благородному господину по имени де Мерсье. Там сегодня готовят пунш и привезли орехов из их деревни в Южной Франции. И почему бы мне хоть разок не наведаться туда?
Видела ли она барышню? И по сей день не знаю, но вполне возможно, хотя она и была близорука. Однако глаза ее сверкали и в них явно отражалось желание посоперничать.
На мгновение передо мной возникли и горящие глаза барышни Бортон. Она поджидала меня на углу улицы и, заметив мою жену, перевела взгляд на меня. И ее глаза не говорили мне: «Ты, великий капитан». Нет, они говорили другое. «Ах ты, бедный капитан!» – вроде бы читалось в них.
Едва мы прошли шагов десять, как я остановился и сказал:
– Послушайте, какого черта нам туда тащиться? Не желаете ли слегка развлечься?
Странный вопрос, не отрицаю. Но жена всегда действовала на меня самым непредсказуемым образом.
– Это уже кое-что любопытное, – мигом отвечает она. – В таком случае, идемте потанцуем! – И в голосе ее ни малейшего смущения.
Ну, что вам сказать на сей счет? Призывные интонации этого голоса мне хорошо знакомы. И никаких заблуждений здесь быть не могло, объяснения были неуместны, ведь и она так же хорошо знала меня, как я – ее. Так после долгих странствий наконец возвращаешься домой.
И все же странно было встретиться с ней вот так – на улице, случайно, как с чужим человеком. Ведь это совсем не то, что видеться дома. Здесь жена показалась мне гораздо привлекательнее. Кстати, это я подметил еще в Париже, даже с точностью помню, где: в сутолоке авеню де Турвилль.
– Идемте, идемте! – подхватил я, с новым интересом разглядывая собственную жену.
Элегантна – не придерешься. Кожаная сумочка тонкой выделки, на редкость ладные крохотные резиновые ботики (погода все еще стояла сырая, даже снег шел временами), легкая меховая оторочка на пальто, а главное – шелковая шаль на груди, дивного оттенка сизоватой сливы, – в этой синеве впору утонуть с головой, – мягкая и нежная, к такой приятно прижаться подбородком. И походка… горделиво-царственная, каждый шажок словно говорил: да, я миниатюрна, но меня нельзя не заметить.
«Порезвимся еще хоть разок в этом городе», – подумалось мне, и мысль эта имела продолжение: «Ведь теперь все равно это меня ни к чему не обязывает».
А когда она вошла в телефонную кабину, чтобы позвонить мадам Лагранж, я еще раз окинул ее взглядом: «Этакий задиристый подросток!» – заключил я. И усмехнулся: никто бы не поверил, узнай он, сколько всякого добра у нее дома в шкафах.
– Халло, – говорит она в трубку. – Скажи, что я простужена и прийти не смогу. Завела интрижку, представь себе! – И двусмысленно рассмеялась. (Я приоткрыл дверь кабины, заинтригованный, над чем это она смеется.) Ни за что не догадаешься, с кем. Мощный великан, широченные плечи, высоченный… как Нибелунг из классической оперы.
– Ах, ну о чем ты говоришь! Какая там борода? Нет у нас никакой бороды, – звучит весьма пикантно. – Не знаешь, кто это? Такая порядочная женщина, как я, разве стала бы…
Остальное я не расслышал, потому как захлопнул дверцу. Меня внезапно осенила идея.
– Подслушивать некрасиво, – сказала она, выходя из кабины. – Куда вы подевались, к чертям собачьим? Что вы со мной в прятки играете?
А я обошел кабинку от угла до угла, чтобы она не могла меня догнать, сказал ей «ку-ку!» или свистнул, как некогда своим птицам, и скрылся за углом. Раздосадованная, она сердито направилась дальше одна.
– Мадам, позвольте великодушно вас сопроводить, – подошел я к ней и приподнял шляпу. Она сердито посмотрела мне в глаза.
– Мадам, – продолжил я, – мои намерения чисты. Если мое общество не покажется вам обременительным, я буду всего лишь вашим провожатым на короткое время. Короткое и преходящее. И если вдуматься, ну что тут такого особенного? Ведь в наше время даже на танцах можно заводить знакомства.
– Вот и отправляйтесь в танцевальный зал, сударь. Всего доброго. – Она отвернулась от меня и перешла на другую сторону улицы. А у меня даже сердце екнуло, до того я вошел в игру, и она мне нравилась.
– Мадам, – поспешил я за ней. – Вы на редкость привлекательны, даже ваша очаровательная улыбка выдает в вас француженку. А уж ваша походка!.. Должен признаться, я всю жизнь был большим поклонником французских женщин…
– Тогда вам место в Париже, сударь. Расточайте свои комплименты там.
– Ах, мадам, – не отступал я, – не будьте столь жестокосердной! Я постараюсь, насколько это в моих силах, сделать приятным наше недолгое общение. Это все, чего я прошу у вас. Будьте же великодушны! И без того я вскоре исчезну отсюда, уеду за моря-океаны, на другой край света. Мадам, я отбываю отсюда навсегда! Дело в том, что я – морской капитан, – добавил я внезапно.
– Ах, вы морской капитан? В самом деле? – воскликнула она и даже остановилась. Тогда я вновь подошел к ней вплотную, опять приподнял шляпу и представился: «Капитан Жерар Бист».
– Тогда разрешаю немного пройтись со мной, – нагло заявляет она. – Если, конечно, вы действительно капитан, вот в чем вопрос. Потому что по вас не скажешь, – она смерила меня взглядом.
– Не скажешь? – удивился я. И поведал ей, что, мол, засиделся дома, то бишь пробыл на суше лишнего, а это отражается на внешности. Суша нам не на пользу, торчать на суше – гибель для моряка, мадам. Ведь чего только мне не довелось пережить в этом городе…
– Что вы говорите! А ну, поделитесь со мной своими переживаниями. Полагаю, это очень интересно.
– А сами-то вы умеете говорить о чем-нибудь?
– Умею ли я говорить? – Глаза ее сверкнули отчаянным вызовом, и я поспешил сбить настроение.
– Ваша милость, умоляю – один поцелуй, а то застрелюсь!
– Что-о? – она даже побледнела.
– Я имел дерзость молить вас о поцелуе…
– Убирайтесь прочь, наглец вы этакий, иначе немедленно позову полицейского.
«Да-а, дело нешуточное, – подумал я. – Ведь она в игре удержу не знает. С нее действительно станется кликнуть полицию».
– Прошу прощения, мадам, – попытался я исправить положение. – Вы превратно истолковали мои слова. Я ведь не какой-нибудь охотник за юбками, готов подтвердить под присягой. Человек я темпераментный, вот и увлекся. Вдобавок, мы, моряки, народ неотесанный, проявите снисходительность. Да и не слишком-то хорошо я чувствую себя в ваших краях. Так тревожно на сердце… Сердце мое ранено, мадам… – шепнул я ей на ушко.
– Ах, ранено? Вы достойны жалости, бедняга, – утешает меня моя собственная жена.
– Разве у вас нет супруги? – вдруг вскидывает она на меня взгляд.
– Почему вы спрашиваете?
– Потому как вижу по вашему лицу, что у вас имеется несчастная супруга. Возвращайтесь к ней, если у вас тревожно на сердце. Искренний мой вам совет. Прощайте, капитан. – И кивнула головой.
– Нет, мадам, вам не удастся так легко отделаться от меня. Умру, но не отпущу вас. Умоляю, не гоните меня. Иначе упустите сегодня слишком многое… в это мгновение мое сердце исполнено чувств и открыто нараспашку. Хотите, брошусь перед вами на колени? Я мог бы любить вас до гробовой доски, мадам…
И наклоняясь к самому ее уху:
– С тех пор, как помню себя, вы были моим идеалом. Предел моих мечтаний – это вы. Сейчас, когда я смотрю на вас, то впервые замечаю…
Как видите, я говорил ей такие вещи, каких она от меня никогда не слышала. Главные слова моей жизни. И все же до сих пор я был не в состоянии произнести их вслух. Лишь сейчас, когда можно было не стесняться, то есть спрятавшись за маской и полушутя… да, именно так все и было. Именно я не мог сделать ей этих заветных признаний, тогда как любой другой с легкостью выболтал бы враз.
Вокруг царили мир и покой. Ведь мы тоже брели по Риджент-парку, в ранние часы пополудни.
– Только вы кое о чем забываете, сударь, – вдруг повернулась она ко мне.
– О чем же?
– У меня есть муж, которого я люблю.
– О, вы любите своего мужа?
– А почему бы мне его не любить?
– Собственного мужа?
– Да. Что здесь удивительного?
– И очень любите? – поинтересовался я и продолжил: – Дивны дела твои, Господи! Что же это должен быть за муж?
– Что за муж? Готова удовлетворить ваше любопытство, сударь. Очень милый человек и – что я больше всего ценю в нем – крайне порядочный.
– Правда?
– Истинная правда. Он и вам наверняка бы понравился. А уж до чего нежен со мной – словами не передать.
– Так он еще и нежен?
– Само внимание и забота.
– Выходит, черт побери, у этого человека и недостатков нет?
– Есть. Он несколько обеспокоенный, а так жить нельзя. Жить можно только отчаянно и дерзко, – поучала меня жена.
– Но вот что странно: при этом он ведь такой легковерный…
– Легковерный? Не понимаю! В каком отношении?
– Он всегда верит тому, что сам же и вымыслит.
– Значит, он мастер придумывать… Или же у него болезненная фантазия? – И я бросил взгляд на жену.
– Необузданная фантазия, – поправила она меня.
– Вот-вот, – согласился я. – До чего же странные бывают люди… А вы верны ему? – неожиданно ошарашил я ее вопросом. И словно бы даже сам город прислушивался к моим словам, такое безмолвие вдруг охватило нас.
– Смешной вопрос! – парировала она. Однако не засмеялась. – Он мил и простодушен до глупости, – мягко пояснила она. – Вот вы в точности, как мой муж. Богом клянусь, вы похожи на моего супруга! Какого ответа вы ждете от тех, кого спрашиваете? Да или нет?
– Разумеется, верна, – жестко ответила она. Однако при этом чуточку покраснела. Все мы верны, каждая женщина на свой лад, разве вы этого не знали? Если не знали, то примите к сведению, уважаемый капитан.
– Понятно, – кивнул я. Затем вдруг пришел в восторг. – Но тогда это истинный рай на земле! Особенно в вашем случае. Ведь это же превосходно, если вы оба столь совершенны, ваш муж и вы! Это ли не рай, когда любовь и верность ходят рука об руку, словно сестры-двойняшки…
Нет нужды говорить, что у моих восторгов был горький привкус, хотя горечь относилась не только к нашему разговору с женой. Потому как мысленно я находился не здесь – в другом месте. Словно бы внезапно погрузился в сон. А сновидение было следующим:
Иду я по дороге близ Квиленбурга, к дому моего дяди. И буквально вижу себя со стороны: залитая дождем улица, желтый дом, шляпа моя низко надвинута на глаза, на поле крестьяне. А отец кричит мне вслед: – Эй, молодой барин, минхер, сколько пятниц на неделе? Знатный барин будешь или дамский угодник? – И крестьяне покатываются над его шутками. Земляки мои.
И у меня по-прежнему оглушительно звучит в ушах тот хохот. В чем мало приятного. Правда, аккурат в этот момент моя жена проговорила:
– Довольно кривляться, пойдем отсюда. Ведь ты обещал сводить меня куда-нибудь. И руки у меня мерзнут, – быстренько подвела она черту под этим странным расчетом. А руку засунула мне в карман – погреться.
Она и взвизгивала, и хохотала, и – если делалось очень страшно – повисала на мне, хваталась за мои уши или нос. Некоторые зрители смеялись, глядя на нас.
А дело в том, что я повел ее на каток. И не только сломя голову носился с ней об руку, но и время от времени подхватив ее высоко, катил дальше.
В определенном возрасте для человека это испытание сил. Хоть и легка была моя ноша, но бежать с ней, да еще по некрепкому льду? Я пыхтел, как паровоз, а иногда и впрямь чувствовал, что вот-вот рухну.
– Хочешь, брошу тебя? – спрашивал я в такие моменты, но конечно, не ронял ее, а проделывал свои аттракционы столь же безукоризненно, как смолоду. Но после этого я посерьезнел. И словно бы смерть почуял за спиною, а вернее, в самом себе – наверное, в жилах.
– Ведь умеешь же, а раньше ты никогда за мной не ухаживал, – пожаловалась она, когда мы зашли в ресторанчик погреться.
– Не ухаживал? – переспросил я.
– А надо бы, надо, – повторяла она, и слово это звучало последним вздохом по уходящей молодости.
– Чего расстраиваться, ты ведь и сейчас еще молодая, – шепнул я ей на ушко. Но она не поверила мне и все равно оставалась грустной.
– Вон даже я и то еще не стар, – продолжал уговаривать ее я. – Годок-другой еще порезвимся! – Я засмеялся, а затем уставился в окно, на белый простор в надвигающихся сумерках, словно оттуда ожидая ответа. Так ли это? Есть ли они у меня, эти «годок-другой»?
Закат был сказочной красоты. Нижняя кромка неба залита алым, а лед играл холодноватыми голубыми отсветами. И этот абсолютный покой, дивная тишина…
«Все это как искусственное цветение», – улыбнулся я про себя.
Мы оба молчали. Она пила горячий пунш (я заказал для нее в компенсацию за тот, что ей не довелось вкусить в гостях у де Мерсье, откуда я ее сманил), а я попыхивал сигарой поверх ее головы.
И чтобы не забыть, тогда я сказал ей впервые:
– Я до того вас любил, что готов был умереть ради вас.
– И все прошло?
– Кончено, прошло.
– Какая жалость!
– Жаль, – согласился я. – А может, и нет. Ведь жить в таком напряжении страсти невыносимо… Но что, если нам начать новую жизнь? – с улыбкой предложил я. – Хотите, душа моя?
– Хочу, – ответила она, и расплакалась.
Только потом все пошло не по нашему уговору, а совсем иначе. И не в желании моем было дело… Жизнь ведь ни рассчитать, ни спланировать нельзя. Начать с того, что мне было зябко уже в ресторане, скверно протопленном. (В Лондоне вообще очень плохо топят, мне до сих пор невдомек, по какой такой причине. Ведь угля у них – завались!) К вечеру у меня разболелось горло, поднялась температура.
Словом, я заболел. Воспаление легких, плеврит и все такое. И это ленивое создание, эта несобранная женщина не вылезала из платья, ни разу не прилегла. Очень хорошо помню сумерки, когда вокруг меня царил сплошной полумрак, отсвет лампы под абажуром и, конечно, помню ее – особенно, когда она забывалась коротким сном у моей постели. Голова склонена набок – значит, все-таки уснула. И я в таких случаях подолгу смотрел на нее.
Помню унылые, однообразные дни, когда я лежал, подолгу уставясь на большущее, белое пятно перед окном – на занавеску, и как хорошо было потом, когда она подходила туда и оказывалась на белом фоне. Кстати, у меня было впечатление, будто челюсти ее сведены судорогой, так как говорила она с трудом. Правда, и я не разговаривал – незачем было.
Хорошо находиться в таких руках! Или только ее руки были такими? Жесточайшая была болезнь и вместе с тем – сплошное наслаждение, ведь нет более блаженного состояния, чем лихорадка. Тогда весь человек – словно горящий дом: пылает, полыхает грозным пламенем, чтобы враз рухнуть. Ах, что это за удивительное ощущение! Чувствуешь каждым нервом, что близится смерть, и присматриваешься, приглядываешься к ней, потому как она покачивается, пошатывается некоторое время, будто на американских горках, а затем вдруг проскальзывает мимо.
И в бреду, естественно, меняются значение вещей и их пропорции – вот врачей, например, я совершенно не помню. Только ее легкие ручки. Только их. Ведь за ними я следил неотрывно – за ее руками и лицом. Глаза ее иногда темнели, делались глубокими, а руки выражали нечто ужасное. Тогда я приподнимался в постели.
– Чего вы так убиваетесь по мне, когда я счастлив, – говаривал я ей не раз, и это действительно было так. Ну, разве не чудо, что она рядом, что такое бывает! Изменилась сама жизнь, или человек способен до такой степени измениться?
Ведь чувствовал же я, что она любит меня и хочет, чтобы я выжил.
– Я стану хорошей, вот увидишь, – с надеждой сказала она мне как-то вечером. И я поныне помню этот ее молящий голос. Но ответить ей тогда я не смог, уж очень мне было худо. Впрочем, я все старался передать ей взглядом.
Затем начались медленные прогулки, но и тогда мы не разговаривали. В конце концов, что такое счастье? Вероятно, нечто вроде выздоровления. Небольшой просвет среди непроглядной гущи сумрака и тумана. Клочок чистого пространства на фоне мути.
Она хотела спасти меня и билась за мою жизнь изо всех своих сил, а потом выдохлась, сломалась – такое было у меня впечатление. Однажды, когда я отправился на прогулку – уже самостоятельно, – возвратясь, я застал ее в каком-то странном состоянии.
Потягиваясь всем телом, она улыбалась сонной улыбкой – я уж не знал, что и думать. А в глазах выражение блаженства, наслаждения.
– Что с вами стряслось? – накинулся я с расспросами.
– Сказать? Я упилась. – Именно так она выразилась. – Вкусно было, но меня совсем развезло, – рассмеялась она.
– И что же вы пили?
– Ром.
– Женщина – ром?
– Да-да.
– С утра пораньше.
– Да, да, – язык у нее заплетался. – О, только не ругайте, не браните меня! – взмолилась она. И, склоняясь ко мне: – Знаете, сколько? Шесть стаканчиков.
– Тогда как же мне не сердиться? – нахмурился я. – Не понимаю вас. Ведь это впору бывалому извозчику.
– А мне поначалу нравилось! – заявила она с блуждающей улыбкой. – И вот чем кончилось!
– Вот видите.
– Ох, до чего хочется спать… Я совсем засыпаю… – и голова ее упала на грудь.
Я уложил ее, потеплее укутал, и она мгновенно провалилась в сон. Надо ли говорить, как поразило меня случившееся.
За окном сияли под солнцем крыши. И в это мгновение зазвучали колокола. Наступил полдень.
Не считая того случая, вокруг меня царила тишина – глубокая, ничем не нарушаемая. Не могу не упомянуть об этом. После долгих штормов и бурь тишина действует на слух оглушающе.
Правда, музыки в моей жизни тоже хватало. Был у меня красивый серебряный граммофон, так он почти все время звучал в соседней комнате. А иногда моя жена пела.
«И ведь довольно приятно поет», – думал я и продолжал работать.
«Хорошо бы отныне заниматься работой на дому, – временами размышлял я. – Поднимешь голову, и сразу видно, чем она занимается в соседней комнате: починкой белья, чтением или наблюдает за косыми струями дождя на оконном стекле». И пение ее не было пением в привычном смысле этого слова – скорее мечты вслух, перепархивание с одной мысли на другую: витает над своей теперешней жизнью, потом зависнет и… умолкнет.
Вот и сейчас она тихонько мурлыкала у меня за спиной.
Мне опять выпала кое-какая работенка, некая компания поручила срочно проверить оценку ущерба, нанесенного кораблю и грузу во время аварии (такого рода поручения довольно хорошо оплачиваются). Я каждый день наведывался за очередной порцией материалов, но никогда подолгу не отсутствовал: прихватишь бумаги, и сразу обратно, домой, и опять за дело – к обеденному столу в большой комнате.
И когда она за чем-то заглянула сюда, я удержал ее за руку и сказал:
– Я люблю тебя!
Затрудняюсь передать словами, что такое счастье, да и по-моему, никто этого не знает. По всей вероятности, состояние рассеянности. Вот я, например, по рассеянности съел как-то раз полкило айвового мармелада за один присест только потому, что он лежал на столе передо мною. А выйдя из дому, время от времени останавливался на перекрестках и поигрывал тростью, со свистом рассекающей воздух. Ни дать ни взять молодой человек.
Кстати, именно тогда я убедился, что чувства гнездятся в сердце, и только там. А к хозяину дома обратился со словами:









