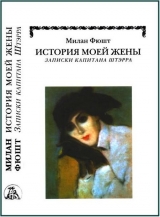
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
– Что вы так разглядываете на мне, сэр Александер? – спросила дама.
– Любуюсь украшениями, теми, что на вас, – ответил мой приятель. – А вами – и того больше, – недвусмысленно добавил он.
Короткая фраза, а мигом все стало ясно: украшения презентовал он, а потому и вправе любоваться.
Итак, по соседству звучала музыка, с очень интересной игрой ударных типа гамелана и резкими выкриками, а эти две птички поклевывали виноград по ягодке, да пощипывали сдобный калач – деликатно, крохотными кусочками и прихлебывали шампанское – грациозно и неспешно, к тому же чокались, на манер матросов в корчме, и приговаривали: a thousand year, ching-ching, будь здоров на тыщу лет, дзинь-дзинь и далее в таком же роде… и смеялись, смеялись беспрестанно. Даже от такой малости опьянели. А к полуночи дама с бабочкой, Кодорова приятельница – черное платье на ней было в обтяжку, и при каждом ее движении шелк переливался на округлых формах, – словом, эта красотка вдруг возьми да заяви мне: желаю, мол, вас покорить. Та-ак… И что же мне теперь делать?
«Ну-ка, Якаб, докажи, хороший ли ты друг?» – подначивал я самого себя, потому как положение складывалось непростое, и не только из-за выпивки. Душу мою одолевали сомнения.
«Красотке с бабочкой» я со всей очевидностью по душе пришелся, такое обычно чувствуешь. Но и другая на меня глаз положила, а с двумя сразу путаться – сам запутаешься.
Спрашивается, что же теперь делать? Две любовные паутины одновременно не соткешь. Или соткешь? Попробуй, Якаб, чем черт не шутит! – хорохорился я. Однако приключение заведомо безуспешное. Кодорова прелестница отличалась пылким темпераментом, завлекательными изгибами тела и напористостью. Эта с первой же минуты вознамерилась завладеть мною – враз видно было. Вторая дамочка была более кроткого нрава, скромная и застенчивая. Ошарашенная напористостью своей напарницы, она тотчас пошла на попятный, и глаза ее погрустнели, точно поникшая крона. В утешение я даже нащупал ее ручку под столом.
Которую же из них предпочесть? Откровенно говоря, мне больше нравилась другая, та, что душой помягче. А может, я Кодора побаивался? Отнюдь не исключено. В конце концов, должны же быть хоть какие-то обязательства перед приятелем, – пытался я уговорить себя.
Э-э, как-нибудь утрясется… Пошлю завтра дамочке роскошный букет с записочкой, что так, мол, и так, пришлось внезапно уехать.
«А я ведь и вправду должен уехать! – стукнуло вдруг мне в голову. – Только что договорились с Кодором. И почему бы мне не отправиться завтра или послезавтра?»
«Поеду в Брюгге! – ликовала моя душа. – Уеду и сложности уладятся сами собой».
А Кодор тем временем обратился к компании:
– Как удачно, что все мы здесь собрались и по всем главным пунктам договорились. Не перебраться ли нам в рыбацкую харчевню, будь она градом повыщерблена, да рыбкой не полакомиться?
«Повыщерблена» – это он сгоряча ляпнул, не подумавши, потому как сурового вида доктор был рябой. Он мигом вскинул голову и высказался в том духе, что вовсе мы не обо всем договорились, нам еще предстоит многое обсудить, так что рано, мол, подводить черту.
Надо было видеть, как при этих словах просиял Кодор. Ведь он и сам спохватился, что сболтнул лишнего. Ему бы не сообразить, с его хитроумной башкой!
– Какое там подводить черту, господин доктор, вседостойнейший вы мой! – расцвел он сладчайшей из своих улыбок. – Нам еще не раз предстоит к этому делу возвращаться!
Даже голос у него сделался до того бархатный и нежный, в душу проникающий. Как у любящей матери, которая попку дитяти своего ласково поглаживает. А смотрел при этом на меня, мерзавец.
После столь бурных событий полагаю естественным, что домой я возвращался с пением. Шагай бодрей, навстречу первым лучам рассветным! И в душе сами слагались песни о любви, вроде вот этой:
«Если только захочу, горы с места сворочу. Безо всяческих усилий рухнет мир к моим ногам. Ай да Якаб, победитель, покоритель милых дам!» Меня распирало от чувства всепобеждающей силы. Я упился настолько, что поглаживал рукав своего зимнего пальто, словно котенка.
– Видишь, киска, – обращался я к пальто, будто к мисс Бортон или к своей супруге, – как меня любят женщины! Любят, ласкают, за стол сажают и съесть готовы! – И я громко хохотал над своими неуклюжими шутками.
Мне даже сделалось жаль Кодора, которому такие успехи и во сне не снились. Дошло до того, что я уселся на ступеньку закрытой на ночь табачной лавки оплакивать своего незадачливого приятеля. «Ай-яй-яй! – укорял я себя. – Каким же коварным другом ты оказался! Разве нет? Как ты поступил с ближним своим? Вернее, с возлюбленной ближнего своего?! Разве не ты расцеловал ее в уста и во все сладкие места в коридоре некоего заведения под названием „У Зеленого Барашка“? Разве это не ты был?»
– Фи, как некрасиво! – пытался я пристыдить себя, но понапрасну. Каждая клеточка существа моего противилась стыду и грусти – напротив! Меня душил смех, в памяти постоянно возникала та минута, когда в том самом коридоре я вдруг увидел себя в зеркале. Для меня явилось откровением зрелище человека, охваченного страстью: оказывается, при этом глаза у него в раскос! Ну, обхохочешься!
А другая прелестница шептала мне: «Du und Ich. Ты и Я», – поскольку с ней можно было перемолвиться словцом по-немецки, которого не знал никто из компании, и она даже перед приятельницей своей дважды решилась вымолвить ласковое Du und Ich. Ах, милашка!
– Ничего страшного не случилось! – приказным тоном сказал я себе и встал с приступочки. – Не дожидаясь беды, уедем куда подальше. Пора покинуть поле героических побед.
– Если не уедешь, семья с голодухи ноги протянет! – Решение родилось в тот момент, когда я произнес эти святые слова.
– Конечно, пора уезжать! – продолжил я. – Только и делаешь, что задыхаешься от полноты чувств. Ну, а что, если завтра скажет тебе очередная прелестница: «Требую, мол, вашей любви?» Тогда что делать? Опять пускать глаза в раскос да шептать на ушко: – Ах, я вас люблю, обожаю?
В общем, настроение у меня было радужное.
И в довершение всего представьте: стоило мне не без труда, в каком-то автомобиле добраться до дома, как у входа остановил меня хозяин дома. Про себя я его называл «старый хрыч» и в таком роде. Да он таким и был: узколобый, твердолобый проповедник, мелкотравчатый кавалер. Питался одним салатом, вставал на рассвете с курами, увлекался мистикой. И угораздило же меня столкнуться с ним на лестнице!
То, о чем мы говорили, не имеет прямого отношения к делу, и все же я перескажу – отчасти, чтобы показать, какое значение придавали в ту пору мистериям в определенных общественных кругах, поскольку мне еще предстоит вернуться к этой теме.
Вот и говорит мне владелец дома там, на лестнице, что он, мол, не слепой, прекрасно видит, оба глаза на месте и на зрение не жалуется, словом, видит, что мы люди благочестивые, то бишь моя супруга и я, и промеж себя живем в ладу (да будет прощено ему его замечание!), а потому он решил позволить себе вопрос: верю ли я в святость патриархов? (Понимай, Авраама и иже с ним.)
Скрои я сейчас благочестивую рожу, и выпитое вино вынудит меня расхохотаться. Дернула же его нелегкая так некстати вылезти с этим! Ну, держись, старый пень, сейчас я тебе отвечу!
К тому следует знать, что знаменитой книгой отца Ламберта о вере и неверии, где тот возражал адвокату Ингерсолу, тогда многие зачитывались, тема поистине переживала второе рождение и как раз среди набожной публики такого пошиба. Более того, один раз даже сам я был вынужден продираться сквозь дебри словес, чтобы при случае заткнуть рот какому-нибудь умнику. Дело было давно, под Мельбурном, и сюда не относится. Достаточно сказать, что я, по сути, был готов: если эта старая вонючка опять вылезет со своими философскими умствованиями, я его попросту прихлопну. Причем именно аргументами отца Ламберта, потому как нет для него на всей земле высшего авторитета. И поскольку он в своем набожном рвении схватил меня за руку и повторил вопрос:
– Верите ли вы в высший разум? – я огрызнулся:
– Во что, во что? В какую дребедень?
– Что такие интеллекты, как архитектор Витрувий и Зороастр думали о нас, – любезно пояснил старик.
– А на кой ляд мне их думы? Я сам хочу судить, достаточно ли хороша для меня капуста…
– Какая капуста? – кротко уточняет он.
– Та, которой вы пичкаете меня в обед! Хорош ли камин и все остальное, что находится в наших комнатах! – О супруге своей я не упомянул. – Устраивает ли меня жизнь? – поставил я вопрос ребром. – Ведь если им нравится все это, то бишь такая жизнь, сам я от этого умнее не стану. Не верю я в высший разум! – проорал я ему на ухо.
– Нет? – переспросил старый путаник. – Как это возможно? Неужто не верите в предначертания звезд, в планомерность мироздания?
– Причем тут начертания звезд, если надо объяснить разумность порядка вещей? Если уж на то пошло, как будто капуста больше влияет на мой организм, чем движение звезд.
– Движение звезд, по-вашему, существует напрасно? Как и вся эта небесная гармонистика? – он именно так и выразился, простирая свои тощие руки к квартире консьержа.
– А если и впрямь движение звезд существует напрасно, что за беда! – воскликнул я. – Видите ли, ханжа вы этакий, – продолжил я, не давая ему опомниться, – возможно, я глуп, как пробка, зато я не одинок. Более того, очевидно, что мирозданию угодны остолопы, иначе оно не стало бы наводнять ими мир.
– Если у вас в котелке что-то бурлит, клокочет, каковы будут ваши слова? Ах, какая идеальная «гармонистика», не так ли? Хотя какая уж тут гармония, когда одно существо пожирает другое!
– Иными словами, здесь царствует паразитарный принцип… Или, по-вашему, это рай хищников? – обрушился я на старика. – Вот видите, устройство этого мира покоится на жестокости – простейший случай, и меня он не слишком-то привлекает и даже не интересует, милейший сударь! Не интересует меня «гармонистика» с ее высокими духовными принципами, если интересы отдельного индивидуума не принимаются во внимание. Нет, не интересует, на чем и закончим наш разговор. Честь имею, сударь! – Я с поклоном снял перед ним шляпу.
– И если сведенборгские мудрецы не простят меня, то и я не отпущу им их прегрешения. Там им и передайте!
– И кстати. Речь идет о прикладных истинах – учтите это, сударь, – а не о высших материях, вовсе нет. И тут я имею удовольствие сослаться на отца Ламберта. Сударь! – повинуясь невесть откуда осенившему меня порыву, повернул я разговор. – «Жизнь человеческая есть трагедия, штука ужасная» – посылка первая. – «Жизнь практична» – посылка вторая. «Это вам не поэзия и не рафинированная философия. Страсти человеческие – цивилизованные ли, варварские ли – не превратят неумолимые возможности в необходимость, а ханжество не изменит человеческой натуры или потребностей, из нее проистекающих». – За сим остаюсь! – воскликнул я на прощание. – Good bye.
Цитата эта, правда, не относилась к делу напрямую, но я привел ее, поскольку помнил наизусть. Это была та самая фраза, какою я однажды под Мельбурном сразил одного зазнайку.
В общем, с пьяных глаз я разглагольствовал на весь подъезд, так что впору было податься проповедником в какой-нибудь парк.
«Bravissimo!» – воскликнул итальянец, жилец бельэтажа.
– Какая же ты прелесть, когда пьяненький! – смеялась надо мной жена, подстрекая, рассказывай, мол, дальше, где был, что делал, как развлекался ночью. А меня и подстрекать не требовалось, речи мои лились рекой.
И тут я подметил в себе какую-то странную хитрецу. Она примечательна тем, хитреца эта, что понравилась мне гораздо больше, чем честность.
«Вот как надо действовать, – сказал я себе. – Так, пожалуй, еще прожить можно».
Я прикинулся более пьяным, чем был на самом деле. А поскольку в такие моменты допустима всякая безответственная болтовня, то я ее себе и позволил, при этом трезво наблюдая за впечатлением, производимым на мою округлую пышечку жену.
Свернувшись в клубочек, она покоилась на розовом диване, в голубой пижаме, среди книг и сигаретных окурков, словно тоже кутила всю ночь. Повторяю, как клубочек, как голубой моток пряжи, растрепанный котятами.
«Только и всего? – изумился я. – Это я люблю?!» – Я не переставал дивиться потрясающим открытиям этой ночи. Эту женщину я люблю. И в то же время некая тяжесть на сердце подсказывала мне, что мисс Бортон права: в какие бы приключения я ни пускался, от этого ничтожества мне никогда не избавиться.
Сия истина предстала передо мною столь отчетливо и ясно – в блаженном покое опьянения и в необычайных красках утра (тем временем я поднял жалюзи, и комната оказалась вся залита солнцем), что мне чудился собственный голос, болтающий невесть что. Словно бы и не я говорил.
Я изложил свои похождения с двумя дамами, причем в следующей версии:
В связи с делами Кодора этой ночью встретился с двумя миллионершами – имен их я не запомнил и до сих пор не знаю, что это за птицы, не иначе как охотящиеся на воле стервятницы, – сказал я, – но хороши собой, как птицы счастья, клянусь, – и поднял руку, принося клятву, – одна этакая пухленькая пташечка, а у другой талия похожа на изгиб скрипки… (Это сравнение вызвало у моей супруги неудержимый смех: – Поэт! Поэт да и только! – восклицала она. – Птица и она же скрипка – какая прелесть! – Эти французы тонко улавливают оттенки слов.) – И эти две необыкновенные птицы, клянусь… (я опять воздел руку) – обе сегодня ночью просили моей руки, – с грустью сообщил я.
– Имейте в виду, я теперь могу покорить кого угодно, потому как заделался покорителем сердец, – добавил я с многозначительной улыбкой.
Жена моя чуть с дивана не скатилась.
– Ах, ты мой сладкий, прелесть моя, – стонала она, покатываясь со смеху. – Ой, в боку закололо! – вдруг вскрикнула она, и лицо ее исказилось от боли. С поясницей у нее без конца были какие-то неполадки – ничего серьезного, прострел или что-то в этом роде, – но если ей становилось нехорошо, то причиной неизменно был я.
– Больно! – с укоризной сказала она и отвернулась к стене. Даже лицо от меня спрятала.
Я в свою очередь умолк и сердито принялся раздеваться. И вдруг слышу:
– Что там было дальше? – И слышно, как она хихикает под одеялом. Ну, я и начал все снова.
Поделился с ней своей растерянностью, когда чья-то ножка ненароком наступила под столом мне на ногу (конечно, я приукрасил картину), и почти одновременно чья-то ручка дернула меня за полу сюртука – ни дать ни взять две злые колдуньи в лесу.
– Ну, а вы? – помаргивает она глазами из-под одеяла.
– А я отодвинул ногу. Естественно, не правда ли?
– Не знаю, что и сказать. Ах, обожаю, обожаю вас! – визжала моя жена от восторга. (Любовь занимала ее больше всего на свете. Любовь и, конечно, все, что с нею связано.) Пришлось продолжить рассказ. Я упомянул, что обе дамы были в черном (Кодора я, конечно, оставил за скобками – то есть умолчал, что одна из дамочек – его любовница, и тому подобное) и дальше плел свои словеса, словно все больше и больше пьянея.
– Что мне делать с двумя сразу, правда же? – и призвал небеса в свидетели. – На двоих сразу ведь не женишься?
– О Господи! – отчаивалась моя супруга. – Зачем же тотчас и жениться?
– Но ежели им хотелось…
– Чего хотелось? Чтобы вы женились на них?
– Ну да! Слово даю! Или вы и слову моему не верите?
И тут я умолк.
– Разве вы не сказали им, что вы женатый человек, что у вас уже есть жена?
– Как не сказать? Сказал.
– А они что?
– Им это раз плюнуть, американцы легче смотрят на жизнь. (Пришлось по ходу дела выдать их за американок.) Наверное, они представляют себе так, что, пусть даже есть у меня жена, я могу оставить ее ради них… – выкрутился я.
И тут остановимся на миг, поскольку с этого момента вся жизнь повернулась по-другому. После этих моих слов в комнате повисла ощутимая тишина.
Супруга моя приподнялась на локте. Сперва закурила, глуби ко затянулась, затем изрекла:
– Итак, ты опять добился успехов, поздравляю. – И засмеялась, легко, чуть слышно. После чего задумчиво, мечтательно продолжила: – Как интересно… Ведь именно вчера у меня тоже просили руки.
Повторяю, что обронила она эту фразу мимоходом, словно размышляя вслух. Затем добавила одно странное словечко:
– Отпустишь?
На другой день первой мыслью моей было учинить обыск в доме.
Однако задержимся на минуту-другую, чтоб не забыть. Ведь мы обсуждали этот вопрос. Поначалу я было поднял ее на смех.
– Оставьте ваши шутки, – отмахнулся я. – Когда это у вас просили руки? (При этом у меня дрожали и подкашивались ноги.)
– Я же сказала: вчера, – добродушно ответила она.
– Ах, вчера? Именно вчера? И где же? Ведь вы все время лежите дома!
– Я не всегда лежу, – рассмеялась она. (И правда, – спохватился я, – вот ведь и на днях она выходила из дому.) – Кроме того, для этого не обязательно выходить из дома.
– Ах, вот как? Значит, можно прямо здесь, на дому?
Она засмеялась еще веселей.
– Какие только мысли не лезут вам в голову? – Но на меня при этом не смотрела. – Почему именно здесь или в другом месте? Можно ведь и письмом…
Выходит, ей пишут сюда. А я почему-то об этом даже не подумал.
– Каким еще письмом? – спросил я.
– Что за вопрос! Самым обыкновенным, – отвечала жена.
И все же я ей не поверил. Во всяком случае, не сразу – я имею в виду письмо. Зато все остальное принял на веру. Что же именно и что в тот момент творилось со мной?
«Если дошло до того, что у замужней женщины просят руки…» – пытался я рассуждать логически, но ничего не получалось, шарики вертелись на холостом ходу. Голова была пустая и бездеятельная, точно от тяжелого удара.
И лишь позднее всколыхнулась во мне буря, но с такой силой, что меня всего трясло, как при тяжелой лихорадке. Дрожь не отпускала целые недели. Такого мне не доводилось испытать за всю свою жизнь.
Об этом я должен рассказать особо.
Однако будем придерживаться порядка, я опять забежал далеко вперед.
Первой моей мыслью был итальянец. Потому как письмо – всего лишь увертка. А субъект этот живет в нашем же доме, красавец мужчина, вдобавок скульптор и итальянец… Уж не он ли посылал ей фиалки?
Не иначе как итальянец, думал я. Именно его я выдернул наспех из сумятицы чувств и мыслей, того самого жильца, кто в ответ на мои разглагольствования на рассвете воскликнул «браво!».
Но со скульптором вышла неувязка: на другой день он свалился со строительных лесов и угодил в больницу. Я выждал три дня. За это время моя супруга из дома не выходила – совершенно точно, я самолично в этом убедился. Итальянец призвал к себе лишь какого-то приятеля, который в тот же день отбыл из города, а сам скульптор на четвертые сутки скончался. Супруга же моя все это время провалялась дома и за порог – ни ногой.
Стало быть, надо идти дальше. Но куда?
Значит, отпущу ли я ее? Все шло в точности так, как я себе и представлял. Ее напугала та история про весовщика. И рада бы уйти, да пороху не хватает.
Что же мне теперь делать? Лучше всего попытаться напрочь выбросить ее из головы.
Представь, что она умерла, – внушал я себе. Или что ты вообще никогда ее не встречал. Попробуй привыкнуть к пустому месту.
Или же постарайся свыкнуться с занозой в сердце – тому тоже есть примеры. Скажем, в Индии некоторые втыкают себе в тело шипы и с этим живут.
Иными словами: живи, как жил до сих пор. Наведается в гости таинственный любовник, можно выйти на улицу, трубку покурить. Годится? Или вообще ни о чем не думать? Но можно ли не думать о том, что из ума нейдет? Жизнь прямо-таки вынуждала меня к этому. Судьба точно вступила в заговор с моим невезеньем и на каждом шагу подстраивала мне пакости. Куда ни пойдешь, только о том и речь, и аккурат в то самое время. В трамваях, в газетах одно и то же: обманы, измены, семейные драмы, трагедии на почве ревности, самоубийства из-за несчастной любви. Как раз в ту пору история с Биттери потрясла всю Англию. Тройное самоубийство: муж, жена и воздыхатель, – только и было везде разговору, даже воробьи на крыше о том чирикали.
Да и мне самому именно в то время довелось пережить крайне неприятное происшествие. В Лондоне находился один мой давний друг, Грегори Сандерс, на редкость умный и основательный старый джентльмен, вот я и решил зайти к нему побеседовать – у него покой, тишина, как раз то, что человеку требуется. Дай, думаю, доставлю себе удовольствие. Но даже это не удалось. Жил Сандерс в старой гостинице, и едва я вскарабкался на четвертый этаж, как прогремел револьверный выстрел. Совсем рядом, в каких-то десяти шагах от меня. До чего же все просто – будто хлопнули дверью поблизости. Должно быть, револьвер был малого калибра.
И возле лестницы валялась маленькая женщина, чуть больше ребенка, охапка пестрого тряпья – тряпичная кукла, которую кто-то уронил на пол. Даже крови не было видно, голоса ее не слышно – ничего. Покорное существо, она враз онемела навсегда.
Как я узнал впоследствии, убегая, она споткнулась о ковровую дорожку в коридоре, а человек с револьвером – тут как тут!
Я не мог избавиться от впечатления дурной театрализованности: волосы взъерошены, глаза выпучены, сам задыхается – актеришка провинциальный, шут балаганный… Вся сцена фальшивая, как в пошлом кинофильме.
– Она мне изменила, – прохрипел этот скот и грохнулся без памяти.
«Остолоп ты этакий! – подумал я. – Всех обманывают, дубина стоеросовая!» – и прошел мимо, холодно и отстраненно. Настолько смешной показалась сейчас эта жалоба и настолько омерзительным, ненавистным – поступок.
Что значит – «изменила»?
Что значит это дурацкое слово по сравнению с тем, что молодая женщина лежит на полу, недвижно и безмолвно, хотя еще вчера она умела многое другое, не только изменять. Умела смеяться или вспоминать, а теперь вам все это безразлично, да и сама она для вас пустое место? Одно-единственное слово, всего лишь несколько бессмысленных букв, и все же мы связываем с ним свою жизнь, позволяем смертельно оскорблять себя… В чем тут дело, что за этим стоит? И отчего я бессилен это понять, хоть разбей о стенку свою глупую башку?
Случай этот подействовал на меня, словно дурной сон, словно тяжелейшее опьянение. Несколько дней я не мог выйти из этого состояния.
Подойди к ней и шепни на ушко: – «Ты изменница. Убью тебя зато, что ты мне изменила». Разве это не безумие, не идиотизм?.. Может ли быть ей наказанием смерть, о которой она не знает, – а тогда доставит ли кара удовлетворение совершившему ее? Словом, нелепы мы по природе своей и ложны все наши нравственные установления.
В таком духе рассуждал я сам с собой даже в бессонные ночи. Если же где-нибудь – на афише фильма или в газетах – мне попадалось выражение «обманутый муж», оно разило наповал: будто намек, что я лишился моего мужского достоинства. И пусть объяснит мне кто-нибудь более опытный, знающий, как это с нами происходит: один день видим ясно, а назавтра словно застит глаза? Или же мы никогда не видим ясно, и все это сплошное заблуждение, каким боком ни поверни свою жизнь?
И я варюсь в этом житейском вареве и ничего не знаю – в чем тут секрет, что я ничего не замечаю? А ведь, наверное, и к нам вхож некто, в доме его знают: горничные, прислуга пересмеиваются между собой, да еще и в глаза мне смеются. Я же улыбаюсь в ответ, относя их смешочки за счет приветливости.
Наши семейные дела обсуждают между собой, пересказывают бакалейщику. Только мне, именно мне, никто никогда ни единым словцом не обмолвится. Это вроде заговора. Все молчат, упрямы и тверды, как стена.
Так чем же объясняется моя слепота? Отупением, нежеланием проявить интерес хоть к чему-то? До определенного времени – да. А потом вдруг в одночасье разверзается адская бездна, и я все вижу и понимаю. Задним числом…
Страдания мои были неизмеримы.
Прежде меня совсем не интересовали дела и отношения сторонних людей, но теперь… Ни на что другое я не обращал внимания. И порой, разглядывая по отдельности чьи-нибудь лица, спокойно отмечал про себя: «Этому изменяют».
Или взять к примеру другой случай.
– Дай ей в морду! – поучает в автобусе один молодой рабочий другого. И глаза у него горят. – Врежь ей как следует! – мрачно советует он.
«По-вашему, это выход, парни? – хотел я участливо поинтересоваться у них. – Ударить женщину, потому что она не любит или недостаточно любит вас. Или любит не только вас, но еще кого-то? Чего же добивается человек, пуская в ход насилие?»
Вообще передо мною встал следующий тезис:
Плохо ли это, если человек прожигает свою жизнь? Если предается порокам, которые доставляют ему наслаждение? И здесь я должен сослаться на слова моего приятеля.
Этот мой приятель очень любил ночные увеселительные заведения, что называется, любил до самозабвения. Правда, годовой доход кое-какой у него был, но… разве жизнь сводится только к этому? Ну, я по недомыслию своему, возьми как-то и скажи ему, не жалко, мол? Все свое будущее, все, что имеет, жертвовать в угоду мимолетным развлечениям.
Надо было видеть, как оживился при этих словах мой приятель.
– Значит, так, как я живу, и жить не стоит, верно? – задиристо спросил он. Вспыхнул, загорелся, готов был схватить меня за грудки.
– Тогда назови нечто более содержательное, лучшее, против чего у тебя не будет возражений! Сражаться с торгашами и норовить облапошить их? Или смотреть, как они тянут все соки из крестьян, а те отыгрываются на стариках родителях? Ну, назови же мне, за ради Бога, нечто безупречно прекрасное, никоим образом не задевающее твой придирчивый вкус?
– Неужели ты не в состоянии понять, – стукнул он кулаком по столу, – что эти альковы, эти ночные огни – это и есть моя жизнь? Да женщины двуличные – во рту золотой зуб, а жало опасней змеиного… Но в них моя жизнь! – Слова лились из него, как песнь.
Что же он воспевал? Известное дело, когда падший человек пытается оправдать то, что губит его, и делает вид, будто бы сам того хочет. Согласен – в падении, как известно, кроется своего рода притягательность. Все это я понимаю, да и прежде понимал, просто сейчас применим эти рассуждения к нашему случаю. Вот сидит она перед зеркалом и вижу – улыбается. Или у горящего камина: быстрый взгляд в сторону двери, а затем в глазах загорается мысль, и мне до скончания века не узнать, о чем она думает, кого ждет в своем воображении, какие комплименты ей вспомнились, какие переживания… Однажды я неожиданно заглянул к ней под вечер, когда она даже не знала, что я дома – лицо горит, глаза подернуты какой-то странной, маслянистой поволокой, как у юных девушек, которые плеснули в чай слишком много рома… Я к тому, что часто замечаешь: жена твоя мыслями витает где-то далеко. Назовем вещи своими именами: мысли ее заняты запретными радостями. Можно ли смириться с этим, одобрить это?
Можно, как мы знаем: на тот случай, когда жена принимает любовников, разработана целая система, и в некоторых восточных странах этот институт чуть ли не узаконен. А попробуйте перенести этот обычай к нам? Почему мы не берем с них пример? Вздумайте только предложить, и увидите, какие сумасшедшие поднимутся страсти!
Итак, у нее опять кто-то есть, как был всегда. Почему бы не быть именно теперь? Кто-то взял себе за правило приходить сюда через эту дверь.
И вновь у меня возникло чувство, будто стоит мне только протянуть руку, и я ухвачу его, искомого мною субъекта – стало быть, он где-то здесь, поблизости. То есть близость его я ощущаю каким-то звериным чутьем.
Сущий вздор, признаю задним числом. Но ведь он затягивает тебя, как омут, не имея ничего общего со здравым смыслом. Мне могут возразить: да как это может быть? Как додуматься до этого нормальному человеку? Жена постоянно лежит, из дома не выходит, и я подолгу нахожусь дома, а уходя, могу вернуться в любой момент! Но можно ведь взглянуть на ситуацию по-другому. Я сказал себе: именно поэтому и возможно. Почему столько валяется в постели молодая женщина, у которой нет никаких хворей? Да и я далеко не всегда бываю дома.
Более того, она сама меня отсылала подышать свежим воздухом. Почему, спрашивается, ей хотелось, чтобы я как можно больше времени проводил вне дома, к тому же с мисс Бортон – ведь она знала, что я нахожусь с ней. И чем тогда занималась она сама в долгие часы моего отсутствия?
Спросить у нее напрямик? И я спросил.
– И все-таки, – завел я разговор, – кто же просил вашей руки? Согласитесь, этот вопрос не может не занимать меня. И главное: как могло случиться подобное с замужней женщиной?
– И больше всего меня интересует, конечно, – продолжил я, – что вы на это ответили? Все-таки мне об этом следовало бы знать, вам не кажется? Ведь я должен как-то подстраиваться к ситуации.
В ответ она рассмеялась мне в лицо.
Именно это подействовало на меня так, словно она погладила меня по сердцу.
– Ах, какой же вы большой дурачок, однако! – воскликнула она. – Разве не вы всегда упрекаете меня, будто я болтаю что на ум взбредет и фантазирую с открытыми глазами, как ребенок…
Значит, все это химеры?
Я сказал, что она усмехнулась мне, но по солнечному лучезарно – целительной, умной и чуть лукавой улыбкой, а солнцу, по-моему, тоже свойственно легкое лукавство. Наряду со всей благодатью, которую солнце дарует нам, оно и подсмеивается над нами – так мне представляется.
И я со вздохом впрягся в работу. В Брюгге я не поехал, все же не решился. Были у меня и здесь кое-какие деловые поручения, оценки ущерба, проверка расчетов и прочее, так что трудился я с пятого на десятое. А на душе воцарился покой, прежние тишь и покой, которые неизвестно откуда берутся и о чем напоминают человеку. Факт, однако, что я очень посерьезнел и остепенился. Словно коснулось меня какое-то благотворное веяние, мир и спокойствие были на сердце, а иногда я закрывал глаза и прислушивался к этой тишине внутри себя. И вдруг, однажды ночью, я внезапно задался вопросом:
– Причем тут химеры? Когда она напрямик спросила, отпущу ли я ее? Разве не было этого? И спрашивала она меня об этом когда-нибудь прежде?
На другой день я снова подкатился к ней со своими дознаниями.
– Хочу спросить: вы по-прежнему влюблены в этого Дэдена? Только будьте откровенны. Зачем прибегать к языку символов и иносказаний, коль скоро Господь наделил нас даром речи и при желании можно подробнее обсудить сердечные дела?
– О, да! При желании, – ответила она. На сей раз досадливо и раздраженно.
Она была права. Разве добьешься правды прямыми вопросами в лоб? Нет, она была абсолютно права…
И причем тут Дэден? Дело в том, что той ночью воспоминание о нем навалилось на меня со страшной силой. Я не способен был избавиться от подозрений, что на этот раз Дэден последовал за нею, как в свое время Ридольфи. И что живет он где-то здесь поблизости, возможно, в этом же пансионе. Чувство было настойчивое, неотступное.









