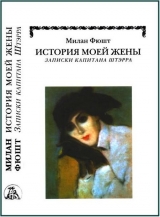
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Голос мой упал до шепота.
– Видишь ли, глупышка, долгий путь вел меня на дно. Знаешь ли ты, что я способен растоптать человека, прихлопнуть, как муху? Спрашивается, почему же против них я бессилен? Что, по-твоему, защищает их? Эта женщина – воплощение ненасытной страсти и всегда была такою, а за каждым углом таится соперник, добраться до глотки которого для меня слаще, чем заслужить загробную благодать… Ты взрослая девушка, вот и растолкуй мне, отчего не действуют на них никакие мои силы? Словно чары какие-то на меня напустили, словно я околдован?
Никогда бы не подумал, что в этой девчушке столько мужества.
Не дрогнув, выдержала она мои чудовищные признания, выстояла, точно деревце в бурю.
Не протестовала, не возмущалась по обычаю благовоспитанных девиц, хотя откровения мои носили довольно щекотливый характер, и все же она храбро смотрела мне в глаза. Мы топтались у скамьи под дождем, перешедшим в грозу с порывистым холодным ветром. И наконец мисс Бортон заговорила:
Она, мол, никогда не могла бы солгать мне, а потому признается: сказанное мною, хотя и больно ранит ее, но в то же время радует, поскольку это правда. Может, я не поверю, но все это она знала раньше, а чего не знала – чуяла сердцем.
Она и впредь будет любить меня, покуда любовь эта не угаснет сама собой. Тогда она почувствует себя счастливой и воздаст хвалу Господу.
Речи произнесены были без единой слезинки, почти жестким тоном.
Пусть даже ее слова и поступки и привели ко многим неприятностям – она готова признаться в этом, – но они были продиктованы чувством, которое она, по всей вероятности, никогда не забудет, и не только потому, что не хочет, просто оно завладело ею настолько, что она и сама не предполагала… что с нею может случиться нечто подобное.
– Ну, а теперь благослови вас Господь, – протянула она мне руку.
И очень просит меня образумиться, отнестись к делу спокойнее. Сказать по правде, она опасается, что сама тоже послужила причиной каких-то событий. Потому как в глазах у меня бездонная тоска и некое труднообъяснимое выражение. И упаси меня Бог совершить что-нибудь такое…
И вдруг вспылила, совсем по-девчоночьи:
Не стоит, мол, мне так страдать и убиваться из-за недостойной женщины. Пускай это и некрасиво с ее, мисс Бортон, стороны, но она скажет мне правду: моя жена – бессердечная женщина.
– Ты хочешь сказать, что она не любит меня?
– Да.
– Но ведь это неправда. Даже если она сама говорила тебе об этом – все равно неправда.
Мисс Бортон вспыхнула до корней волос.
Моя жена никогда не говорила ей подобного.
– Только уговаривала любить тебя! – выпалила барышня и вновь залилась краской, да столь неудержимо, что даже слезы выступили у нее на глазах.
– А что касается упомянутого вами господина, то мне дела нет до той молвы, что ходит о нем. Но ей я сказала, еще в Париже: «Лиззи, я хочу оставаться честной девушкой…» И… словом, призналась ей, что люблю тебя. Но это не страшно, потому что вскоре я исчезну отсюда. А она отвечала в том духе, что мне, мол, незачем бежать из Парижа. На радостях я бросилась ей на шею. «Неужели ты настолько великодушна?» – спрашиваю по наивности.
Но супруга моя не пожелала, чтобы ее обнимали и благодарили незаслуженно.
– Фи, дурочка! – сурово одернула она барышню. – Я вовсе не великодушна, – и рассмеялась. Смеялась дольше приличествующего. Короче, высмеяла влюбленную девчонку. – Ни о каком великодушии и речи нет. Я скверная женщина, – и холодно посмотрела ей в глаза.
– И тогда я словно пробудилась ото сна, – завершила свой рассказ мисс Бортон.
Той ночью мне приснился дивный сон. Но сперва позвольте рассказать и о другом, о той нескончаемой ночи.
Какое-то время я сидел в постели, ни о чем не думая, когда вдруг уловил поблизости какое-то движение. Я вскинул голову, и взгляд мой упал на дневник.
– Ага, брат, и ты здесь. – Я протянул руку и заглянул внутрь. Интересно, где блуждали мои мысли в дебрях времени? И тотчас улыбнулся.
Потому что на самой первой странице стояло: «Имей в виду, что он сделал у себя в блокноте какую-то пометку. Не забудь об этом!» («Он», то есть Дэден.)
Прежде чем выпроводить нас с женой в Лондон. Ведь не следует забывать, что именно он уговорил меня переехать сюда. И я не почуял сразу же, что эти уговоры неспроста? А впоследствии разве не о нем была моя первая мысль, когда я обнаружил букетик фиалок?
Словом, интуиция и душа помогают человеку правильно разобраться в явлениях. Вот и я не ошибся. Наверняка они к тому времени уже разработали план перебраться сюда – сперва Лагранжиха, потом Дэден. Тогда что же мог он записать у себя в блокноте, если все шло как по маслу и я глупо, бездумно согласился податься сюда?
«Этот приручен», – по всей вероятности, пометил он для себя. То есть они обращались со мной, как с дрессированным животным. Но так не поступают с человеческим существом, сколь ни будь он в их глазах тварью низшей породы. Некрасиво это, ведь я не сделал им ничего плохого. И держать меня за животное тоже нельзя. Такое не должно проходить безнаказанно, не так ли?
– Поезжайте, а я последую за вами, – наверняка сказал он своей любовнице, как я и представлял себе это не раз. – И чтобы он утихомирился, ведите себя с ним поосторожней… Много времени не понадобится.
Как знать, где окажусь я в те поры, в каких опасных краях? Ведь не следует упускать из виду, что службу спасения тоже рекомендовал мне он. А это, если вдуматься, нешуточное дело. «Глядишь, и унесут его черти», – возможно, мелькала в их головах такая мыслишка. Все это, безусловно, стоит отметить для памяти.
Но вот что самое поразительное и необъяснимое: я-то поддался на все уговоры, вопреки голосу инстинкта. Самому сунуть голову в петлю? И, подобно страшному видению, возникли передо мной шлюха с горящими глазами и жаждущая избавления дурища Лагранжиха – милая дама, в обществе которой я провел рождественский сочельник.
– Обворожительная женщина моя супруга, не правда ли? – спросил я у мадам, повинуясь внезапному порыву. Она же уставилась на меня горящими, пустыми глазами, словно удивляясь моим словам и нескончаемому обожанию.
Лишь теперь разгадал я смысл ее улыбки.
Словом, только теперь я осознал, сколько попыток я предпринимал еще ранее и вплоть до последнего момента, когда окончательно решил уехать отсюда. И вот тебе расплата!
Все эти мысли я занес себе в дневник. На сей раз – я. Отчасти для того, чтобы не забыть. Ведь человек забывчив. Пройдет через сердце круговорот дня и ночи, и к утру все изменится. А сегодняшний день посвятим разбору обстоятельств. И дату поставим внизу. Потому как до пол второго ночи я ничем другим не занимался, кроме как заносил в дневник факты.
Прежде всего имена всех теософов: владельца пансиона – его они наверняка присмотрели заранее, как вполне отвечающего их целям, затем мадам Лагранж и мадам Пуленк – разве не одна шайка-лейка? И чуть не вскрикнул от удивления, когда мне вдруг пришел на ум господин Танненбаум. О нем я, в сущности, и думать забыл. Пренебрег этим юным господином, именно им, а почему – не могу объяснить и посейчас.
А ведь он тоже философ!
С другой стороны, я вел себя столь пунктуально, видимо, повинуясь какому-то побуждению. Явно хотел доказать кому-то – если не дай Бог до этого дойдет черед, – что все было именно так. Все мелочи, характерные детали, совершенно не понятные человеку в тот миг, когда он их проживает, и складывающиеся потом в его душе в четкую систему, подобную часовому механизму. И часы начинают ходить.
На отдельную страницу вынес слова, сказанные весовщиком во время процесса: «Правды на моей стороне больше, чем высказать можно. Да будет Господь милостив ко мне! И к вам, господа судьи».
Записав эту фразу, я лег. И хотя принял двойную дозу снотворного, то и дело просыпался. Последний раз, должно быть, часа в четыре. Пришлось проглотить еще один порошок.
Поутру меня разбудил стук в дверь. Залитая солнцем комната была прекрасной и все же настолько чужой, что я не сразу понял, где нахожусь. Подумалось, что где-то на службе.
Но затем в голове прояснилось. Я вспомнил убитого шофера и все остальное.
«Наверняка полиция!» – мелькнула мысль. Но нет, всего лишь срочная депеша от де Фриза. Мне было велено немедля отправляться в куксхавенский док – выполнить кое-какие поручения, а кроме того, там стояло под ремонтом мое судно… Я даже не стал читать послание до конца – к чему?
Все равно теперь я никуда не поеду и не пойду.
И лишь тогда мне вспомнился уже упомянутый дивный сон.
Хотя теперь не так уж легко его воспроизвести. Вроде бы ничего не происходило, и все же я испытывал райское блаженство. Кто-то склонился надо мною в темноте, с лампой в руках, и посветил мне в лицо. И словно раздвинул вокруг меня занавеси – вот и все. Будто заботливая, внимательная горничная.
– Чего вам вечно сидеть в потемках? – спросила она.
И я вроде бы сразу же понял, что она этим хочет сказать, и уже собирался ответить, но она внезапно исчезла. Растворилась, как просачивается вода сквозь пальцы. Хотя улыбка ее казалась вполне реальной, а глаза лучились приветливостью – больше всего сходства у нее было с луной. Когда беспокойными ночами она внезапно появляется на краю небосвода и свет ее воспринимаешь спросонок, как неясную улыбку.
Я бы рад был помечтать о ней и о женской доброте, так как чувствовал: она затем и пришла ко мне, чтобы напомнить – бывает в жизни и хорошее… Но меня сморил сон. После таких переживаний обычно засыпаешь крепче. А пробудился, словно оттого, что покойники привиделись. И за окном было совсем темно.
Когда я проснулся снова, за окном светился туман: какое-то время тлел красным, а в глубине будто вспыхивали огоньки пламени. Я быстро сел в постели.
«Опять будет гроза», – помял я сразу и вздрогнул. Разглядывал светящийся туман за окном, будто сроду не видел такого. Затем выскочил из постели.
Я проспал почти восемнадцать часов.
Основательно умылся холодной водой, в два счета набросил одежду и без промедления бросился вниз.
Уже на лестнице мне стало легче: все вокруг сияло, краски радовали глаз – Бог весть почему в гостиничных номерах они всегда унылые, размытые. Ну, а уж после первого глотка портвейна!..
Правы англичане: портвейн – лучшее из целебных средств.
Едва только по жилам разлился жар, на глазах чуть не выступили слезы, словно венчая мое сказочное рождение заново. Прямо совестно, до чего приятные чувства вызывала во мне жизнь. Свет, тепло, вино и ощущение голода. И все остальное тоже: мягкие ковры, гул голосов, звяканье и грохот посуды на столах. Словно возвращаешься с гор, промерзнув до костей: лицо горит огнем, в ушах легкий звон.
Негромкие смешки. Короткие пробежки официантов. И тишина. А когда вновь прибывшие постояльцы ступают на мягкий ковер, и с пальто их еще не стряхнут снег, все это казалось мне волшебным сном. Словно продолжались видения, вызванные действием морфия.
Вероятно, надо бы стыдиться, что дерзнул радоваться чему бы то ни было именно я. У меня нет ни малейшей охоты приукрашивать истину, все было так, как я описываю. Уж так устроен человек: стоит чему-то основательно тряхнуть его суть, само его существование, и он предстанет перед вами обнаженный. До самой души. Это ведь словно вихри налетают и отметают прочь все, что тебя угнетало, все мелкие беды и огорчения, и возникает, точно озаренная солнцем, глубокая, удивительная радость существования, которой ты никогда в себе не подозревал. Вдруг осознаешь как чудо, что ты жив. Разве не то же самое произошло со мной во время пожара на судне? Тогда, в самый критический момент, я выпил стакан лимонада, и даже кожа моя подрагивала от наслаждения жизнью, будто под лучами солнца.
Не стесняюсь признаться, что даже слезы капнули мне в тарелку, и не подсядь ко мне управляющий гостиницей, я бы форменным образом расплакался оттого, что нахожусь здесь, все еще здесь, окруженный светом и яркими красками. Только ведь мало что на свете удается без помех: управляющий болтал без умолку.
– Что за народ эти моряки, – говорит он мне, очевидно, желая подольститься на свой лад. Однажды он очутился в лодке с двумя такими отчаянными типами, каковы почти все моряки, не правда ли? Без конца приходилось одергивать их: «aber nicht spassen Sie, meine Herren, nicht spassen Sie, meine Herren!»[7]7
Ах, перестаньте шутить, господа, перестаньте шутить! (нем.).
[Закрыть] (управляющий, черт его побери, был австрийцем, весь Лондон наводнен иностранцами) – почему, как мне кажется? Да потому, что они раскачивали лодку, пытаясь опрокинуть ее вверх килем, и при этом хохотали.
Вот и я, мол, из таких же. Дикий и необузданный. Разве не вино стоит передо мною? Вчера пил всю ночь и опять пью.
– Зачем вы столько пьете? – спрашивает он, намекая на то, что сегодня утром на меня было тошно смотреть. Вернее, не сегодня, а вчера. И засмеялся, словно угадывая за этим нечто неладное.
– Кстати сказать, вид у вас тот еще, – добавил он.
– А в чем дело? Что во мне такого особенного?
– Я смотрю, женщины из вас все соки тянут, – говорит он. – Кожа да кости. А под кожей даже тонюсенькой прослойки жирка, и той не осталось.
– Ну, вы уж тоже скажете, – рассмеялся я.
– Вас съели с потрохами и переварили, – мило говорит он и поднимается с места.
– Меня не переварят – подавятся.
– Переварили, переварили, – упрямо повторяет он. Видать, словцо это ему понравилось. Повернулся и ушел по своим делам.
К счастью, его позвали к телефону, так что можно было снова помечтать. Чем я и занялся. Смотрел на запорошенные снегом окна и слушал свист ветра. Ненастье разыгралось не на шутку: сперва легкий снежок, затем метель вперемежку с дождем, и на стекле подле крупных снежинок пристраивались дождевые капли и стекали вниз. А ветер бушевал так, что даже занавески внутри ходили ходуном.
Затем внезапно все прекратилось – и буря, и тишина.
Сижу это я, поглощаю ужин, по-прежнему ушедший в свои думы, как вдруг до слуха моего доносится чистый, нежный смех. Причем знакомый.
– Опять мясом объедаетесь? – воркует нежный голосок. – Точь-в-точь первобытный человек.
И тут я понял, что предвещали мои сны прошлой ночью.
О дальнейшем расскажу вкратце.
Спиртного я влил в себя невероятное количество. А дело было так.
Передо мной стояла миссис Коббет. Велела оставить свой ужин и немедленно следовать за ней, потому как Кодор поджидает меня у подъезда. Ждет меня у них и еда, и выпивка получше, чем здесь!.. Щебечет, будто между нами ничего не случилось.
Кодор заехал в «Брайтон» заказать вина и сигары, а управляющий ему и говорит, что я, мол, здесь, и спрашивает, не желает ли он повидаться с Якабом?
– Как не желать! – отвечает Кодор. – Ступай, – говорит мне, – и приведи сюда этого Якаба. А у самого вид такой грустный – не передать. Ведь он, Кодор, по-прежнему привязан ко мне, как бы я ни пренебрегал их дружбой. Сколько раз вспоминал меня, сколько раз повторял, что хочет увидеться. Кстати, теперь он совсем не тот, что прежде, все время пребывает в хандре. Так что уж оказал бы я ему, Кодору, любезность, провел бы с ними вечерок. То-то радости будет старому приятелю!
– Да и мне тоже, – добавила она, потупясь.
А я смотрел на нее, точно на призрак какой. Разве не удивительно, что она заявилась именно сейчас?
На ней была шубка, крытая малиновым бархатом, сверкающие серьги в ушах. Ногти отполированы, зубы, глаза – все в идеальном порядке, как обычно, и в полном блеске, точно золотые часы… Да еще и эти греховные огоньки в глазах! И пока я целовал ей руки, она смеялась. Да-да, я приложился к ее ручкам, и она не возражала. Не дрогнула, не колыхнулась, прямая, как сосна, выдержала изъявления моей пылкой страсти, что в Англии, в общем-то, не принято.
– О, миссис Коббет! – выдохнул я завороженно. – Неужто я и впрямь вижу вас?! – Осыпал ее нежностями и восторгами, напрочь забыв, что должен бы сердиться на нее.
Иными словами, встреча эта была продолжением всех предыдущих событий, ведь еще не бывало со мной такого, чтобы я настолько радовался кому бы то ни было…
А если уж выражаться точнее, не знаю случая, чтобы я проявил трусость, какой никогда не испытывал прежде. Пятиться, отступать, спасаться бегством было совершенно мне не свойственно. Если сталкивался с какой-либо опасностью, останавливался и говорил про себя: «А ну-ка, посмотрим, чья возьмет!»
Но на сей раз все было иначе. Впервые я стоял столбом – ни понять, ни объяснить этого не могу. Ведь во мне всколыхнулась лихорадочная, страстная жажда жизни, невыразимо пылкое желание. Будь что угодно, лишь бы не погружаться больше в сон, потому что этого мне не хотелось. И возвращаться в ненавистную, сумрачную комнату – ни за что! Куда угодно уйти, болтать всякую ерунду, заняться чем-то новым – да ради Бога! Лишь бы только не спятить к утру окончательно.
Вот в каком состоянии пребывал я в тот момент.
«Не рвануть ли все же в Куксхавен с утренним поездом?» – мелькнула мысль сразу же, как только я увидел эту ослепительную пришелицу. И я не сводил глаз со сверкающих серег в ушах, с ее разгоряченного лица и глаз, где крылась сплошная черная бездна…
Как же ценят эти люди простые радости жизни! Словно начинают жить только сейчас, и каждый миг снова и снова.
А я разве не люблю жизнь? Мне разве не хочется жить?
Легко сказать, хватит, мол, пожил вдосталь. Но когда самому предстоит сделать первый шаг…
– Что вам вечно сидеть в потемках? – именно этот вопрос задала мне и другая – та милая горничная сегодня ночью.
Кодор позолоченным карандашом писал телеграммы в холле гостиницы и распорядился миссис Коббет подобрать вина.
– И велите загрузить их в машину, – приказал он. – Хотя бы часть прихватим с собой, я настроен на серьезную выпивку.
Миссис Коббет повиновалась.
– А вам не повредит? – рискнула спросить она.
– Нет, – отрезал Кодор тоном, не допускающим возражений. И продолжал писать. – Моему луженому желудку ничто не повредит, – добавил он, как обычно, потешая себя доморощенными шуточками.
Мне сразу же бросилось в глаза, как грубо обращается он с миссис Коббет и, словно в противовес тому, на редкость обходителен со мной.
– А-а, – приветствовал он меня, – куда же ты запропастился! Лотти столько раз вспоминала тебя…
Вот и попались: женщина говорит, будто бы Кодор вспоминал меня, а Кодор сваливает на нее…
Кстати, выглядел Кодор очень элегантно. Никакой тоски-печали на нем не отражалось, пожалуй, лишь речь его стала более краткой и безапелляционной. Вид был, бесспорно, парадный, словно он только что вышел из парикмахерской. Ни малейших следов неряшливости, даже карманы, прежде набитые чем попало, плотно прилегали, одет во все черное и новехонькое, с иголочки: безукоризненная шляпа, безупречные перчатки, и притом все скромное, не вызывающее. Только на локте посверкивал золотом набалдашник трости.
Наконец-то и этот фрукт стал похож на господина из благородных, настоящий миллионер, в котором не осталось ничего от прежнего рассеянного мошенника.
«Выходит, не разорился, и махинации с растительным маслом, видать, на пользу пошли», – пытался я угадать причину столь явной перемены. – Но нет, на лице у него отражалось совсем другое. Некоторая отупелость, какая бывает и у меня после череды переживаний. Но даже в кротости его был некий странный оттенок.
– Ах, дорогой мой дружище! – обращается он ко мне. (Прежде я и слов-то таких от него не слыхал: «дорогой мой», «дружище»… Да и до охов-ахов он никогда не снисходил.) – Как поживаешь, Якаб? – был следующий вопрос. (Что не в его привычках, потому как не интересовали его подобные глупости.) – Почему ты остановился в гостинице? С женой, что ли, развелся?
Зоркий глаз у мерзавца, ничего не скажешь.
– Да, развелся, – тихо вымолвил я и сам удивился, насколько эта тема мне не в тягость.
– И правильно сделал, – покосился он на меня поверх очков. – Правильный поступок. Конечно, если кто на него способен, – глянул он мне в глаза. И спокойно продолжил писать.
Наконец вина были погружены в автомобиль, и мы отправились.
Тут я должен упомянуть два эпизода.
Я никак не мог взять в толк, откуда в машине этот тошнотворный запах. Земли, плесени? Нет. Так пахнет свежевскопанная почва, мне даже чудился аромат травы – срезанная лопатой, она делается особенно пахучей. Чувство было кошмарным, поскольку я решил, что окончательно спятил с ума. Откуда взяться земле в автомобиле? А мне и ночью городилось невесть что. Сомнений нет, мне каюк, я лишился рассудка.
«Того гляди, задохнешься», – с тоской подумал я. Ведь стоит мне заговорить, и я нагоню страха на своих спутников.
Секунды тянулись мучительно долго. Я готов был выскочить из машины.
Отчего всеми силами цепляешься за воспоминания, когда они лишены всякого смысла или цели?
Ведь воспоминания – тоже боль, не что иное как горькая мука. Изменить прошлое невозможно, это не под силу не только мне. Сейчас я читаю Фому Аквинского, так, по его мнению, сам Господь с этим не совладает. То есть, если кого-то не любили в прошлом, тщетно восставать против этого; хоть ты тут переверни луну на небе, нет такой силы, которая была бы способна помочь. И все же поднатуживаешься и ворошишь, перебираешь в уме – а вдруг да нет, все было? Вдруг свершится чудо? Хоть на волосок сдвинется, подастся эта масса – эта окаянная, настырная, горькая бурда, к тому же неуловимая, поскольку ее и нет-то нигде.
Где мое прошлое? Где сохранился от него хоть какой-то внешний признак в доказательство того, что все было так, а не этак? Волны улеглись.
Но даже если они и улеглись, можно ли с этим смириться? Минувшее изменению не подлежит, значит, и быть по сему до скончания века, а ты, человек, созерцай, сам не свой от собственного бессилия?
Хорошо бы сказать кому-нибудь:
– О, я любил ее, теперь это уже не вызывает сомнений, любил без памяти, и вот до чего докатился!
Тем часом меня аж прошиб пот. К чему эти мысли? Что означают все эти знаки, а главное запах свежевскопанной земли? Я не хотел верить, протестовал каждым нервом, каждой клеточкой души – именно поэтому меня и тянуло выскочить из машины. Ведь это могила Лиззи! – зачем ходить вокруг да около? Я заранее вижу ее могилу – этот кошмар преследовал меня снова и снова, от этого было впору не только спятить, но и окочуриться.
Страх мой сделался непереносимым, когда Кодор вдруг сказал:
– Послушай, Лотти, открой же окно! Вонь – дышать нечем. Затхлый запах подвала.
– Они ведь сроду не моют бутылки, – пояснил он мне. И, обращаясь к своей любовнице: – Вино обычно держат в подвалах.
Что значили для меня его слова? Это в состоянии понять лишь утопающий, которого вытащили из воды.
Таков первый эпизод. У второго была иная подоплека.
Когда Кодор велел шоферу везти нас домой, я не обратил на это особого внимания. Решил, что мы едем на квартиру, где помещается его контора, там я бывал не раз. Тем большим было мое удивление, когда мы очутились на незнакомой улице.
– О, да ведь здесь живет миссис Коббет! – вдруг вспомнил я. И направился было к подъезду. Не иначе, как рассеянность была тому виною.
Но к счастью, я вовремя спохватился и тотчас повернул назад. Шофер выгружал из машины вина, а Кодор стоял возле автомобиля и пытался раскурить сигару, невзирая на дождь. Мне он позволил пройти первому – уж не из хитрости ли? Факт остается фактом: сердце у меня екнуло. При свете вспыхнувшей спички были хорошо видны его глаза – спокойные, но внимательные.
«Он прав, – подумал я. – Одно движение может выдать человека с головой. Разве сам я не готовил такую же ловушку мальчику-слуге?»
Не скрывается ли здесь аналогичный расчет? Эге, оказывается он тут знает все ходы-выходы!
Надо быть начеку. Ведь странно, что он без всякого предупреждения привез меня сюда.
Похоже, моя промашка последствий не имела. Я много пил, пожалуй, даже слишком много. И беззастенчиво обращался с Кодором. Сообщил ему, к примеру, что побывал в Брюгге, получил работу, больше того, у меня на судне есть свободное место и я получил разрешение взять с собой кого-нибудь, поскольку предполагалось, что со мной поедет жена… Однако теперь из этого ничего не получится, поскольку я неожиданно развелся. Сказал все прямо, без обиняков и стал ждать, последуют ли со стороны Кодора обычные бесцеремонные замечания. И когда он начал мямлить, что он-де очень рад, коль скоро его слово у господина де Фриза имеет вес, я прервал его:
– Не имело оно веса. Должность я получил без твоей помощи. Поехали дальше.
Тут он притих и весь как-то скукожился, во всяком случае, в моих глазах. Будто смотришь в перевернутый бинокль, и человечишка кажется букашкой.
– Видишь ли, – подкатывается он ко мне снова, – я понимаю, что столь незначительная персона, как я…
– Не сдавайся раньше времени, – не дал я ему договорить, – не такая уж ты незначительная персона. Но и надрываться, чтобы выйти в великие, тоже не стоит. Пошли дальше.
Словом, я с ним не очень-то церемонился. Он был противен мне, этот грубиян, притворяющийся кавалером, с его вечными хитроумными подвохами, и я дорого дал бы, лишь бы узнать, что все его ухищрения напрасны и он на чем-то свернул себе шею. «Поскользнулся на масле», – внушал я себе, уж очень запала мне в душу прошлая его афера. Словом, присмотрелся я к нему еще разок повнимательней, и он не вызвал у меня симпатии. «Похож на грызуна», – определил я.
Зато с миссис Коббет я обращался нежней, чем с ангелом или родной сестрой, и на то были свои причины. Я видел: сверкает, блещет, а сама грустней некуда. Она, а не дружок ее. К тому же я упоминал, насколько груб был сегодня с ней Кодор, значит, мне тем более следовало держаться учтиво. Заметил я и еще другое, что никогда не оставляет меня равнодушным: до какой степени благодарна эта женщина за каждую каплю внимания. Выходит, она настолько покорна? Открытие подействовало на меня неприятно, ведь и сам я некогда поступил с ней довольно мерзко.
Но на одной ненависти долго не продержишься, надо ведь и любить кого-то.
– Как вы милы ко мне сегодня, – шепнула она мне, улучив момент, и даже коснулась моей руки.
А лучистые глаза ее напоминали сад, где есть тенистые и светлые уголки.
– Только старайтесь не раздражать его, – она умоляюще взглянула на меня. С чего бы это? Правда, я растоптал «шикарную» сигару господина Кодора.
– Подними! – велел он миссис Коббет, когда сигара упала на пол.
– Не станет она поднимать, – вмешался я и растоптал сигару.
Кодор воспринял мой взбрык добродушно, то есть сделал вид, будто способен переступить через такие пустяки.
– Поделом скупердяю, – сказал он. – Эка важность, мексиканская сигара! За полгинеи можно купить новую, не правда ли?
В комнате воцарилось молчание, поскольку никто ему не ответил.
А потом мы даже пели.
Должен заметить, в тот вечер спиртное до того пришлось мне по вкусу, что я сказал себе: ничего лучше не бывает. Вино оказалось именно тем, что нужно, оно словно вливало в меня жизненные соки. И конечно, мир предстал в радужных тонах. А уж когда миссис Коббет села к роялю!..
– Может, споешь что-нибудь? – попросил Кодор. Миссис Коббет опустила голову. – Тем более что у нас в гостях Якаб, он наверняка хочет послушать тебя. У нее дивный голос, – пояснил он мне, словно предлагая качественный товар.
– А как же иначе? – продолжал он. – Ведь это я позаботился о ее обучении, но ее никогда не допросишься спеть мне.
В руке миссис Коббет дрогнул бокал, и вино пролилось на платье. Судя по всему, она нервничала. И тут произошла сцена, смысл которой мне был не совсем понятен.
– Спеть? – недовольно воскликнула она. – Вы каждый раз являетесь, когда… Они опять станут жаловаться, что я не даю им покоя.
– Тише, тише! – перебил ее Кодор. – Если дело касается меня, они никогда не выражают претензий, ты и сама хорошо знаешь. Кстати, их нет дома. Разве не при тебе вчера здесь, в этой комнате, они сказали, что собираются в кино?
Повторяю, я не уловил сути дела, да и не хотел вникать. Миссис Коббет наконец решилась, и вскоре зазвучала песнь. Мелодия дивно струилась – подобно ручью растекалась по моим нервам.
«Что клонишься надо мной, туча черная», «Мое сердце изболелось за тебя», «Ах, сколько тайн в тиши ночной / Узнаешь ты из перешептыванья листьев», эти и другие сплошь популярные песенки исполняла наша певица, но зато с каким вдохновением! Она целиком погрузилась в воображаемый мир, слившись с ним.
Дошло до того, что и я разохотился попеть. Кодор был на седьмом небе от радости, что я так хорошо себя у них чувствую.
– Вот видишь, – сказал он, – до чего славно ты веселишься у нас! – и добавил: – Я весьма польщен.
Польщен? Да мне-то что! Подобно зарвавшемуся юнцу, успешно вращающемуся в какой-либо среде, которая ему даже не знакома, я чувствовал в себе беспредельную мощь. Впрочем, я вообще не знаю ничего более отрадного, чем застольное пение. Я чувствовал себя покорителем мира, чуть ли не растворившемся в пространстве.
Правда, выдал я сплошь грубые, настоящие матросские песни. Одну о девушках с Востока, которая начиналась словами: «Ах, ты японочка, ты китаяночка, мои красавицы…», а заканчивалась выкриком: «Эй-хо, хо-хо!» И еще одну, про то, как исчезает из кармана последний шестипенсовик. («When the last penny is out.»)
«Когда последний шестипенсовик покинет твой карман,
Не плачь, друган, не плачь, друган!
Коль не на что купить тебе вино,
Ты смело постучи ко мне в окно!»
– драл я глотку так, что стены сотрясались.
Миссис Коббет сияла, как полная луна. С чего бы уж это, понятия не имею. Певец из меня никудышный, я ведь пению не обучался. Да и песни – все сплошь неуклюжие самоделки, в них даже чувств нету, которых она, возможно, ожидала в ответ на свои мелодии с нежными словами.
«Может, она силе легких моих дивится?» – подумал я. Что есть, то есть, от моего пения аж стекла дребезжали.
От моего пения да от бури, что разыгралась снаружи и билась в окна, пока я в комнате надрывал глотку. Когда же я умолк, тишина оглушила меня. Что до миссис Коббет, она, похоже, вообразила себя в открытом море, так как улыбалась блаженной улыбкой.
Дело в том, что мы с ней совершили глупость, распустив языки в присутствии Кодора. Начали с невинных учтивостей: до чего, мол, хорошо мне здесь, да как я счастлив, что имел возможность посетить их. На это Кодор ответил, что он тоже счастлив, доставив мне такое удовольствие… но эти его слова повисли в воздухе. Впрочем, он сидел в кресле, закрыв глаза, вроде как дремал, но я-то знал, что он притворяется. И все же… Склонился к сидящей за роялем миссис Коббет, как будто перелистать ноты, но так, чтобы коснуться ухом ее дивных черных локонов. И почувствовал вдруг, как она на миг прижалась разгоряченной щекой к моему лицу.
Кто бы мог сдержаться в подобной ситуации?









