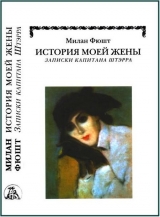
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Часть четвертая

 обственно, и рассказывать уже почти что нечего.
обственно, и рассказывать уже почти что нечего.
Поработал я на фирму «Мичанг и Надольны», в особенности на господина Мартона Надольны, поставлял ему химические вещества, парафин и всякое-разное, поплавал по различным морям, на пару с венгром, неким Каролли, и мы весьма неплохо справлялись. Но стоит ли входить в подробности?
Достаточно упомянуть, что мне уже тогда удавалось кое-что отложить, и все же я был недоволен собой, не находил покоя – спал и видел заполучить большие деньги и как хищник набрасывался на работу. Да и вообще, терпеть не мог, чтобы голова была ничем не занята. Видимо, поэтому прежние рамки, кропотливая возня с мелкими сделками не удовлетворяла меня. И море тоже. Но этому я даже не удивлялся.
Что ни говорите, а человек меняется в ходе десятилетий, особенно если долгое время проводит на суше. Не был я уже прежним мореходом, ведь быть моряком – достаточно необычное состояние, которого не понять тому, кто его не испытал. Упомяну хотя бы одну особенность: у такого человека, к примеру, ничего нет за душой, да он и не очень-то знает о своей собственности. По крайней мере, в том смысле, как это принято понимать. Спросите у него: это твое? Если по совести, он бы должен ответить: почем мне знать? Ведь то, что у него есть, лишь временно принадлежит ему. Смоет первою же волной, выманит первый попавшийся дружок или черт заберет в очередном притоне… И когда все спущено, он объявляется снова в конторе по найму, да с такой просительной улыбкой! Ему бы только заполучить работенку, и все – а точнее, ничего – начать сначала.
Сколько же я ломал над этим голову!
Что заставляет их месяцами томиться взаперти в длительных рейсах на парусниках, в авральных трудах, питаться гнилой солониной, жить без семьи, обходиться без женщины, чтобы к концу пути грызться друг с другом, как остервенелые псы? Что привлекательного находят они в нескончаемых штормах? Кто способен заглянуть к ним в душу и понять, чего ради сносят они жажду, цингу или скуку?
У меня, например, земля горела под ногами. Да и темп сухопутной жизни я не мог терпеть подолгу. Ведь иногда ничем другим не занимаешься, кроме как слоняешься без дела.
Может, я и прежде не был таким уж завзятым моряком? Вполне возможно. «Не беда, – утешал я себя. – Тогда возьмемся за что-нибудь другое. Начнем все сначала».
Здоровье стало уже не то, также не стоит забывать. Механизм ведь снашивается. Все нервы истрепали мне непрестанные ветры: ледяной пилой впивались в спину, особенно среди ночи, и в результате, конечно, разболелись суставы.
Вот и оставил я судоходство вскоре, как только представилась другая возможность. Покинул безо всякой печали. «Хватит, – подумал я и подвел краткий итог долгих лет. – Когда-то я многого ждал от моря: мирной жизни, нерушимого покоя, всего, что только может пожелать душа человеческая, но разочаровался. На том покончим и пойдем дальше».
Однако прежде чем окончательно распрощаться с морем, хочу описать еще одно расставание – себе для памяти. Судьба тогда снова забросила меня к греческим берегам, к тем утесам, откуда якобы Сафо бросилась в море. И здесь, по установившемуся обыкновению, я дал три коротких гудка и один длинный. И так несколько раз подряд. Жил здесь когда-то, во времена моей давней службы, бедный смотритель маяка, которого я знавал еще в лучшую пору, вот мне и хотелось проверить, жив ли он. И получил ответ.
– Да это же Якаб, это Якаб, – флажковой сигнализацией выразил он мне со скалы свою радость, затем сообщил, что жена его разрешилась от бремени и ей требуется аспирин.
Послал я ему аспирина. А поскольку это скорей всего была наша последняя встреча в сем подлунном мире, я и распрощался с ним письмом, приложив небольшой подарок ребенку. Ведь это было мое последнее плавание. Тогда я уже знал, где осяду, чем стану заниматься на берегу, словом, знал все, поскольку наконец-то попал в подходящую компанию серьезных людей. Эти – чисто заплечных дел мастера: что в кулак попало, так и хрустит в кармане.
Случай свел меня с неким весьма ловким торговцем резиной по фамилии Бобеняк, затем с Аурелом Г. Анастазином… впрочем, опустим подробности за ненадобностью. Достаточно сказать, что мне удалось сколотить капиталец. Сперва поменьше, затем посолиднее – в Южной Америке. Конечно, это легко сказать, да непросто осуществить. Словно ветер повернул в другую сторону, вдруг привалила мне удача, да таким косяком, что я и сам не ждал. Даже страшновато делается. Да вот, к примеру, один случай. Какое-то время находился я в Нью-Йорке, – а мне и без того здорово везло – сидишь, что называется, купаясь в деньгах, даже душа и та в деньгах погрязла, как вдруг однажды утром будят меня сообщением, что некий универсальный магазин возвращает мне какие-то четыре доллара. Случайно посчитали покупку дороже. А я понятия не имел, откуда узнали мой адрес и имя.
Как известно, деньги к деньгам идут, прибыльные сделки, выгодные связи, одно влечет за собой другое: уголь – вагоны, вагоны – транспортировку, только успевай поворачиваться. Наконец-то я получил возможность трудиться на износ, буквально ненавидел воскресенья, когда стихала вокруг суета и контора моя зияла пустотой. Не зная, чем занять себя, я едва мог дождаться завтрашнего дня, чтобы снова гремел и крутился привычный механизм, поскольку надоело мне попусту философствовать, да и охота отпала.
Устал я, выдохся в одночасье.
Не забыть мне красоту яблоневых деревьев, которые негустыми рядами со спокойным достоинством провожали меня через знакомые сады до самой вершины горы, то есть до того места, где жила сеньорита Ц. Х. Инес. (В тех южных краях яблони дают хороший урожай, только плоды не такие вкусные, как наши.) Вновь было воскресенье, тихий день, запоздалое сияние которого плавно переходит в сумерки. И деревья выглядели, как золотые яблони в сказке: кроны почти округлые, а плоды спелые, светло-золотистые. И, отдыхая под сенью яблонь, я решил распроститься с красотами Южной Америки. Ликвидировать здешние дела и вернуться в северные дали… скажем, на благословенные земли Франции – таков был мой план. А с горы открывался вид на море.
И когда я увидел этот бескрайний простор, поле моих невероятных усилий, во мне еще более окрепло убеждение: надо бы отдохнуть, приспела пора. Жизнь прожита, страсти улеглись. Окончательно.
«Не в лошадки же здесь играть?» – думалось мне. В том городе был обычай под вечер развлекаться верховой ездой или в легких колясках, запряженных низкорослыми, гривастыми лошадками, сновать взад-вперед по аллеям променада. Ко лбу лошадок были прикреплены крохотные электрические лампочки, и их косматые головы светились в темноте, придавая им сходство со сказочными крылатыми копями – конечно, на уровне примитивной фантазии служанок. Даже я готов был поддаться соблазну и завести такого пегаску за неимением других развлечений.
– В самом деле, отчего бы вам не обзавестись таким миниатюрным скакуном? – поинтересовалась однажды Ц. Х. Инес, сестра одного из моих деловых партнеров, весьма влиятельного господина. Заслышав этот вопрос, роящиеся вокруг кавалеры принялись столь загадочно улыбаться, будто провидя некие тайные радости при таком обороте событий. Один из них даже коснулся моего локтя, а в глазах его вспыхнули огоньки сладострастия. Еще бы, возникла возможность, что я приглашу сеньориту прокатиться, а смысл подобного приглашения в данных краях общеизвестен: совместное катание ко многому обязывает. Братья здесь строжайшим образом оберегают честь дамы. А с учетом деловых связей…
«Ну, уж нет!» – решил я, не испытывая ни малейшего желания обзавестись ни мрачноватым демоном, ни ясноокой, склонной пожертвовать своими прелестями подругой жизни, у которой все мысли как на ладони, даже обед состоит только из салата, и сама она знай норовит заглянуть своим проникновенным взором в самые потаенные глубины твоей души. Вот и эта сеньорита была такой же породы. Но мне больше не хотелось испытывать судьбу.
Ее не назовешь дурнушкой, но даже поговорить с ней толком нельзя. Во всяком случае, что касается меня. Ведь все языки не выучишь, вот я и споткнулся на испанском. А она, хотя и рвалась беседовать по-немецки и всячески старалась доказать свои способности, что и не мудрено, имея в немках мамашу, у нее ничего не получалось. «So mankes»[8]8
Так, кое-что (искаж. нем.).
[Закрыть], – повторяла она без конца. Если ничего не приходило ей на ум, она, как правило, отделывалась своим «So mankes». О чем с такой поговоришь? А уж про характер страстотерпицы я вообще молчу…
«Нет, – подумал я, – пора поднимать паруса и брать курс к родным берегам».
Сообщил своим партнерам, что отправляюсь в Европу, готовить почву для ряда крупных контрактов и передал свою контору Перьямину, в высшей степени порядочному молодому человеку, которого в ту пору считал чуть ли не родным сыном… Он не прогадал, да и я внакладе не остался, так как оговорил за собой внушительную годовую прибыль.
И вот, с контрактом в кармане, с приличным состоянием после восьми лет и четырех месяцев отсутствия я двинулся в путь к Европе, – подобно Синдбаду-мореходу, предварительно должным образом распрощавшись со своими тамошними друзьями.
Такова вкратце история моего обогащения. Может, я еще вернусь к ней, если время позволит.
Первым делом я направился в Лондон. Ну, думаю, уж коль скоро меня опять сюда занесло, наведаюсь-ка я в те места, где мне столько всего довелось пережить десяток лет назад. В пансион, где я некогда обитал, я все же не стал заглядывать, зато повидать мисс Бортон был не прочь.
– Ой, это вы? – воскликнула она, представ передо мной после некоторых проволочек. Ведь я безо всякого предупреждения объявился у них в один не прекрасный, но хмурый день. Красивый дом, с садом, все честь по чести…
– Ой, неужели это вы? – испуганно всплеснула она руками. – До чего же вы изменились, господин капитан…
– А уж вы-то!.. – так и подмывало меня ответить. И откровенно говоря, я не решался особо в нее вглядываться.
На какие чудеса способна природа!
Скажите, возможно ли, чтобы взрослая, сформировавшаяся женщина, выйдя замуж, даже подросла – слышали вы подобное? А вот у меня было именно такое впечатление, что эта дама раздалась и ввысь, и вширь. Вдобавок на ней был надет какой-то гладко-белый балахон, что придавало ей определенное сходство с Ниобеей. По ней было видно, что она без передышки кормит грудью одного младенца за другим и впредь – прости меня, Господи! – изменять этому занятию не собирается.
Что сказать о ее супруге? Он воззвал к моему сердцу таковыми словами:
– Добро пожаловать, господин капитан, в обитель, где все упоминают ваше имя с почтением. – И поднял на меня свои голубые, девически чистые глаза… Они блеснули синевой, напомнив тихую гладь спокойных озер Америки.
Ах ты, так тебя распротак, на кой ляд я сюда притащился! И я уже видел себя, вернее, удачливую свою половину: низко надвинув на глаза свою черную шляпу, я пробираюсь сквозь тьму и ветер и скрываюсь в переулках лондонского пригорода. Иными словами, нельзя возвращаться к прошлому.
Затем мы потолковали о том о сем, о человеческом счастье, как в таких случаях неизбежно. Суть разговора мне не запомнилась. Помню только, как во время беседы оглушительно лаяла их собака, а они урезонивали ее по-французски, потому как общались с собакой именно на этом языке. И разумеется, речь зашла о моей жене – миссис Эдерс-Хилл не смогла удержаться, чтобы не упомянуть ее: пусть мимоходом, ненавязчиво, но все равно с ее стороны это было некрасиво. Это чувство сохранилось у меня и поныне. Правда ли, что я развелся? – Да.
Подали закусить.
– Может, вы не любите масло? – спрашивает меня она же, то бишь бывшая мисс Бортон, моя прелесть, чаровница. Не люблю ли я масло?
– Как не любить! Люблю до без памяти.
– А сладкие бриоши?
– И бриоши люблю-обмираю. Вот только намазывать одно на другое – избегаю. И буду избегать до конца дней моих.
О, до чего славная пара! Вот такие перлы они выдавали:
– Мы очень счастливы, господин капитан.
– Мы придерживаемся очень разумного образа жизни. – И даже спросили, верю ли я этим их утверждениям. А о детях отозвались так:
– Не желаете ли подняться на второй этаж, взглянуть на наших милых зверюшек? Правда, сейчас с ними не все в порядке…
– Уж не хворают ли они? – всполошился я.
Боже упаси, как я только мог такое подумать! Нет, просто расшалились, словно мышки. Но у них, родителей, на такие случаи разработана безошибочная методика. Интересует ли меня эта тема?
– Как же, как же! Конечно, интересует! – воскликнул я.
– Тогда слушайте! – сказал мистер Эдерс-Хилл.
– Только рассказывай со всеми подробностями, – предупредила его супруга.
Словом, они не наказывают детей розгами, как до сих пор практикуют по всей Англии отсталые учителя, они придумали другое, поскольку грубость им не по нраву. Хочу ли я знать, что именно? Буду счастлив узнать. Тогда они расскажут. Если ребенок плохо себя ведет, его одевают в праздничный костюмчик, поскольку в нем нельзя шуметь и озорничать… Здесь родители обменялись многозначительными улыбками опытных укротителей.
– А если даже этого недостаточно, укладываем их в постель. Самое верное средство.
– Малыш не иначе как болен, – говорят ему так, будто у него температура или колики в желудке. Ребенок чуть с ума не сходит, ведь у него ничего не болит. – Не может быть, – возражают ему. – Разве здоровый мальчик будет вести себя, как злой бесенок, не правда ли? – Прикладывают ему к животу компресс, поят касторкой и так далее… Вот и в данный момент такая ситуация. Какого я мнения на этот счет? Я от восторга даже слегка хлопнул себя по лбу.
– По-моему, все правильно, – сказал я. – Вы очень мудро поступаете, мадам. Ведь истинное воспитание заключается не в одном сюсюканье, строгость тоже рекомендуется.
День прошел в сплошных восторгах.
Однако стоит ли иронизировать? Ведь детишки действительно славные крепыши, как оказалось, когда мы вторглись в теплое нутро семейного гнезда: этого избежать не удалось, поскольку меня силой втащили на второй этаж. Подобно крохотным львятам, лежали они в своих кроватках, расстроенные и надутые, пять штук и, если не ошибаюсь, все мальчики. Один даже заметил вслух: «Дали бы хоть кусочек шоколада»… Родители глянули на меня с гордостью.
Повторяю: насмешничай я сколько угодно, но бутузы – весь комплект – были прямо-таки напичканы витаминами. У меня даже мелькнула опасливая мысль, не лопнут ли они от такого количества питательных веществ?
Словом, убрался я отсюда к чертям собачьим. Но допрежь того бросил взгляд кой-куда. Даже нечистый и тот оглядывается, прежде чем выйти из дому.
Во второй гостиной висел дивный портрет девушки с небесным светом в очах. То была моя малышка мисс Бортон, разодетая в зеленые шелка: маленькие грудки, как запретные яблоки, лобик твердый, ручки трепетные, точно пара голубков.
Только лесенки недоставало для моих прежних представлений, дабы могла она по ней куда-нибудь подняться ввысь.
Куда все это девается, куда исчезает: перемалывается в муку? Растворяется в исполнившихся желаниях?
Я почувствовал себя почти счастливым, оттого что не застрял здесь в былое время.
Да, чтоб не забыть!.. Выйдя из детской, я увидел еще кое-что, так как дверь в спальню была открыта настежь и моим глазам предстала святыня в образе супружеского ложа. Широкие, здоровенные кровати – пусть супругам на них сладко спится! – но это еще ладно. Над ложем висели изображения святых мучеников, и это никак у меня в голове не умещалось. Неужели терзания этих несчастных не отбивают охоту к супружеским утехам? Мне бы, например, напрочь отбило. Да при одной мысли об этом бросает в дрожь!
После столь разнообразных впечатлений я решил, что даже к Кодору наведываться не стану, и довольствовался дошедшими до меня слухами о нем.
Итак: Кодор не умер от той страшной болезни, хотя конец его был близок и врачи поставили на нем крест. И вдруг, чудесным образом, к величайшему изумлению лекарей, он выздоровел. (Что почти естественно, если учесть, что вся жизнь его была полна чудес.) Ведь специалисты установили рак, ну а уж когда взялись оперировать!.. Вскрыли, поняли, что случай совершенно безнадежный, и не прикасаясь к опухоли, снова зашили. И вот, в один прекрасный весенний день, Кодор велел подать ему пива и с тех пор ежедневно выпивал по две пииты.
По этой ли причине он излечился окончательно? Сам Кодор утверждает это со всей определенностью. Мне тоже доводилось слышать с тех пор, что подобное явление известно, встречаются опухоли с причудами: стоит вскрыть пораженную полость, и они чудесным образом заживают, судя по всему, под воздействием воздуха.
Впрочем, обстоятельства не так уж и важны, суть же в том, что Кодор чувствует себя хорошо, про хвори и думать забыл и разбогател пуще прежнего. Достиг небывалых высот… аж до самого звездного неба, как выразился безмозглый управляющий «Брайтона».
Он по-прежнему прочно занимал свое место, таким ничего не делается. Целый мир вокруг него ушел под землю, среди них прекраснейшие люди, в том числе и другой управляющий гостиницей, которого я очень почитал, и Грегори Сандерс, кого я очень любил. Но этому толстобрюхому бег времени был нипочем: он, как и прежде, околачивался здесь, вблизи лифтов и вентиляторов, едва постарев. Больше того, даже взгляд его остался прежним: презрительный и пустой, как у верблюда.
– Вот видите, что значит судьба, – изрек он. – К одному, лицом, к другому – совсем наоборот. Нет здесь никакой системы. Миссис Коббет, к примеру, совершенно опустилась. Да-да, – кивнул он с многозначительной улыбкой. – Отправилась в Америку и там сгинула среди ночей.
Он странно рассказывал об этом: язвительно и не без страха. Должно быть, воображал, бедняга, будто бы там буйно процветает разврат, а ночи, подобно вампирам, высасывают из человека все жизненные соки.
Я ничего не ответил ему.
– Ой! – вскрикнул он вдруг. – Ну, и странный же вы человек! В жизни своей таких не встречал. Подхватился и уехал отсюда в два счета. Нет, чтобы сказать, куда пересылать вам почту, а вас тут письмо дожидается. Вовремя же я спохватился, а вам даже ни к чему спросить, нет ли каких посланий! – И он метнулся к кассе.
Когда же я, едва глянув, даже не распечатал письмо, он и вовсе опешил. А мне достало одного беглого взгляда, чтобы сразу же бросить письмо в сумку, где хранились прочие бумаги.
– И такого отродясь не видал! – поразился он. – Удивительный вы человек. Неужто вам даже не любопытно? Я четыре года храню письмо, а он и в конверт не заглянет!
– Если оно столько времени здесь пролежало, то теперь уже не к спеху.
– Вот он что… – пробормотал он. – По крайней мере теперь я вижу, как сколачивают состояния.
– Попытайте счастья! – рассмеялся я.
Однако факт, что, уезжая, я действительно не оставил никакого адреса. Всего один-два человека знали, куда я отправляюсь, остальным нет никакого дела до меня. Словом, оборвал я тогда все здешние контакты и даже возможности связаться со мной.
Читай я письмо сей же час, когда я сразу увидел, что оно – от моей жены!
Да и как было не увидеть! Адрес на конверте напечатан на машинке, коричневым шрифтом, но само письмо пришло из Барселоны. А поскольку у меня в Испании нет никаких других знакомых, а жена моя отправлялась именно туда – я слышал от многих, что она обосновалась в окрестностях Мадрида, – значит, послание, несомненно, от нее.
(Барселону, кстати, она часто вспоминала, подчеркивая, до чего любит этот город.)
Но я больше не читаю писем от нее. Я ведь с самого начала знал, что она будет мне писать, только нам незачем – да и не о чем – переписываться. Будем считать, что я перестал существовать для нее, а стало быть, и все общие дела тоже. Словно бы смерть перерезала наши жизни надвое, окончательно и бесповоротно.
Потому-то я не колеблясь бросил письмо в сумку. Сожгу, когда останусь один, ведь его даже обратно не отправишь, поскольку отправитель не значится – это я отметил сразу же. Порвать на глазах у управляющего? Много чести доставлять ему такое удовольствие. Он и без того чересчур интересуется моими делами.
– Не женились вы там? – лезет он ко мне с расспросами.
– Что значит – женился? Ведь я женатый человек, сударь мой.
– Как это – женатый?
– Да вот так! – отрезал я.
И тут он наконец-то обиделся. Посопел недовольно и встал с места.
Выходит, следят за твоими делами. Этот субъект знал, что я развелся. Кстати, где бы я ни появлялся, к ней проявляли интерес повсюду и невольно, хотя и не были с ней знакомы, да и я никогда не говорил о ней.
И как ни странно, все же это случилось. Стоило только мне ступить в Европу.
Как началось, так и продолжилось.
Едва успел я приехать в Париж, и мне снова пришлось заниматься ею. Позвонил мой адвокат – сообщить, что на мое имя есть поступление в один из здешних банков, судя по всему, связанное с транспортировкой каких-то грузов.
– Каких еще грузов? – поинтересовался я, но он понятия не имел.
Сам я тоже не помнил, чтобы когда-либо у меня были здесь дела подобного рода. Понапрасну изучал я на другой день банковское извещение: на мое имя положен вклад, поступают проценты, – мне это ничего не прояснило. А я привык к ясности в делах, не пренебрегая даже мелочами.
Хорошо помню, было раннее утро, примерно через месяц после моего приезда, тогда я жил еще в гостинице. Сидя в постели, я долго разглядывал банковское извещение, словно чувствуя, что это опять какая-то весть из прошлого. Но какая? Продажей с аукциона я никогда не занимался – во всяком случае, в Париже, – а в документе шла речь и об этом.
Я ломал голову, а о простейшем варианте не подумал.
– Отчего бы вам не позвонить в контору, на которую мы ссылаемся в своем письме? Бумага у вас в руках, прочтите номер телефона, – посоветовал мне нахальный клерк, когда я обратился в банк. (Французы ведут себя на редкость высокомерно, особенно с иностранцами.) И можете представить себе мое удивление, когда я позвонил в фирму и мне ответили в точности следующее:
– Алло, это Танненбаум. Кто говорит и что вам угодно?
Я чуть не свалился с кровати.
– Да не шутите! – ответил я. – Танненбаум-младший, собственной персоной, не так ли?
Конечно, такие вопросы задаешь только от смущения. На что он, все с тем же неколебимым спокойствием:
– Кто же еще? А стадо быть, собственной персоной. По-другому не бывает. Чем могу быть полезен, сударь?
Значит, философ точно он. После этих слов не может быть никаких сомнений.
Только с какой стати он лезет ко мне в душу с ногами, коль скоро я не хотел и не хочу его знать? Если он приходил мне на память, я принимался насвистывать. Его я никогда не принимал всерьез, и вот он здесь, здравствуйте пожалуйста! Но зачем?
Начато – следует разобраться. Я попытался изложить суть дела. И вот ведь что интересно: даже объяснять не пришлось, он сразу смекнул, что к чему. Оказалось, молодой человек прекрасно помнит нас.
– Ах, это дамочка, которая отправилась в Лондон, а оттуда в Испанию, верно? – воскликнул он.
Короче говоря, в уплату за хранение вещей они вынуждены были пустить с молотка мое барахлишко и мебель, которые мы оставили у них на складе при отъезде в Лондон.
– Само собой разумеется, сударь, поскольку никто не платил за аренду склада, и некого было известить, почти все средства от аукционной распродажи ушли на покрытие наших расходов, а та скромная сумма, что осталась, положена на депозит, и вы можете ее получить, – объяснил он. – Равно как и барахлишко мадам, которое не удалось распродать.
Мой слух задело это слово. Не только потому, что молодой человек отнесся с таким пренебрежением к моему скромному имуществу, приравняв его к помоечному хламу, но главным образом потому, что считал его принадлежащим моей жене. Я не мог оставить этот факт без внимания.
– И у вас хватило духу пустить с молотка вещи вашей любовницы? – тихо спросил я самым что ни на есть миролюбивым тоном. Пораженный моим вопросом, он тотчас перешел к другой манере общения.
– Как вы изволили выразиться?
– Знаете, что, – сказал я, – хватит ломать комедию. Надоело! Моя бывшая жена была вашей любовницей, а вы не сочли нужным оказать ей услугу, сохранив ее мебель и убогое барахлишко, как вы учтиво выразились? Не притворяйтесь, уважаемый! – не дал я ему раскрыть рта. – Мне все известно. Я знаю, что вы философ, знаю, что вы переписывались… Помолчите! О расшитых шлепанцах, о пташках – я обо всем осведомлен. Супруга во всем призналась мне под конец.
– Что вы говорите?! – спрашивает он опять, и чувствуется по голосу, что он задыхается.
Но затем Танненбаум развеселился.
– Слов нет, интересно, – заметил он сперва. – Не будете ли столь любезны сообщить, в чем же именно призналась вам ваша супруга?
Я ничего не ответил, и он удовлетворенно расхохотался.
– Как жаль, что я не слышал этой исповеди, – весело продолжал он. – Ведь здесь, любезный сударь, имеет место недоразумение, ошибочная оценка личности. К сожалению, – добавил он. – Мне-то очень хотелось соблазнить вашу жену, но не удалось. Она устояла против моих поползновений.
– Вы здесь? – прокричал он в трубку.
– Продолжайте, – безразличным тоном ответил я.
– Так что извольте освежить ее память, если та настолько ослабла, и напишите ей в Испанию, что она меня с кем-то спутала. Что не со мной изменила вам, потому что я не из таких. Я был влюблен в нее до безумия, а она водила меня за нос, наглая, бессовестная мадам. Можете так прямо и написать, этими словами, передайте ей от моего имени. И еще напишите, что я, мол, рад больше не иметь с нею никаких дел… Да я ей шею готов был свернуть, а не то что спустить с молотка ее мебель! Я бесплатно давал ей уроки и я же еще храни ее мебель?
– Если мои слова кажутся вам оскорбительными, я к вашим услугам. Честь имею! – завершив сей витиеватый пассаж, он положил трубку.
Что же мне теперь, стреляться с ним на дуэли? К тому же из-за особы, которая давно обретается в других Палестинах?
«Не повезло бедному парню, – думал я. – Именно ему. А я теперь должен снести ему башку, или он мне?»
С мелкими делами я управился, а вот куда время девать?
В Южной Америке я долго вынашивал план забрать к себе в Париж моего друга Грегори Сандерса. Зажили бы мы с ним тихо-мирно как любящие братья. Приятная была мечта, поскольку я действительно любил старика. Пожалуй, он был единственным, о ком я могу сказать это безо всяких натяжек. И вот ведь какие странные шутки разыгрывает жизнь: эта истина лишь тогда предстала передо мной во всей своей несомненности, когда мы расстались, чтобы больше не встретиться. А может, всему виной злой рок, со всей беспощадностью обрушившийся на беднягу.
Ведь жизнь отнюдь не баловала его, а он еще в письмах утешал меня. Меж тем на старости лет он остался один как перст, сын промотал большую часть отцовского состояния, после чего сбежал с какой-то бабенкой, сам Сандерс не вылезал из хворей, потому я и мечтал забрать его к себе в Париж. Вот уж когда наговоримся всласть! И перед глазами у меня стояли следующие строки из его письма, присланного мне в Южную Америку:
«Город Хастингс, июль.Сегодня ко мне в окно залетел шмель и угодил под вентилятор, который ты прислал мне в начале лета. Лопасти тотчас захватили его и отбросили к моей руке, на книгу, которую я читал. Я внимательно разглядывал его, потому что было в этом эпизоде нечто, весьма заинтересовавшее меня. Шмель был еще жив, шевелил лапками, даже пытался ужалить меня.
Но в нем не было ни тени укора. Он не проклинал ни себя, ни свою участь, думая, что напрасно он залетел в это окошко. Судя по всему, он не разделял в своем сознании этот мир на события неизбежные и случайные… И стало быть, не терзался бесполезным сожалением, что тому или иному он сам был причиной… Ибо то, что стряслось с ним, – закономерно. Словом, случайное он принимает за неизбежное, чему следовало бы у него поучиться, так как, судя по всему, подобное восприятие свойственно здешнему мироустройству. Значит, надо бы прийти к тому же обратным путем: следует быть более гибким, друг мой. Чаще склонять голову, ниже и покорнее. И для тебя было бы полезней, и для меня – вот тебе мой наказ».
Очень подействовали на меня его слова и настолько утишили мои самообвинения, что именно тогда зародилось во мне решение перевезти его к себе. Не скрою, я даже был доволен собой, что вместо дурацких грандиозных замыслов я отдаю предпочтение простой задаче. Радовался, что додумался до этого, что теперь точно знаю: он мне необходим и его общество мне желанно.
Написал он мне и другое содержательное письмо, непосредственно перед смертью, этому посланию я обязан еще большим. Вот как оно звучит:
«Характерно здесь вот что: до сих пор ни в одном создании не возникало внезапного чувства, что я живу в нем, то есть оно почувствовало бы в себе мою жизнь
(жизнь человека, которого впоследствии нарекли Грегори Сандерсом).Ведь с тех пор как существует мир, подобного никогда не случалось, а вот теперь, в середине прошлого века, это неожиданно произошло со мною: в один прекрасный день я осознал не только, что я есмь здесь, но что я – это я и никто другой. Ибо самое существенное во всем именно это обособление: впоследствии никто не путал меня с собой и я себя ни с кем другим – никогда. А ведь сколь во многом мы схожи между собою, верно? И только в одном этом – нет, как прежде, так и позднее… каждый из нас окончательно и бесповоротно – на особицу. Если же это так было, то так будет и впредь. Ведь если бы отныне было возможно, то и прежде – тоже. В том великое утешение природы, друг мой. Некоторые восточные секты погружаются в эту истину настолько, что для них желаннее жаркого Солнца то, что они толкуют и проповедуют долгие тысячелетия: каждая сила сохраняется здесь, любая форма повторяется, лишь то сокровенное, что я чувствую и знаю о себе – я – это я – уникально. Лишь теперь я понимаю их по-настоящему, их безмерное преклонение перед этой святой истиной. Лучшего для себя я и не знаю».
Затем он попросил меня больше не бранить его сына – бесполезно, да и у него, Сандерса, нет больше мнения ни по поводу собственного сына, ни обо всем прочем. Ни о людях, ни об их делах, да и не хочет он иметь суждения, отменил их все напрочь.
Это письмо, повторяю, решающим образом повлияло на меня в годы молчания. Начало и приписка в конце – особенно. Ведь какое же это облегчение освободиться от того, что считаешь истиной и стремишься до конца сохранить в себе. К концу жизни она становится невыносимым бременем. Ведь что с ней делать, с истиной этой? И тогда я наконец изложил мои планы касательно нашей совместной жизни. К тому времени его самочувствие улучшилось, и я готовился к возвращению, как вдруг, несколько дней спустя, пятого октября, он скоропостижно скончался.









