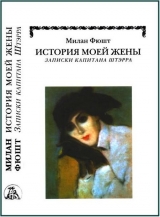
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
– Конечно же, заметил! Да полно вам, чтобы я да не раскусил этого простака!
– А вот о чем мы ведем переговоры, это вас не касается! – Тон его сделался неслыханно грубым. – Примите к сведению, что вы и леди, и ангел в одном лице. А кто такой я? Факир! – заявил он без всякого видимого перехода. – Вот именно, факир, если хотите знать. Из меня можно веревки вить, но не всегда, золотце мое. Ведь иногда и я дохожу до остервенения, слово даю! – С этими словами он расхохотался и бросил трубку.
– Веревки вить? – остановился я в подъезде. – К чему это он? Тогда, значит, я опять прав. Сколько бы Кодор ни строил из себя независимого да неприступного, а сам влюблен по уши.
И я зашагал прочь – так же быстро и порывисто, как ушел из дому.
Какое мне дело до чужих неприятностей? Главное, что дамочка вовсе не та, за кого я ее принимал. Ведь если она даже не знала, о чем у нас переговоры, и поинтересовалась на этот счет, когда думала, будто меня нет рядом…
Но почему меня это так волнует? Да пошли они ко всем чертям! Пусть живут счастливо или как им угодно…
Мысли мои переключились на другое… Необходимо срочно подвести финансовые итоги. Не было у меня охоты дальше барахтаться в этом гнилом болоте.
Зашел я в ближайший паб.
Заказал пинту пива и, поскольку кем-то – вероятно, картежниками – был оставлен на столе кусочек мела, я мигом приступил к подсчетам.
Прежде всего имеются у меня наличными в банке семьсот фунтов, вот и внесем их в дебет. Тс капиталы, что вложены в дело, – менее надежны, а имеющееся сверх того, видимо, поглотят долги. Стало быть, нечего их и учитывать. Зато акции «Цинциннати Рэйлвей», доставшиеся мне в наследство от отца, и поныне ценятся в четыре сотни, как ни сбивал цены кризис. Значит, их тоже занесем сюда, в крайнем случае пригодятся. Вот и все, больше я ничем не располагаю. Тысяча сто фунтов – и весь капитал, ни на земле, ни на небе больше ничего не наскрести. С этим далеко не ушагаешь.
Я даже вывернул кошелек, где обнаружилось примерно пятьдесят фунтов: обычно такую сумму я прихватываю с собой, отправляясь в город, а иначе чувствую себя не в своей тарелке. Ну, и кое-что завалялось дома – скажем, фунтов восемьдесят.
Но надолго ли хватит этого, если при мне останется моя супруга?
– А, выставлю ее за порог! – встал я из-за стола. – Не садиться же из-за нее в долговую тюрьму! Не желаю опуститься на дно. И не намерен отбивать любовниц у своих приятелей. Хватит, надоело! Хочу жить прежней жизнью – простой, суровой, примитивной. Все ясно, ясней некуда.
К пиву я, конечно, не притронулся. Чуть ли не в знак того, что с данного момента приступаю к строгой экономии.
И в ту пору, как-то раз я буквально оттаскал жену за уши. Вот ведь до чего дошло!..
Жена моя опять вдруг расцвела. Повадилась выходить из дома – впрочем, об этом я уже упоминал.
Но затем выходы ее участились – чуть ли не до каждодневных. Предлог всегда был один: «Супруги Лагранж приехали». Вы спросите, кто такие Лагранжи? Глупцы и невежды, что муж, что жена, вдобавок скупердяи, как все выходцы из Оверни. С каких доходов они жили здесь припеваючи, до сих пор понятия не имею, да мне и знать неинтересно. Меня касается лишь сам факт, что они здесь были, скоты эти. И с тех пор, как они объявились в Лондоне, с женой стало не совладать. Такого прежде не бывало. Судя по всему, она постепенно вошла во вкус жизни в этом мрачном городе.
– Очень полюбила я этот странный Лондон, – принялась было она втолковывать мне на свой лад. Полюбился ей, видите ли, этот Вавилон.
Будь по-твоему, я не стал возражать. У меня как раз была работа: взял на дом от одного клуба и от страховой компании, оба заказа срочные, поэтому я целыми днями сидел дома, а она и не показывалась. Вот ведь как повернулась жизнь! Иной раз она ничтоже сумняшеся упархивала с самого утра.
Принарядится, бывало, прихорошится, и когда шляпка уже на голове, а зонтик зажат под мышкой, то есть она готова предстать мужчинам на обозрение, Лиззи подходила ко мне и протягивала розовую ладошку, давая понять, чтобы я положил туда денежек.
Я клал, сколько мог.
– Еще! – мягким, приятным голоском говорила жена. – Этого мало! – без зазрения совести добавляла она. Неужели я не понимаю? Ей предстоят расходы, требуется купить то да се, поскольку начался сезон приемов и встреч всей компанией, а также разные представления.
– Это хорошо, – кивал я и не спрашивал, что за представления.
Сам-то я совсем отошел от светской суеты, обрыдла она мне. Теперь во мне способна была поддерживать жизнь лишь работа. Чем больше работы, тем лучше, уйти бы в нее с головой.
Супруга купила бокалы из цветного стекла и позолоченные ложки – на кой ляд, понятия не имею. Может, в расчете пригласить к нам всю компанию… Именно тогда и зародилась во мне мысль смыться отсюда. Исчезнуть – таково было мое окончательное решение. Прогнило здесь все до самых корней, в этом я был так же глубоко уверен, как в том, что покамест жив.
Иногда жена возвращалась с другой прической – не с той, с какой уходила из дома. И не от парикмахера – ведь это всегда заметно. А она уже не считалась с тем, что я могу заметить перемену.
Кстати, в Лондоне, как известно, принято обмениваться поцелуями в перерывах между танцами. В этом странном, ханжеском мире на подобные вещи закрывают глаза. То есть супружницу мою сперва покружат в танце, а вскружив голову, уведут куда-нибудь за портьеру…
Книжки ее разбросаны по всей квартире. Сплошь любовные романы и никакой тебе философии. Страницы книг испачканы красным – от помады: она слюнила пальцы, перелистывая страницы. Больше того, попадались и подчеркнутые места (причем – Бог свидетель – тоже помадой!), только я их не слишком разглядывал. Даже господин Танненбаум перестал меня интересовать, хотя иногда и вспоминался в недобрый час. А между тем мне удалось получить о нем кое-какие сведения. Господин Танненбаум весьма старательный молодой человек, особенно рьяный интерес проявляет к философии, этот далеко пойдет и тому подобное – сообщал о нем из Парижа мой приятель Тоффи-Эдерле. А вообще-то юноша – сын того агента по перевозкам, у которого мы при отъезде оставили свою мебель. Завязала ли моя жена знакомство с сынком агента за тот короткий промежуток времени, пока велись переговоры насчет нашей мебели, или же она знала его раньше, я не стал уточнять. В книгах же, к примеру, слово «стройный», когда речь шла о мужчине, было подчеркнуто в шести местах. А в другой книжке, у писателя Йенсена, отмечена фраза: «глаза его сияли», – применительно к какому-то молодцеватому охотнику. Я оттолкнул от себя ее книги, тем более что мне попалась рукопись рассказа ее бывшей приятельницы (и третьеразрядной актрисы) мадам де Кюи. Так в этой рукописи восклицательными знаками были украшены следующие перлы художества: «Я ничего ему не должна. Отработала его жертвы. Своими жертвами». – Но это еще цветочки, а вот вам и ягодки: «Не желаю быть из-за вас калекой, не желаю в угоду вам убивать в себе свое „я“. Не допущу, не потерплю, чтобы вы насильничанием своим унижали во мне природу. Иными словами, будь любезен принять во внимание, что я такова, какая есть. И такой останусь. А ты – хоть тресни!»
Значит, она такая, какая есть? Да это форменный вызов! Ладно, отныне и я буду таким же. Оставлю ее с ее природой вместе, всякому Янчи – свою морковку, как у нас говорят.
«Кто теперь у тебя в любовниках?» – только и хотелось мне у нее спросить. Не с гневом или горечью, а бесстрастно и просто. Ведь в развращенности, в испорченности есть какая-то поразительная простота. Задумывался ли кто-нибудь над этим? Насколько естественен грех, а вследствие этого какой притягательной силой он обладает? Подобно нашим снам. И в таком случае не заключена ли в нем своего рода невинность? Коль скоро с такой естественностью располагается в нашем сердце?
Ведь вот как заявляется она домой под вечер…
Словно бы нисходила ко мне с каких-то высот, где атмосфера насыщена горним воздухом и музыкой – такой бывала она, возвращаясь из своего французского окружения. Каждая клеточка ее существа полна радости.
– Все работаете? – иногда роняла она походя. И закуривала. Спичку, конечно, бросала куда попало. Щеки ее горели огнем, а в глазах – такая влекущая истома… Словом, дремал в ней грех, за ее полузакрытыми глазами, теплился, как в зрачках у кошки. И наэлектризованность ее была почти ощутима.
Но однажды она все-таки испугалась. И после нескольких попыток позволила себе замечание:
– Ой, какой у вас взгляд…
– Какой же?
– Совсем неподвижный. – И издала короткий смешок. – Вы на меня сердитесь?
Прекрасно помню те мгновения. Она только что вернулась, изрядно продрогшая, – даже уши порозовели, – еще не успев раздеться, стояла в гостиной и смотрела, чем я занят. На дворе была ночь. Помню даже ее блестящую черную шубку, тишину в доме и главным образом свои фантазии: в ушах ее, украшенных серьгами, наверняка и сейчас еще звучит музыка, слышится нежный шепот… По сравнению с этим, конечно, я производил прозаическое впечатление со своей пятидневной щетиной на подбородке, погруженный в какие-то счета, бумаги… А может, ей стало стыдно.
Итак, сержусь ли я на нее?
Я заверил, что не сержусь нисколько, да так оно и было. Я не испытывал ни малейшего гнева. Просто мне надоели ее траты, что я и высказал ей на другое утро, самым откровенным образом. Хватит, не дам ей больше денег, решил я. Она не в силах изменить своим привычкам? Я тоже. Денег не дам. Во всяком случае, на кафе и рестораны. Она ввела новую моду – не являться домой даже к обеду. Что само по себе глупо.
– Почему вы не обедаете дома? – спокойно поинтересовался я. – Ведь здесь ваш обед уже оплачен. Надо быть дураком вроде меня, чтобы дважды платить за одно и то же.
И тут она улыбнулась. С пренебрежением, на какое способна только француженка. А когда эта улыбка – подчеркнутая гримаской и пожатием плеч – чересчур затянулась, я схватил ее за ухо, и не фигурально, а буквально. И потянул – не отрицаю. Не сильно, без раздражения, как приводят в разум нашкодившего ребенка.
Надоела мне эта ситуация. Ведь о том, чтобы объяснить ей наше материальное положение, и речи быть не могло. Кому угодно втолкуешь, но только не ей.
– Если и дальше так будет продолжаться, я разорюсь. А мне этого совсем не хочется, – сказал я ей. – Деньги ведь не растут у меня в кармане. К тому же я сейчас без работы, – заключил я кратко, но внушительно.
Разумеется, ей мои внушения без толку. Глаза засверкали, того и гляди, искры посыплются – как же, к ушку ее посмел притронуться! А сама – точь-в-точь разъяренная кошка, и шерсть дыбом. Однако она вмиг опомнилась.
– Ладно, будь по-вашему! – поспешно выпалила она. – Кстати, ваши дела меня ничуть не интересуют.
– Приму к сведению, – ответил я. – Вот когда и деньги вас интересовать перестанут, тогда я, может, вам кое-что и подкину.
Это был первый случай в нашей жизни, когда я поднял руку на нее. Такого еще не бывало. Как не бывало и того, чтобы я хоть в чем-то отказал ей. Сколько ни напрягай память, не припомню.
– Ну и ладно, – повторила она. Эти слова прозвучали как угроза. Мол, дадут ей и в другом месте, не поскупятся.
Она уже повернула было к двери и взялась за ручку, но вдруг остановилась и обернулась ко мне. Возможно, ей хотелось еще что-то сказать – была она очень бледна, и губы ее дрожали. Но затем впала в ярость.
Грохнулась на пол и забилась в истерике. А когда я хотел ее поднять, опять норовила вцепиться мне в глаза. Только на сей раз ей это не удалось, так как я перехватил ее руки.
– Тише, тише, – приговаривал я. – Лучше бы вам поостеречься, а то ведь и я ударить могу.
– Убирайтесь! – билась она в моих руках. – Убирайтесь вон, нахал бессовестный!
– Что вы сказали? – уточнил я и преспокойно опустил ее на пол. Это я должен отсюда убираться? – И с такой силой запульнул цветочным горшком в зеркало, что разбились вдребезги и горшок, и зеркало. Весь пол в комнате оказался засыпан землей.
– Это я, по-вашему, бессовестный? – и опрокинул дамский столик со всем, что на нем было наставлено, так что угол доски угодил в кружку с молоком, почти рядом с ее головой.
Признаюсь, я испытывал при этом дьявольское наслаждение. Словно мед разливался по жилам – такое было ощущение. Наконец-то мне больше не надо сдерживаться, не надо падать ниц от почтения к философии и прочим высоким материям, можно высказать все, что давно на душе накипело!
– Значит, ты такая, какая есть? – орал я. – Тогда и я буду таким, как есть. Ты еще узнаешь, каков я на самом деле, моя малышка.
Это я, видите ли, должен стыдиться перед такой развратной тварью, я! А ей никогда не бывает стыдно?
И подобно молнии небесной, свалилась люстра. Я схватил ее и тоже запустил ею в жену.
Тут запал мой повыдохся. Об этом следовало бы рассказать отдельно, потому как наконец все-таки обрела дар речи моя супруга.
Она ничуть не испугалась, напротив. Ее спокойствие и самообладание были беспримерны.
Гибель своей оранжереи она еще кое-как пережила. Спокойно лежала среди черепков, словно и не было у нее другой заботы, кроме как пристроиться поудобнее. Словно невинный младенчик, который спокойно взирает на то, как рушится вокруг него мир. Но когда черед дошел до новехоньких, отвратительных, красных бокалов, она все-таки дернулась. Более того, даже села.
– Вы с ума сошли? – адресовалась она ко мне с вопросом. – К чему ломать комедию? Или вам захотелось поразвлечься?
После этих ее слов у меня и ложка из рук выпала, как выражаются в наших краях крестьяне. Нижеследующие строки да послужат описанию так называемого невменяемого состояния. Рискую предстать перед вами не в лучшем свете, но пусть… что бишь я говорил перед этим? Сорвав с себя оковы, я испытывал дьявольское наслаждение. Да, именно так, радость была какой-то запредельной, а самочувствие мое – подозрительным.
Стало быть, жена моя права. Ведь чего, собственно говоря, я добиваюсь от этой женщины? Да ровным счетом ничего. Тогда к чему устраивать погром?
Именно это я чувствовал, точнее не скажешь. Я опустошен, как банка из-под сардин, и вовсе не так опасен, как стараюсь показать. Значит, и сказать мне нечего, все сплошная фальшь.
Словом, было у меня такое чувство, будто все мои слова впустую, черт меня побери! Но это еще не все. В то же время подметил я в себе и некую осмотрительность, что гораздо интереснее и… позорнее. Крушу вроде бы что ни попадя, и с превеликим удовольствием, но… выбираю вещи, принадлежащие моей жене, и при этом с поразительной бережностью стараюсь, например, чтобы не подвернулись под руку мои дорожные часы. Словом, берегу все, что мое. Пишу честно, все так оно и было. Уж такова натура человека.
Не гнушается, подлая тварь, притворяться! Вот почему никогда не доверяю я природе человеческой, – под стать обезьяньей – потому как чуть что и начинает человек собой любоваться. Даже в моменты тягчайших страданий. Более того – особенно тогда. Коль скоро замечает собственные руки или ноги и отдает себе отчет в том, что он вытворяет.
Зато есть тут один такой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Бывает, застукают человека на том, что он решил отвести душу, потешить себя. Тогда он враз становится серьезным и вместе с тем делается опасным.
Вот и со мной случилось то же самое. «Ломать комедию», – сказала моя супруга. И в этот миг я почувствовал, как во мне с давящей тяжестью шевельнулось нечто скотское. Именно потому, что жена была права. Даже представить не могу, что было бы с нами, поскольку почувствовал, как у меня появилась дрожь в пояснице. Очень характерное для меня ощущение.
Но в этот момент дважды громко постучали в дверь. Видимо, звонок сломался.
Передо мной стоял наш домовладелец.
Теперь представьте себе: в гостиной среди черепков лежит на полу моя супруга, а у порога настырный старикашка пристает ко мне с какими-то галстуками.
Помнится, я обещал в прошлый раз осчастливить его новыми галстуками, верно ведь? Ну, так вот хорошо бы получить хотя бы один, поскольку сегодня вечером он приглашен в гости.
Что тут будешь делать? Галстуки-то я действительно ему обещал, причем два, новехоньких.
А визитер мой улыбается, решив меня поразвлечь.
– Послушайте-ка, дорогой мой капитан! – говорит он. – Я тут между делом разрешил загадку лестницы Иакова. – И принялся толковать символику сновидения Иакова, при прочих обстоятельствах, пожалуй, даже не безынтересного.
Ну, а теперь само просится рассказать, каким образом я загнал себя в столь неловкую ситуацию.
В общем-то все проще простого. Однажды, когда я был еще по уши увязшим в неприятностях, мне втемяшилось в голову навязаться к старику и поболтать малость. Заманю его к себе, расположу к доверительной беседе – вдруг да удастся что-нибудь выведать. Проговорится в какой-либо мелочи, а мне больше и не надо. Уж кто другой, а он-то наверняка мог бы поведать немало интересного… Словом, я был убежден, что выбрал правильный путь.
Но вот беда: в этой окаянной конторе всегда такой холодище, что там уже не до разговоров. И поскольку проблема лестницы Иакова не подогревала меня до нужного градуса, я, по легкомыслию своему, возьми да ляпни: мол, заглянул бы он ко мне при случае, когда супруги моей не будет дома, и мы всласть потолкуем о божественном. А в качестве приманки посулил ему два галстука.
Вот он и заявился.
Собственно, он вовсе и не за галстуками пришел, просто в прошлый раз он употребил неточное слово. В легенде о лестнице Иакова, на его взгляд, нет никакой нестыковки, поскольку лично он всегда верил в «запечатленные» сновидения, как он выразился. Зато он не в состоянии поверить, что некто способен спуститься на гору Хорев – или куда там – лишь для того, чтобы сообщить евреям, что им надлежит есть: скажем, по субботам питаться чечевицей. «Подобные истины я невысоко ставлю, – торжественно заявил он. – То бишь сомневаюсь в них. Но не богохульство ли это – сомневаться хоть в чем-то, что написано в боговдохновенных книгах?» – принялся он возмущаться, с места не сходя, прямо у порога приоткрытой двери.
Тем временем я раздумывал, как быть.
– Знаете, что… – начал я было. – Сейчас принесу вам галстуки!
Но тотчас же опомнился:
– Нет, не получится! Какие тут галстуки, когда жене моей плохо!
– Ай-яй! – воскликнул он. – Уж не собирается ли она разрешиться от бремени?
– Нет, не собирается! – втолковывал я ему. – У нее всего лишь легкое недомогание. О родах и речи нет.
– Не следует ли все-таки послать за врачом?
– Ради Бога, никого не зовите! – уговаривал я его, но тщетно. Он, правда, еще чуть-чуть задержался у порога, поскольку непременно желал довести до моего сведения, сколь бы он удивился, если бы действительно у нас вдруг появился младенец.
– Вот ей-ей! Ведь ничто не предвещало «события». Разве я не прав?
С другой стороны, если уж суждено рано или поздно родиться малышке, задумывался ли я о подходящем имени для нее? Разумеется, предположительно – так, на всякий случай. Если будет мальчик, хорошо бы наречь его Абемелеком, а если девочка – пусть будет Неллике. Оба имени так хорошо сочетаются с моей фамилией, он уже давно прикинул в расчете на меня, хотите – верьте, хотите – нет.
Наконец, старик убрался восвояси. Не могу передать, как благотворно подействовала на меня перемена обстановки и прохладный воздух в парадном.
«Что у тебя за горе-беда? – спрашиваешь себя в таких случаях. – Жив, здоров, и ладно!»
То есть вдруг спохватываешься и понимаешь, что есть на свете вещи поважнее.
И вообще, в такие моменты, после бурного кипения крови, испытываешь удивительное ощущение свежести, обновления всего организма.
Супруга моя воспринимала это по-другому.
– Вы здесь? – спросил я, поскольку она заперлась в ванной комнате.
– Здесь, – ответила она далеко не сразу, когда я уже готов был подумать, будто бы с ней приключилась беда.
Но нет, никакой беды не приключилось.
Напротив, она привела себя в безупречный порядок. Комнату – нет, зато лицо, глаза, одежда – все выглядело идеально, скандал на ее внешности ничуть не отразился.
На меня она, разумеется, внимания не обращала. Достала из шкафа носовой платочек, побрызгала духами. Повертелась, покрутилась, и только вы ее и видели.
– Куда вы? – прокричал я ей вслед.
– По делам, – отрезала она и была такова.
Словно злая фурия, кошмарное виденье, право слово.
И лишь тогда я заметил, что она оставила записку – на подоконнике, на крышке банки с вареньем, уцелевшей в результате погрома. На бумажке вкривь и вкось было нацарапано:
«Сегодня переночую в гостиной. За своими вещами пришлю завтра».
«Ну, что ж, к лучшему», – подумал я.
Теперь предстояло отскоблить варенье… паршивое занятие. Все равно, что щенка тыкать носом в лужу, которую он же и наделал. Работа кропотливая и неблагодарная, но необходимая, поскольку и без нее уборки хватало: утренний кофе на ковре, пудра рассыпана, весь пол сплошь усеян глиняными черепками вперемешку с цветочной землей, под ногами хрустит – шагу не ступить, а я этого не выношу.
Ну и люстру требовалось как-никак приладить на место, отыскать лампочки к ней, после чего и я мог уйти из дома. Я и ушел, не теряя времени. Хотя особой радости я не испытывал, но и печали тоже. Печалиться бесполезно, я смирился с положением вещей.
Только чем занимается человек, почувствовав себя свободным?
Сперва я остановил было такси, но затем передумал и позвонил миссис Коббет по телефону. Несмотря на ее запрет, попробуем разок.
– Любезная сударыня одна дома? – поинтересовался я у горничной. И услышав положительный ответ, назвал свое имя. Вернее, сказал, что ее, мол, спрашивает некий капитан и желает знать, может ли хозяйка принять его сегодня пополудни.
Однако из моей затеи ничего не вышло. Горничная вернулась с ответом, что хозяйка сегодня никого не принимает. Коротко и… неясно. Не сказала, почему, не передала, когда сможет принять. Трубку сразу же положили.
На такой афронт я не рассчитывал, даже не хотелось верить услышанному. Как это – не принимает? Наверняка здесь какая-то ошибка. С какой стати отказывать мне, да еще через прислугу?
Правда, последнее время я не уделял внимания даме, но ведь она сама не хотела продолжения нашего романа. Расстались мы, ничего не обещая друг другу, так что с чего бы ей на меня так сильно сердиться?
Посмотрим, что за этим стоит! И я снова остановил машину.
Что поделаешь, если ты так устроен? Другой избегает обид и оскорблений, а я нарываюсь на них. Возможно, потому, что не терплю двусмысленных ситуаций? Или же отказываюсь верить ушам своим?
Но факт, что я всегда недоверчиво принимал оскорбления. С какой стати тому или иному человеку обижать меня?
Словом, поднялся я к миссис Коббет и передал свою визитную карточку. Ну, и, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Даже визитную карточку мою она не приняла, вернула обратно со словами: весьма, мол, сожалеет, но чувствует себя неважно. Только и всего, никаких комментариев.
У меня даже желудок судорогой свело.
Я спускался по лестнице, прокручивая в голове в высшей степени странные мысли. Как полагалось бы мне поступить сейчас? Учинить разгром и в этой квартире? Разнести вдребезги все квартиры на свете?
Легкая дрожь отвращения пробежала по всему телу. Бывает ведь, что человек опостылеет самому себе. Буквально до тошноты, будь оно неладно! От обжорства так не воротит, как меня воротило от самого себя.
Что это со мною творится?.. Мне даже вспомнилась мисс Бортон. Почему женщины дают мне от ворот поворот, одна за другой – разве это не странно? Может, все-таки дело во мне самом?..
Словом, бывает, что впору ополчиться на весь белый свет, злиться на всех и вся, а себе готов разбить башку о стену. Или шкуру с себя содрать.
Что рекомендует в таких случаях здравый смысл? Завалиться спать. Я и сам подумывал об этом: снять номер в отеле, принять снотворное и залечь на боковую.
Вместо этого я отправился к психоаналитику, второй раз в жизни. Этого специалиста я присмотрел еще заранее, и он хоть, по крайней мере, оказался приятным человеком. Так что я не пожалел о своем решении, тем более что наконец услышал нечто отличное от бесплодных советов Грегори Сандерса. Я обратился к психоаналитику со следующими смехотворными вопросами:
– Мотаешься из страны в страну, слоняешься по свету, как неприкаянный. Отчего это? Никак не могу наладить свою убогую жизнь. Почему? За что ни возьмешься, все выходит наперекосяк. Что бы ни делал, что бы ни говорил – ничто не по нраву. Интересно, а у других людей тоже так?
Психоаналитик рассмеялся.
– Даже и у меня самого, – безмятежно ответил он. – Разве может быть по-другому, коль скоро мир наш создан таким, что его не переустроишь!
– Obzwar, вот так-то, – добавил он и задумался. – Obzwar, – повторил снова, будучи немцем от рождения, и грыз орехи, желая, как объяснил он, отвыкнуть от курения. – Отвыкать даже от этого! Ничего не поделаешь, если таков на земле порядок, что в конце концов приходится отвыкать от всего, к чему с таким трудом привыкаешь.
– Отчего бы вам не сбежать? – вдруг спросил он. – Да возблагодарит Господа тот, кто может позволить себе это!
Отдаю ли я себе отчет в своем везении, в исключительности своего положения? Быть капитаном корабля, которому ничего не стоит повернуться кормой к убожеству здешней жизни! Разве так уж обязательно делать одно и то же в течение всей жизни? Убиваться из-за одной и той же женщины?
– Нет, так нет! – жестким тоном произнес он. – Черт бы побрал их всех, женщин этих! – И в сердцах даже закурил.
Но самое главное – зол он был из-за меня, из сочувствия ко мне, что очень благородно с его стороны.
– Как долго вы будете ломиться в открытую дверь? И твердить себе: не идет, не получается! Когда же наконец решите поверить себе?
Этими словами он сразил меня наповал. Ведь сколько помню себя, во мне всегда сидело это: неверие очевидному, неверие самому себе. Вот, к примеру, и сейчас, с этой миссис Коббет: ломаю голову, действительно ли она оскорбила меня? Просто курам на смех! Или возьмем случай с моей женой. Какими уж только способами не давала она мне понять, что не любит меня? Неужели мало доказательств? А я все по-прежнему гадаю, любит она меня или не любит… Похоже, необходимо испробовать до самой глубины то горькое сомнение, которое я ношу в себе с детства: не понимаю я и не могу узнать эту жизнь всецело.
Тогда-то я и признался психоаналитику, что уже неделями вынашиваю этот план. Уехать и даже не сказать никому «прощай!» Исчезнуть, словно и не жил я на свете, чтобы имя мое было позабыто, чтобы не знал никто, хожу ли я еще по земле.
С этим решением я и пришел сюда. Хочу, чтобы хоть кто-то был свидетелем моей жизни, прежде чем я сойду со сцены. У меня никого нет. И больше никогда не будет. Потому что я так хочу.
– Как вы считаете, получится у меня?
– Вопрос стойкости характера, – невозмутимо ответил он. – Я, например, решился бы, будь я на вашем месте. Решился, даже если бы за то мне пришлось заплатить жизнью.
– Сказать себе: я умер, это и есть истинно мужской поступок, – заявил психоаналитик. – Но прежде чем умереть, я бы еще разок собрался с мыслями и поколесил по свету. Получил бы небольшую отсрочку, чтобы пожить еще немного где-нибудь как случайно приблудившийся чужак. Вот это и есть настоящая жизнь! Разве не к этому сводится вся премудрость? – с чувством торжества вопросил он. – Чтобы вновь и вновь получать отсрочки?
Дома я сразу же включил свет с убежденностью человека, что дом его пуст. Конечно, она не стала дожидаться завтрашнего дня и наверняка уже собрала вещи… Но нет.
Все пребывало так, как я оставил: обломки, черепки, из которых подобно ярким цветам выглядывали пестрые сверточки рождественских подарков. Ведь жена уже приступила к покупкам под предлогом того, что Рождество не за горами.
В общем, никаких изменений. Только эта гробовая тишина в квартире, более глубокая, чем прежде. И – по странному совпадению – снаружи. Ничем не нарушаемое предвечернее безмолвие.
Я выключил свет на несколько мгновений и какое-то время постоял посреди погружающейся в сумрак комнаты, устремив свое внимание к окну. А там белые голуби опускались на крыши невысоких зданий, затем вспархивали комочками сверкающего льда, прежде чем усесться меж флюгеров и печных труб, и их белое порханье в сгущающихся сумерках действовало на меня, как давние сны, почти позабытые мною. Словно бы видел я уже эти крыши в те времена, когда меня еще не было на свете.
Мне, право же, сделалось жаль мою жену, вынужденную жить со мною, с таким необузданным зверем. Что бишь сказал психоаналитик, человек с мрачным взглядом и темной кровью? Ведь он сделал какое-то замечание, ускользнувшее от моего внимания.
– Разве подходим мы им, вы или я? Взгляните на меня! Ведь это наказание Господне жить такому человеку с кем-то другим! – воскликнул он и был прав. Я говорил себе то же самое, причем не раз.
На полу валялся осколок зеркала, я поднял его и посмотрел на себя. И вновь подумал то же самое: он прав. И правы те, кому невмоготу жить с нами. Ах, если бы не нужно было больше видеть… кого? Да эту вот ненавистную рожу! Я отшвырнул зеркальце в сторону.
«Я загнал ее в могилу», – замер я в дверях, прислушиваясь. У меня было такое ощущение, будто жены моей больше нет в живых.
При одной этой мысли меня бросило в холод, пришлось накинуть что-нибудь на себя, причем на голову: ведь известно, что, если мерзнешь, надо укрыть в первую очередь голову. Но накинуть на себя женскую одежду?.. Такого мне еще не доводилось прежде.
– Что бы там с ней ни случилось, кто в этом виноват? – попытался я объективно оценить обстановку. – И не будь меня здесь, не все ли равно мне было бы, жива она или мертва?
– Да, да, конечно… Но ведь я этого не хотел! Не желал ей смерти.
К тому же свет в квартире горел так тускло, что, вздумай вздремнуть, – не помешал бы. И за этим призрачным светом зловещей силой затаилась пустота: ощущение, наверняка знакомое каждому, кто пребывал в тревоге. А в глубине комнаты какое-то движение теней, будто бы черные цветы, клонясь, кивают головками.
Я включил повсюду яркий свет, затем погасил снова.
«Но ведь должна же она, несчастная, вернуться домой», – убеждал я себя.
И расхаживал из угла в угол в потемках. Все же темнота действовала на меня успокаивающе, хотя ужас в душе не стихал. «Если она сейчас вернется, все будет в порядке, – говорил я, а в следующий момент бросался в другую крайность: – Выжду еще пять минут, и, если она не появится, удавлю себя вот этим фартуком!»
А она все не шла. Хотя, если бы пришла… одному Богу известно, как бы я себя повел. Быть может, бросился бы к ее ногам.









