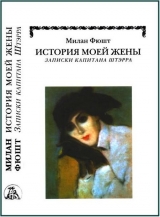
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Причиной моего состояния был не только блок-бювар, хотя и без него не обошлось. На промокательной бумаге – совершенно новой и не подвергнутой химической обработке мне с неоспоримой четкостью удалось разобрать два слова: «топ cher» – обращение к мужчине, тут даже раздумывать нечего. Таков был мой первый результат.
А второй… Запускаю я руку в один из забитых доверху ящиков – у нас везде и всюду хватало разного хлама, – и что же мне сразу попадается под руку? Удостоверение с фотографией, дающее право моей жене на получение в таком-то и таком-то парижском почтовом отделении корреспонденции «до востребования» на ее имя. Сам не пойму, отчего так действуют на человека подобные вещи: мелкие объявления в газетах и письма «до востребования»? Потому что меня потом несколько часов колотило от омерзения.
Тогда-то я и открыл окно, чтобы глотнуть воздуха. И тогда же накатил на меня приступ головокружения, которому мне с трудом удалось воспротивиться.
С той поры я часто испытывал головокружение, если приходилось идти по мосту или взглянуть вниз из окна. Дело дошло до серьезных препятствий в главном: в зарабатывании на жизнь. Какой же это моряк, ежели у него кружится голова?
Кстати сказать, той ночью я писал письма – самому себе и по всяким несуществующим делам. Мне не хотелось терять ни минуты. Я подготовился заранее, все было под рукой: в одной типографии я выпросил пробные оттиски служебных бланков (конечно, под предлогом последующего заказа) и получил – с адресами разных фирм. Название одной помню и поныне: Litterton and Co. Banking. На этом бланке я написал первое свое подложное письмо, в котором меня просили срочно наведаться к ним в контору по поводу проекта Грегори Сандерса. Сочинил и другие, самые разные – боялся даже, как бы от стука пишущей машинки не проснулась моя супруга. Поэтому время от времени останавливался, прислушиваясь.
Для чего она была нужна, эта переписка, тоже толком не объяснишь. Что-то вроде поисков ощупью в потемках. Должно быть, затея моя выглядела примерно так: ага, она пишет письма и ответы получает, очевидно, сюда. А мне об этом ничего не известно – когда получает и как именно? По всей вероятности, существует сговор. Но с кем? Опять-таки с этим негодяем, господином Хоррабином, владельцем пансиона. Однако подобный ход рассуждений завел меня в тупик. Ведь моя корреспонденция сюда не поступала, я распорядился, чтобы всю мою почту направляли в отель «Брайтон». Таков мой давний обычай: там, где у меня нет постоянного жилья, всю почту я распоряжаюсь отправлять в одно какое-либо определенное место, чтобы не возникло путаницы из-за перемены адреса.
А теперь, вероятно, я рассуждал так: если мои письма будут приходить сюда, тогда и ее послания я сумею перехватить – может, когда-нибудь перепутают почту или что-то в этом роде.
И мой расчет оправдался. Ну разве не удивительна человеческая жизнь, когда обыкновенные глупости могут завести очень далеко?
Чтоб не забыть: удостоверение я конечно же тотчас отправил одному моему приятелю, парижскому служащему по имени Тоффи-Эдерле, с просьбой, если какая-либо корреспонденция завалялась, немедленно переслать сюда. Словом, я всю ночь трудился и утром экспресс-почтой отправил письмо Тоффи, а вечером – заказное самому себе, первое. Чтобы получить его утром – именно утром.
Правда, если я знал, что в течение дня буду дома, то еще одно послание я отправлял и с утра. Так мы и развлекались какое-то время. Рано утром, как правило, громко стучали в дверь, поскольку, как я уже говорил, большую часть писем я отправлял заказными.
Более того, посылал и деньги. Дай, думаю, проверю и этот способ…
– Сколько писем вам стало приходить, – заметила моя жена.
А меня так и подмывало ответить ей: «О, да! А все потому, что я рехнулся».
Судя по всему, со мной явно творилось что-то ненормальное. Пусть кто-нибудь объяснит, как я мог докатиться до такого, я, который всегда превыше всего ставил доверие!
– Да это очаровательная, милейшая, добрая женщина! – сказал бы, наверное, Грегори Сандерс, будь он знаком с моей женой. – Чего ты к ней прицепился? Она же сущий ангел!
– И что тебе оставалось бы делать, докажи я, что она действительно ангел, а ты своим грязным воображением стремишься низвести ее до уровня собственной низости? Разве что пустить себе пулю в лоб!
– Мальчишка-посыльный, почтальоны! – всплескивая руками, кричал бы он мне в лицо. – Не совестно тебе, человече?
Ну что ж, попытаемся рассказать ему все как есть. Ведь хуже, чем сейчас, мне уже не будет. Но высказать все, даже зная, что сдохнешь от позора. Про мальчишку-посыльного, про манипуляции с письмами, – а после того, как он все это выслушает, поймет и примет к сведению, пусть-ка разобъяснит, как мне быть! Как мне исцелиться, как вернуть доверие сердцу: Ведь когда своими глазами читаешь «топ cher», этим себе не поможешь, не так ли? И если знаешь, что жена твоя получает письма «до востребования», можно ли сохранять спокойствие?
Все это я и хотел описать ему и корпел над письмом целую ночь. Но перечитав наутро, разорвал листки. Нельзя, сказал я себе. Теперь уже ничего не поделаешь.
И все осталось по-прежнему.
Нет и нет! Так не откроются друг другу два камня. Так не приблизятся друг к другу две колонны или что угодно, если им не суждено стать близкими.
Тоффи-Эдерле ответил телеграммой всего в одно слово: «rien», что означало – никакой корреспонденции там нет.
Придется еще потрудиться, – сказал я себе. И трудился не покладая рук.
Как-то раз из-за писем нас подняли ни свет ни заря. Тут уж даже супруга моя занервничала: не дают, мол, выспаться человеку. Почему бы мне не распорядиться о вручении консьержу или не адресовать свою деловую корреспонденцию в тот же «Брайтон», как делалось до сих пор?
– «Брайтон»? – невесело переспросил я. – У меня там испорчены отношения.
– Ни с кем вы не умеете ладить, – проворчала жена. Откровенно говоря, к тому времени мне и самому надоела эта игра в прятки. Вдобавок ко всему почту перестали приносить домой, это тоже было в новинку, приходилось за ней спускаться в контору, будь она трижды неладна!
– Но ведь вам два письма – одно заказное и денежный перевод, – кротко объяснил господин Хоррабин, владелец пансиона. Это верно.
О деньгах я начисто забыл, а между тем позавчера отправил на собственный адрес двадцать пять гиней. Хозяин прав, но пора положить конец этому безумию.
– Неужели нельзя было послать это наверх? – мрачно осведомился я.
– У нас новый почтальон, – шепотом сообщил он, – и вам необходимо удостоверить свою личность.
С этим тоже не поспоришь. А новый почтальон – субъект, не внушающий симпатии, весь какой-то липкий и с бакенбардами. Обозлился я до того, что жизнь стала не мила. Оно и понятно: опять получил никчемные послания, которые сам же и сочинил, и содержание их меня, разумеется, не интересовало. Деньги – они тоже мои собственные. И ради этого вырывать человека из блаженного небытия?.. Все существо мое было настолько отравлено горечью, что, бросьте мое сердце собакам, и они наверняка сдохнут. К тому же старик снова преградил мне дорогу, воспользовавшись случаем поговорить.
– Кто сотворил вас? – тоном любопытствующего ребенка поинтересовался он, ласково поглаживая мой халат. Рассказывай ему теперь, кто меня сотворил!
Дрожа от холода, стоял я в его паршивой конторишке, чувствуя, что его не избежать, как хвори. Мало мне пустопорожних разговоров, так еще и простудишься наверняка. Вот, я уже и чихать начал. Тошно, зябко, ведь на мне ничего не было, кроме халата и носков. И все существо мое бунтовало против принуждения и холода.
– Кто сотворил вас? – снова спрашивает он с триумфом человека, которому наконец удалось подловить ближнего. А голос был как у въедливого наставника, что я особенно терпеть не могу.
– Или вы сами себя сотворили? – язвительно допытывается он. (Язвительность известно откуда взялась: если я не верю в высший разум, следовательно, и в сотворение мира – тоже. И с чего же, спрашивается, я такой умник? Таким сотворился, что ли? Хи-хи-хи!)
– Может, сотворения мира и не было вовсе? – смотрит он на меня этаким невинным взглядом. И что самое странное: мне вдруг захотелось поспорить с ним, в этом жутком холоде. Видать, сильно в человеке желание идти наперекор.
– Не существует никакого сотворения! – отрезал я с ходу. – Его не было и нет! Спросите, почему? Сейчас я вам растолкую.
– Ну-ка, ну-ка! – восклицает он, потирая руки.
– Возьмем, к примеру, поросль на ваших ушах, – грубо сказал я, потому что мне ужасно хотелось позлить его. – Или на моих, – все же поправился я. – Волоски эти развиваются, не так ли, и с возрастом густеют. И в то время, как поросль в ушах прогрессирует, разум наш регрессирует. В этом заключается процесс развития, – завершил я свою мысль дружелюбным тоном.
– Кстати, доводилось вам видеть конопляную веревку? Я не к тому спрашиваю, чтобы намекнуть: на ней ведь можно и повеситься…
– Of course, – с блаженной улыбкой отвечает он. – Как же, милейший капитан, доводилось видеть.
– Ну, так вот… Ее не рекомендуется подолгу держать на солнце, потому как оно разъедает нить. То есть поглощает свое творение. Иными словами, если хотите знать, почтеннейший сударь, таков здесь процесс творения: что создается, то и уничтожается. Жизнь породила меня, и та же жизнь пожирает все мои жизненные силы, все упования на счастье, – прокричал я ему в лицо. Кстати, я обращался с ним, как с глухим, – это входило в мою тактику. – Ведь возьмите, к примеру, химию, – решил было я продолжить свою параболу. – С одной стороны, тут блестящие и полезные открытия – что безусловно является прогрессом, – а с другой стороны – динамит… – я внезапно умолк, ибо по жилам моим заструились жаркие токи. Меня охватило такое ликование, что я едва не рухнул без сил. Взглянул я на пачку писем в руках…
«Вам два письма», – сказали мне, а их было четыре. И одно из них адресовано моей супруге и писано мужской рукой – это я определил сразу же.
Если истолковать высказывания Грегори Сандерса применительно к данному случаю, то он прав: да, можно любить и дурное. Более того, слаще злорадства и не бывает на свете.
– Нет ли у вас какого-нибудь незанятого номера? – спросил я у старика. И не скрою, сердце колотилось так, что я едва держался на ногах. Или страх был тому причиною?
– Я вижу, мне пришло одно очень важное письмо, хочу прочесть его поскорее. А после продолжим наш сведенборгский диспут.
Он провел меня в нетопленную комнату со сдвинутыми вплотную креслами. Я закрыл за собой дверь и присел чуть-чуть отдышаться. Тигры ведь тоже не сразу набрасываются на добычу, а сперва рычат и облизываются.
Точно так же и я. Рассмотрел письмо снова. И еще раз. Два из четырех отправлял я сам, с этими все ясно. Затесалась сюда по ошибке чужая открытка, и наконец – главное: письмо, адресованное моей жене. Чудно как-то, быть до такой степени легкомысленной, когда наставляешь мужу рога. Экая неосмотрительность, даже, я бы сказал, отчаянная дерзость! Пользоваться чистой промокательной бумагой, на которой отчетливо отпечатывается «топ cher», адресовать свою корреспонденцию на дом и надеяться, что не попадешься? «Напрасно надеялась! – сказал я. – Вот и попалась, голубушка! Выходит, не такой уж я безумец, и мое предположение верно: вы в сговоре с этим старым лицемером».
Письмо пришло из Парижа. Почерк каллиграфический.
Сверху было проставлено – «№ 19», а ниже шел текст:
«Дорогая мадам (а может, и больше, чем дорогая, при вашей-то миниатюрности), в дополнение к моему письму от прошлой недели, касательно Эпиктета и „Трактата“ Спинозы. Итак, в вопросе взаимоотношений права и власти я разобрался, но экзамен перенесли на день позже. (В Париже столько философов, что ими хоть пруд пруди или в Сене топи.) Как только у меня будут для Вас новости, тотчас сообщу. До тех пор, а точнее, пока бьется мое позабытое одинокое сердце, остаюсь Ваш
Морис Танненбаум».
И приписка:
«Едва не забыл то, о чем давно хотел сказать: домашние туфли отлично служат свою службу. Они преданны и послушны, а две пташки на них своим щебетом будят меня по утрам. (Стало быть, утра мои прекрасны.)»
Философ? – уставился я взглядом перед собой.
Может, это вовсе не любовное письмо – экзамены тут всякие, философия… Тогда что же это?
Должен признаться, я малость поостыл. «Одинокое сердце» и прочее – вроде бы из другой оперы. Странный стиль – сухой и ироничный, – казался изысканным, четкий почерк и все остальное под конец сбили меня с толку. И эта привычка нумеровать письма… уж не кассир ли этот молодой человек? Нет, какой там кассир, ясно же: он – философ. Я растерянно изучал послание.
Охота ей связываться с юнцами? И неужели этот недоросль просил ее руки или слал ей фиалки из Парижа? Нет, подобное у меня в голове не укладывалось! Зато сюда каким-то образом затесались шлепанцы, вот и понимай, как знаешь. Когда она расшивала их в кафе на глазах у Дэдена, они предназначались другому? Или шлепанцы вышивались сразу для двух кавалеров?
Словом, на какое-то время я угомонился. Потом вооружился очками, набросил на себя кое-что из одежды и снова взялся за изучение письма.
«Мать моя, мамочка, а птички? – вдруг осенило меня. – Пташки-милашки, которые по утрам так мило щебечут? Да ведь это равносильно любовному признанию!» Во мне стало зарождаться чувство, что все же я продвинулся на шажок в потемках.
Позвольте, ну, а взаимоотношения права и власти? Мать вашу за ногу, уж не хотите ли вы внушить мне, что этому болвану студиозу нечего больше сообщить миниатюрной красотке, кроме как о результатах экзаменов? Несомненно, послание носит иносказательный характер, оно зашифровано. Стало быть, надо бы докопаться, что здесь означает каждое слово. Ну, например, что значит для двух любящих сердец это странное, загадочное словцо «Спиноза»?
Подкинул я жене деньжат и спровадил из дому. Пусть прогуляется по магазинам, тем более что она вновь очень увлеклась покупками. Предлог даже выдумала подходящий: Рождество, мол, на носу, хотя до праздника было еще далеко. И моды в Лондоне другие, а вот приехали ее приятельницы из Парижа – ах, до чего они элегантны!.. Ладно, пусть купит себе, что нужно или что хочется. Красивый шарф, блузку – лишь бы хождение по магазинам затянулось подольше.
Она тотчас кинулась прихорашиваться – сломя голову, вне себя от возбуждения.
– Постойте! Если уж на то пошло, купите себе и плащ заодно, – решил я. – Вам ведь давно хотелось.
Впечатление от моих слов было потрясающее. Жена страшно побледнела и посерьезнела до такой степени, что даже не докурила до конца сигарету.
– Ты благородной души человек, – воскликнула она и поспешила прочь.
Не был я человеком благородной души, отнюдь нет. Выждал немного, не вернется ли жена за чем-нибудь, а затем приступил к занятию, которого чурался всю свою жизнь: рыться в чужих вещах.
Но сейчас это было необходимо. Вдруг да найду что-нибудь, что наведет на след. Письмо или хотя бы одно слово, которое послужит зацепкой. Я подвигся на обыск в доме.
А уж до чего мне это было не по душе – Бог свидетель! Особая щепетильность морякам не свойственна, я тоже не отличался чрезмерным душевным чистоплюйством, и все равно диву даюсь, как я мог на это пойти. И не только в силу низости самого поступка, имелась тому и другая причина.
Супруга моя была по природе крайне неаккуратна, несобранна: давно следовало бы об этом упомянуть, да все язык не поворачивался. Какой беспорядок царил в нашем доме, никакими словами не выразить. А теперь мне предстояло разгребать этот хаос…
В гардеробе, например, среди ее белья я обнаружил яблоки, одно из них надкусанное с темно-красными следами помады. Объедки сдобы, печенья – тоже со следами ее зубов… ленточки, вперемешку с кружевами и вуалетками, с расшитой тесьмой, спутанные в плотный клубок, облепленный крошками леденцов…
Нервы мои были взвинчены до предела, охотнее всего я подпалил бы дом, лишь бы не видеть этого кошмара.
Нелепо устроен человек. На меня свалилась большая беда, настоящая, а я расстраивался по пустякам. Из-за скомканных тряпок и серебряных бумажек – хорошо, что вспомнил про них. Потому как бумажки были везде – в шкатулках и ящиках, где расправленные, где смятые в комочек, я не переставал удивляться, зачем они ей. Может, воплощение детской мечты? Ведь речь идет о самых обычных станиолевых бумажках из-под конфет.
И в самых невообразимых местах: в цветочных вазах, в прихожей среди чемоданов… Теперь объясните мне, почему я взял ее в жены?
Стоило мне отворить дверцу ее гардероба, и все содержимое вывалилось к моим ногам – до того он был набит. Ящики невозможно было ни выдвинуть – они застревали, ни затолкать обратно – множество скомканных дорогих вещей действовали как пружина. Бархатные и шелковые, муаровые и замшевые ридикюли были запихнуты как попало – неопрятные и неухоженные, а в них – золотые украшения с дефектами: сломанные броши и браслеты… Всевозможные цвета смешались здесь: синий глубокого оттенка и дивной красоты зеленый… в кошельках хлебные крошки, в шкатулках для рукоделия – чулки и повсюду мелкие деньги, испанские и французские, почтовые марки и трамвайные билеты из разных стран, высохший до белизны шоколад…
И из этого хаоса, из этой свалки она возникала – горделиво и в ослепительном сиянии, красуясь в белом с меховой оторочкой или в сиреневых тонах, с полуобнаженными плечами и разрумянившимся лицом и бросала небрежно: – Я иду на вечер! Мое платье достаточной длины? Недостаточно длинное? – Вертелась, поворачивалась туда-сюда и выпархивала из комнаты.
Это было не так давно. Ее пригласили какие-то французы из вновь прибывших, два раза подряд. Но я с ней не пошел, не было охоты. Только смотрел ей вслед, когда она уходила…
Наше свидетельство о браке я обнаружил в буфете, все липкое от ликера… Но стоит ли вытаскивать на свет божий все «прелести» семейной жизни?
«Окаянная моя натура, – думал я. – Роюсь тут в поисках какого-нибудь слова, улики, мне хватило бы и одной фразы, а когда случилась история с Ридольфи и все доказательства были у меня в руках, я ведь и палец о палец не ударил. Эта мысль по-прежнему не выходила из головы. Как я мог проявить такое равнодушие? Или эта женщина тогда совсем не интересовала меня?»
Судя по всему, именно так и было. Ведь безразличие оберегает тебя, а страсть унижает. Однажды это сказала мисс Бортон, и теперь я убедился, насколько она была права…
Письма, записки, хоть чего-нибудь, за что можно было бы ухватиться, я не нашел. Видимо, она все уничтожила. Я начал уже складывать вещи обратно, когда мое внимание привлекли две фотографии. Обе в одном конверте, они были засунуты в шкатулку для рукоделия. Я с удивлением разглядывал их. На одной была снята девочка, очень милый ребенок.
На обороте надпись по-испански: recuerdo, а может: collection d’oro, «дружеская компания» – или что-то в этом роде, а девочка, повторяю, была прелестна: грустное личико в обрамлении локонов, мечтательный и доверчивый взгляд.
«Это ее ребенок, – сразу же сказал себе я и подошел к окну, чтобы разглядеть получше. – Да, это ее ребенок», – произнес я, теперь уже вслух.
Хотя я не стал бы утверждать, что девочка очень уж похожа на мою жену. И все же… Это было мгновенное озарение, которому невозможно противиться.
Чувство настолько сильное, что я поддался ему бездумно. Признаться, мне всегда нравились девочки… дочку бы…
Затем я положил эту карточку и принялся разглядывать другую.
На этой была изображена моя жена, в незнакомой компании, среди веселых дам и господ. У мужчин были бумажные колпаки на голове, как у кондитеров, а одна из дам держала в руках живого петуха – дурачились, чтоб им пусто было! Они покатывались со смеху, как веселятся после бурно проведенной ночи.
И супруга моя, естественно, тоже. Она, кстати, гарцевала верхом на лебеде – ватном, что ли, – и не только хохотала, но и полыхала огнем. В руке она держала сигарету, а в глазах ее светились манящие огоньки – знавал я эти огоньки тоже.
Спрятал я фотографии на место, в шкатулку. Мне даже не хотелось знать, какая связь между ними. Кстати, на обороте последней тоже была надпись: «La nuit», «Ночь» – словно намек на происхождение снимка.
Обычай известный: на рассвете, после выпитого шампанского, фотографируются в Булонском лесу. В завершение прогулки, на память.
Эту линию я отстранил от себя.
– Боже мой, что вы делаете?! – воскликнула она по возвращении. – Что вы ищете среди моих книг?
– Документы ищу, драгоценная моя. Знаете, где я нашел наше свидетельство о браке? В кастрюле! – любезно сообщил я.
Она слегка посмеялась.
– А зачем вам документы?
– Мне предлагают должность, где потребуются данные и о вас. Однако и неаккуратная же вы! – я посмотрел ей в глаза.
– Знаю, – покорно созналась она.
– Так нельзя. Вы ухитряетесь перевернуть вверх тормашками даже то, что я уже привел в порядок. И вообще, надо же заняться хоть чем-нибудь, все равно чем, лишь бы не валяться целыми днями с сигаретой в зубах… Вы слышите, что я говорю?
– Да.
– Мало сказать – «да». Посмотрите на меня!.. – я повернул к себе ее лицо, так как глаза у нее бегали по сторонам.
– Смотрите мне в глаза! Вот так. Если женщина целыми днями предается досужим размышлениям, это до добра не доведет.
– Да не размышляю я! Не о чем…
– Вот как? Тогда, значит, грезите наяву.
– Теперь мне уже и не до грез.
– Вы погружаетесь из сна в сон, – продолжал я. – Сперва спите подолгу, так что голова становится, как в тумане, затем погружаетесь в свои мечты – это ведь тоже сон, вот и переходите из одного призрачного мира в другой. После хватаетесь за книгу, и Бог знает, что там в ней, в этой книге! А за окном, быть может, тоскливо и хмуро, в комнате – сплошной дым от курева и свет настольной лампы… К чему это приводит в результате? – Я не отпускал взглядом ее глаз.
Мне хотелось все простить ей – слыханное ли дело? Тянуло обнять, приласкать ее… И это после всего, что было!
Правда, душа моя была вконец истерзана, видно, поэтому и стремилась к счастью. Я радовался, что она здесь, что избавила меня от унизительного занятия. Как утренний свет, разгоняющий ночные фантомы, как частица подлинной жизни после призрачного дурмана – вот что значило для меня ее присутствие.
– А как плащ? – поинтересовался я потом.
– О-о, плащ… – она просияла. – Плащ изумительно хорош, – шепнула она мне на ухо. – Дядюшка Брум-Брум, мой плащ краше всего на свете. Благодарю, благодарю!
В тот раз я не успел просмотреть все книги, снова пришлось дожидаться подходящего случая. И тогда мне все же удалось отыскать кое-что.
Во-первых, методическое пособие по психологии какого-то Кондильяка, где на семьдесят второй странице желающий мог прочесть следующую пометку: «Когда дойдете до этой страницы, знайте, что Вы – самое прелестное создание на свете. Такого я еще не встречал. М. Т.». И затем: «Я обращаюсь к Вам, крошка Мадам». (Должно быть, чтоб не было сомнений, кому адресованы эти восторги.)
Я пролистал книгу к началу, где обнаружил соответствующую надпись: «Из книг Мориса Танненбаума». Вот мы и дома!
Попался мне и бревиариум Спинозы. Красиво изданная, новехонькая книжица – ее я тоже на всякий случай сунул в карман. Жена моя принимала ванну, и к тому моменту, как ей выйти оттуда, я уже сидел за столом. Указывая на Кондильяка, промолвил:
– Решил вот поизучать. – А сам подумал: «Может, и здесь наткнусь на какое посвящение».
Жена недоуменно уставилась на меня.
– Будет что почитать в трамвае.
Она не скрывала своего удивления: к чему мне пособие по психологии? Но спорить не стала и, что называется, глазом не моргнула. Судя по всему, она не знала о скрытом в книге признании, должно быть, и не заглядывала в нее. О Спинозе я даже упоминать не стал, книжонка тонюсенькая. Сорвался с места и – в город. Было около двух часов дня.
А непосредственно после этого я изменил жене. Сам поражаюсь собственной дерзости – использовать столь деликатное выражение, памятуя о том, что давно утратил право представать перед соотечественниками голландцем с чистой душой.
Смешное существо человек – непроизвольно, с момента рождения. Ну, а уж если обстоятельства способствуют тому… Дело было так.
Грегори Сандерса не было в Лондоне, мисс Бортон не отвечала на мои письма… что с ней было и как – о том пойдет речь в другом месте: что я писал ей и в каком душевном состоянии. Суть же заключается в том, что не было возле меня ни души, с кем можно было бы словом перемолвиться. А жить все время, погруженным в размышления, в собственные переживания невозможно. Ведь это как туман: чем больше в него углубляешься, тем шире раздвигаются его границы…
Да и надоели мне бесконечные терзания. «Черт тебя побери! – думал я о жене. – Дрянь ты эдакая, ничтожество!» – мысленно обращался к ней и при этом смотрел ей в глаза в надежде, что она почувствует, до чего мне надоела.
Мы сидели за обедом, у меня возле прибора Кондильяк.
Я все готов был стерпеть, кроме этой глупости: сидеть здесь с нею за пустопорожними разговорами. «Ох, уж эта мадам Лагранж! Кстати, какого вы о ней мнения?» – И дальше в таком же роде. (Мадам Лагранж – ее приятельница, только что переселившаяся сюда из Парижа. В свое время я встречался с ней несколько раз, так что мы были знакомы.)
Выкладывай свое мнение о какой-то мадам Лагранж, когда меня ждет необыкновенная, роскошная женщина – в сто раз лучше, чем обе вы, вместе взятые!
– Господи, уже два часа! – вдруг воскликнул я. – Меня ждут в другом месте! – Я выскочил из-за стола и помчал куда глаза глядят.
Куда теперь податься? – замер я у парадной двери. У меня оставалось в запасе около часа свободного времени.
Отправимся-ка сперва в «Брайтон»!
Только и там мне было не усидеть.
«Что ты здесь рассиживаешься? – сказал я себе. – Когда тебя ждет такая невероятная женщина. Ждет с нетерпением, а ты тут убиваешь время!»
Здесь самое время назвать по имени красавицу, чьи дивные глаза подвигли меня на столь восторженные речи. Назовем ее миссис Коббет, настоящего имени я все равно выдать не могу, и это не кто иная, как женщина, так мило обошедшаяся со мной в коридоре известного увеселительного заведения. Э-э, да что тут темнить – речь идет о приятельнице Кодора! Одним заходом налево я обманул и друга своего, и жену.
Отношения мои с этой дамой складывались так.
Мне не очень хотелось с ней сближаться, в свое время я уже об этом говорил. И вовсе не из моральных принципов, если уж дошел до того, что развлекаешь дам в увеселительном заведении… Правда, мужчины здесь все-таки в ином положении, чем невинные девицы, не стоит забывать об этом. Мне, например, всегда противен был библейский Иосиф, строивший из себя недотрогу. Как вести себя, если две такие прелестницы начинают ублажать твою душу? Ответить: «Нет, нет, ни за что на свете?» Ломаться, кривляться, давая понять, что не желаю, мол? Не мужское это дело.
И все же…
Ты направо, я налево – теперь у нас всегда так будет? Я и без того по уши увяз в неприятностях и разнообразия ради расцветить их еще любовными осложнениями? Одной из них, подруги Кодора, я, честно говоря, побаивался по причине ее страстного темперамента, другая слишком витала в облаках – тоже ничего хорошего. Еще одна мечтательница? Нет уж, хватит с меня и одной.
В то же время после всего случившегося я чувствовал себя как бы в долгу. Сразу же, тем дивным рассветом, и под воздействием обильных возлияний я зашел в цветочный киоск при отеле (он открыт даже ночью) и отправил обеим по роскошному букету. Действительно красивому (с наказом, чтобы к возвращению домой цветы уже ждали прелестниц) и совершенно одинаковому, чтобы ни одной из них не было обидно: крупных роз с Ривьеры, темно-красных, почти черных. Это им причитается, думал я, а потом – прости, прощай! Подруге Кодора я сделал приписочку с пьяных глаз: «подобное – подобной», – и лишь на другой день спохватился, какую промашку дал. Ведь эту фразу у Шекспира какой-то персонаж произносит на похоронах. Ну да ладно, грех не велик. А вот другой посвящение удалось получше. Знаю, мол, эти розы меркнут пред твоею красой. (К этой я обращался на «ты», в библейском стиле.) Ну и всякие такие же комплименты. Приписки я сделал на своих визитных карточках, где рядом с моим именем стояло: «отель „Брайтон“, Лондон», без дальнейших указаний. Ход моих мыслей был таков: лучше, если дамы не станут мне отвечать. А если все же ответят… Я там больше не проживаю, уехал, переселился – да мало ли что в гостиницах бывает.
Поначалу никаких ответов и не приходило. «Вот и славно, – думал я, – разлука приносит забвение». И если уж зашла речь об этом, сейчас самое время проститься с одной из них, улыбчивой и робкой, у которой мечтательности в глазах хватило бы на многонаселенный город. Я больше никогда не встречал ее. Правда, и не справлялся о ней, что, конечно, некрасиво с моей стороны. Зато она часто приходит мне на ум. У нее было чарующее имя – Винни. Даже годы спустя, уже в Америке, я часто ловил себя на том, что мысленно произношу ее имя. Почему? По сей день не знаю. Пожалуй, потому, что я всегда сохранял благодарность к женщинам, которые были добры ко мне, а Винни относится к их числу. Немного времени мы провели вместе, но я успел почувствовать, что она – добрая женщина. Когда я думаю о Винни, прежде всего представляю ее нежную кожу: воспоминание о ней такое же легкое, мимолетное и все-таки счастливое. Однако оставим в стороне восхищения. Короче говоря, гораздо охотнее мечтаешь о тех, кого мало знал, и с кем жизнь сводила в таких ситуациях, где судьба не способствовала свершению твоей мечты.
Зато другая дама в черном, приятельница Кодора, хотя и с опозданием, но ответила. И судя по всему, не обиделась на мою неудачную цитату. Примерно через неделю захожу я в «Брайтон», и бой на сверкающем подносе подает мне большой, лиловый конверт с короткой запиской, написанной явно измененным почерком: «Now I am, alone». (Наверняка тоже из «Гамлета».) И хотя подписи не было, все же можно было догадаться – именно благодаря гамлетовским словам, – что послание от нее. А в постскриптуме простое уведомление: сегодня вечером в семь часов. Проклятье! Я взглянул на дату: приглашение относилось ко вчерашнему дню.
Слов нет, какая редкая смесь дерзости и осторожности! А измененный почерк и то, что им было выражено: в семь часов вечера квартира свободна, там не будет никого, только она. Вернее, она и я, мы вдвоем, причем наедине. Умопомрачительно!
Я даже понюхал записку.
Аромат был тяжелый. «Мускус», – проворчал я тихонько. А как же не быть мускусу? – тотчас вступил я в спор с воображаемым оппонентом. Я даже знаю, как он делается, однажды мне объяснили.









