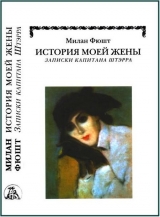
Текст книги "История моей жены. Записки капитана Штэрра"
Автор книги: Милан Фюшт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Судьба словно хотела доказать, что отныне и до конца моих дней мне надлежит жить в одиночку. Ведь и сам Сандерс писал мне: «Видимо, такова твоя участь. Значит, учись жить один». И добавил: «Но совершенно, абсолютно один».
До сих пор меня угнетает чувство вины за то, что при жизни я уделял ему слишком мало времени. Именно ему! С кем только не возишься всю жизнь, и лишь на тех, с кем стоило бы общаться, времени не хватает. Но может, так и должно быть, – это неотъемлемая черта земного мироустройства… Пока что двинемся вперед.
Надо было попытаться жить без дела. Но что бы этакое придумать, чем заполнить свои дни? Тогда-то и начал я писать свои записки, но ведь какая это морока, если тебе с трудом дается слово, а посему не можешь должным образом выразить себя. В общем, нелегко, когда тебе нет нужды зарабатывать деньги и заботиться о будущем, тем более что и будущего-то у тебя нет… Некий антиквар предложил обзавестись телескопом и изучать звезды; другой доброхот подсунул ангорских кошек: тихие, молчаливые создания, стало быть, истинные спутники жизни… Хотя и прибор, и кошек вскоре пришлось выбросить, но телескоп все же навел меня на дельную мысль. Я всегда любил химию, когда-то обучался ей и даже свою позднюю карьеру начинал на небольшом химическом предприятии – вот и соорудил себе вместо обсерватории хорошо оборудованную химическую лабораторию, прямо на квартире, в чулане. Нечто подобное я как-то раз видел под Неаполем у одного знатного господина, только я оборудовал гораздо лучше, с умом, то есть по своему вкусу. И принялся за дело.
Все бы оно было прекрасно. Быть занятым – что может быть лучше! Снова почувствовать себя студентом – чудо из чудес. Беззаботно плыть в потоке времени, вновь довольствоваться мелкими задачами… И вот что странно: словно вчера это было, я положил дома ложку на стол, поскольку обед подошел к концу, и убежал к себе в комнату… тогда я бездельничал, но сказал, будто бы иду заниматься, и за сигаретой убивал время. Вот и сейчас кажется, словно все так и прошло. Всю жизнь знай убивал время. Вот оно и утекло, как сквозь пальцы.
«Не беда, – подумал я. – Продолжим с того, на чем остановились».
Ведь для меня больше сомнений не оставалось: я создан для научного поприща. Сейчас это окончательно выяснилось. Я и прежде знал об этом, но какой-то злой дух все время сбивал меня с пути: сперва мечты, затем реальность, – но на сей раз учение было мне в радость. И все, что с ним связано, – тоже: одинокие рассветные часы, к примеру, это суровое, но суверенное одиночество, когда заранее знаешь свою задачу и пунктуально выполняешь ее, отстраняя прочь все остальное… И только было все стало налаживаться, как на меня обрушилась болезнь, опять та же самая, из-за которой я столько мучился в Южной Америке: тяжкое наследие последних морских странствий, давние запущенные катары, к тому же спазматические – я совершенно ослаб от них, иногда кашель душил целыми ночами. Стало быть, снова происки дьявола: пришлось бросить свои занятия. Другого выхода не было, газы, вредные испарения и прочее явно не шли на пользу легким. Рекомендации господ лекарей тоже были мне не по душе. Свою хворь я приобрел на море, а мне советуют отправиться на Ривьеру! Разгуливать с тросточкой поутру – это не для меня.
И тут одного ассистента врача осенила блестящая идея: отчего бы мне время от времени не совершать прогулки по окрестностям? Прекрасное развлечение для человека, располагающего временем. Иди, куда глаза глядят, понравится место – можно задержаться, не понравится – вернуться или отправиться в другие края. Так можно отыскать для себя райские уголки. В общем, пуститься в недолгие странствия, что и здоровью пойдет на пользу: перемена обстановки поспособствует хорошему настроению, а частая смена воздуха укрепит легкие. Ассистент оказался прав. Однажды утром я проснулся с ощущением, что катара моего как не бывало. Как видим, начинающий врач проявил незаурядные способности, подчиненный дает фору своему наставнику – такое случается сплошь и рядом.
Что же касается моего душевного состояния, то я словно родился заново. Уже хотя бы потому, что прежде мне не часто доводилось сталкиваться с подобным, бесцельно я никогда не путешествовал. Всегда наспех, всегда озабоченный сверх меры, и если и хотелось что-то видеть – тоже на бегу, все сразу. Но теперь – нет, теперь я не хотел ничего определенного. Подворачивалось что-нибудь интересное – осматривал, нет – шел дальше. Заверяю вас, ощущение такое, будто купаешься в потоках весеннего ветра.
Стоило мне приехать куда-то, и я не бросался, как прежде, на улицы или базар, где от шума оглохнуть можно. Поднимался к себе в номер, прилечь ненадолго, или же забивался в какой-нибудь укромный уголок за темными стеклами или укрывался в цветах, взбирался все выше и выше – это мне очень нравилось – и оттуда наблюдал город, изучая его, точно какую-нибудь статую. Что же привлекало мое внимание? По всей вероятности, мелочи, пустяки. Ветер или дождь, противень сдобренного сметаной паштета, который выставили на окно остудить, мэр городка, девушки… Впрочем, никогда еще подробности земной жизни не казались мне столь чуждыми. Я словно бы только что свалился сюда с какой-то далекой звезды, и душа моя была полна смеха. К тому же беспредметного, поскольку ни издевки, ни пренебрежения в нем не было, Бог его знает, что это был за смех, непроизвольный, да и все.
Все складывалось хорошо, ведь это был первый в моей жизни долгий отдых. К тому же путешествовал я без багажа. Такое я впервые увидел в Швеции. Один американский миллионер прибыл туда вместе со мной именно так, как я говорю: без ничего, с портфелем в руках. И я, не переставая дивиться этой привычке, тотчас решил, что если когда-нибудь наживу капитал, последую его примеру. Ведь до чего удобно – сойти с поезда, не заботясь о багаже. Сделается холодно или понадобится что-то из вещей, куплю по дороге. И если не потребуется в дальнейшем, оставлю в гостинице, на радость горничным.
Позволю себе заметить здесь: хотя счастье есть величайшая победа эгоизма, его полнейшее свершение, счастье невозможно представить без самозабвения. Отчасти потому я и процитировал столь подробно письмо Грегори Сандерса – там речь идет о том же: что означает для нас освободиться от самих себя. В общем, так я жил тогда. Словно бы и не было меня на свете. И был счастлив.
И лишь очень редко всплывали прежние, навеянные эгоизмом мечты, но и те неопределенные, расплывчатые.
Бродить бы по полям Франции, покуда не встретится где-нибудь юная девушка. Ведь как прекрасно изложена эта история в библейской легенде об Иакове: он увидел свою суженую внезапно, у колодца, и оказалось, что они состоят в исконном родстве. По-видимому, мне тоже нужен кто-то, кому ничего не пришлось бы толковать о себе, поскольку он все знает. Ему все ведомо о тебе, Бог весть, откуда, из каких глубин времени.
«И тогда я все же не был бы так одинок», – думал я иногда.
В окне кафе была выставлена афиша: имена артистов я до сих пор помню: Лос Вивьендос и Каррикада, испанские музыкальные клоуны, и отдельно крупными буквами – Додофэ. Только их уже и след простыл, в кафе, тускло освещенном газовыми лампами, было пусто. Правда, и время приближалось к трем часам ночи. Снаружи – полный мрак и вьюга.
Зимняя метель во всей своей прелести, когда крупные белые снежинки сонно кружатся, словно игрушечные ангелочки. «Души убитых детишек», – подумалось мне. Лезет иной раз в голову невесть что.
Я только что сошел с поезда и решил заглянуть сюда, дождаться утра. Меня всегда привлекали такие места. На стенах и на зеркале бумажные розы, и поскольку огонь в очаге полыхал весело, я сел рядом. На заднем плане широкая завеса, тоже из бумаги, с изображением лебедей на пруду.
В помещении царила глухая тишина. Единственный сонный официант слегка оживился при моем появлении, а когда я заказал шампанского и коньяка в придачу, оживился еще больше.
Но и само помещение словно всколыхнулось при звуках моего голоса. Я почувствовал чье-то присутствие. Вернее, даже не в этот момент. У меня с самого начала было ощущение, будто за занавесом кто-то скрывается, может, даже не один человек, и оттуда наблюдают за мной.
И вправду. Стоило мне присмотреться, и я увидел маленькую дырочку с края занавеса, где поблескивал человеческий глаз.
«Ну, вот, – подумал я, – наверное, здесь меня наконец-то ждет приключение».
К чему отрицать, до сих пор я исходил вдоль и поперек эту грешную Францию, словно райские кущи. Весело и беззаботно, и никакие слухи меня не пугали. «Профессор-иностранец пропал без следа». «И поделом ему, – думал я. – Небось в нем не было сотни килограммов мускулов». – «Даму из Египта убили на железной дороге». «Бедняжка! – думал я. – Умерла, не изведав радости». – И всякая прочая ерунда лезла в голову.
Но сейчас я все-таки удивился. Подозрительно выглядел глаз в том «глазке». А у меня карманы были набиты деньгами.
Мгновенья, подобно канатоходцам, напряженно шли по моим натянутым нервам – так подействовала на меня эта короткая встреча взглядов… А затем все миновало, разрешившись неким чудом.
Откуда-то появился молодой человек весьма необычного вида. Он был облачен в чистый шелк, до такой степени белый, что глазам было больно смотреть на его трико, блестящее и скользкое. Это и был Додофэ.
Впрочем, вполне приличный молодой человек. Аккуратные бачки, на щеках цветут розы живости. Вел он себя скромно, очень изысканно поздоровался и даже поклонился, отдавая дань моему шампанскому. Затем потянулся, покружил по комнате и уставился на снегопад, словно проспал где-то в углу перемену погоды. После чего попросту поинтересовался, где Лиззи. Не у меня, у официанта…
– Лиззи! – весело позвал он.
Я поставил бокал на стол.
Вся сцена казалась наваждением. Мужчина в шелках, бумажные цветы, диковинная вьюга за окном…
«Вот до чего она докатилась! – подумал я. – Возможно ли это?»
Мне ли не знать о том, на что способно человеческое сердце при звуках одного-единственного слова! «Лиззи», – произнес он. Я тоже говорил когда-то «Лиззи». И не так уж давно, словно вчера. Но на самом деле минули годы, как я не произносил этого имени.
Такое редкое имя, с тех давних пор я его ни разу не слыхал.
Вот до чего она докатилась!
Мне не верилось, хотя в душе я многое мог бы себе представить, касающееся ее судьбы. Но чтобы именно этим она занималась в Испании и какими-то ветрами ее занесло сюда?
Но ведь ей всегда хотелось быть артисткой…
Словом, у меня возникло невероятное чувство, что она тоже находится здесь, под одной крышей со мною. И это было даже не чувство, налетевшее, как смерч, а более того – почти уверенность. Я готов был ручаться жизнью, что это именно так: она совсем рядом, всего лишь в нескольких шагах от меня.
Конечно, она здесь и даже видела меня. Подсматривала в «глазок», а выйти из-за занавески не посмела.
– Желаю расплатиться! – крикнул я официанту, чувствуя, как вся кровь прихлынула к сердцу.
«Обожду», – решил я внезапно.
К чему бежать сломя голову? А вдруг наша встреча предопределена судьбою? Исходить каждому порознь весь свет, чтобы в этой точке земли, именно в этой дыре случай свел нас!.. Тогда какой смысл спасаться бегством, отчего бы не встретиться с ней, не побыть вместе хотя бы немного? Отчего бы не увидеть ее хотя бы на миг?
Повторяю: я не могу дать определения той тяжести, что вдруг навалилась на сердце, ни ужасной тоске, которая облекается в разные формы. Тоска, томление могут ведь быть и ужасными. Будем совершенно откровенны.
Я подумывал о коротком ночном похождении именно с той особой, которую когда-то так любил. Любопытное и унизительное было это чувство. Ведь я жаждал пустоты, бездушного, бессодержательного наслаждения с нею, словно отродясь не видел ее. От этого и колотилось так бешено мое сердце.
Но потом и это прошло. Вылезла на свет Божий Лиззи – видимо, отсыпалась где-то, потому что вид у нее был сонный. Неряшливая толстуха, взъерошенная и лохматая. И тотчас накинула на мужа черное пальто – южане, они мерзнут в непогоду. В тот момент с меня сошло наваждение.
Некоторое время я еще посидел, борясь с навалившейся усталостью.
А потом весь зал заполонили солдатики. Не какие-то там офицеришки, а самые что ни на есть рядовые. Это было похоже на чудо: нахлынули и рассыпались по местам в мгновенье ока, точно мыши. Откуда они взялись, понятия не имею.
И тогда я убрался восвояси. Какое решение я принял в ту минуту? Упомяну только суть.
Никогда больше мне нельзя видеть ее, нельзя думать даже о самой возможности этого. Я и прежде считал так, но сейчас лишь утвердился в своем решении. Есть тут некоторое противоречие, которое я вряд ли сумею выразить словами.
Ведь и раньше я твердил себе: нет, нет, больше никогда!.. И все же во мне не угасала надежда, что это лишь временно, и что когда-нибудь нам удастся поговорить с ней. Если не здесь, значит, в другой жизни. Я думал о предполагаемой встрече с нежностью, и мысль эта сулила незыблемый, вечный покой.
Больше того, когда появилась эта незнакомая толстая женщина, другая Лиззи, я был настолько подавлен ее видом, что сказал себе:
«Почему бы тебе не наведаться к ней? День туда, день обратно, и полчаса на свидание».
Отсюда и мой зарок. Уж слишком страшным было потрясение. Вот что я тщетно пытаюсь объяснить. Да и зачем? Ведь страдания – только мои, значит, и уроки извлекать мне, а подлинность страданий изведал лишь тот, кто их пережил. И сколько бы я ни давал клятв, что отныне буду держаться стойко, слова останутся словами, а это мне поперек души.
Ни в жизни, ни в смерти, никогда больше – вот и весь зарок.
«Помни о солдатиках в предрассветный час!» – так гласит пароль. И только я один знаю, что скрывается за ним.
На том приключения и кончились. Какое-то время я заставлял себя предпринимать вылазки, но совершенно утратил к ним вкус. С тем и вернулся в Париж окончательно.
А теперь возвратимся немного назад во времени, поскольку я лишь сейчас вижу, что упустил нечто важное. В Лондоне мне пришла в голову мысль – коль скоро уж я здесь – не заглянуть ли еще разок туда, где жизнь моя столь круто повернулась, и осмотреть то место, где тогда состоялся бал. Взглянуть, так сказать, при свете дня. Проникнуть под каким-нибудь предлогом в зал… вдруг да получится? И все получилось. Даже нашел в телефонной книге номер мадам Пуленк, и адрес ее не изменился.
Вот только заявился я туда слишком рано. Сам-то я всегда встаю с петухами и поэтому часто просчитываюсь, так как восемь-девять часов для меня уже не ранее утро, как для других. А в такую пору дня не принято будоражить людей. Но ничего не поделаешь.
Итак, вернемся назад, поскольку были у меня и другие планы. Скажем, попытаться проследовать тем путем, каким я возвращался с бала домой.
Эта попытка удалась лучше, чем я загадывал. Дивно светило солнце, и мною руководил некий поразительный инстинкт. Правда, в таких случаях помогают и кое-какие ориентиры: здесь мне встретился на пути какой-то театр, здесь я уперся в центральную магистраль, с той стороны виднелся купол собора Святого Павла и так далее. Даже детали ярко запечатлелись в памяти.
Более того, настолько четко и ясно, что остается только удивляться. Ведь за исключением несущественных ошибок я нашел почти все, что хотел, к примеру, сводчатую подворотню, где я сорвал с себя бороду, маленькую улочку, где я поскользнулся и чуть не сломал ногу, зато та площадь, где злой рок свел меня с таксистом… словно сквозь землю провалилась, словно поглотил ее город. Возможно, ее застроили? Понапрасну я втолковывал прохожим, что где-то там была церковь, ведь я прекрасно помню ее слабоосвещенные окошки и мягкие звуки органа, доносящиеся сквозь туман, я, помнится, даже удивился, что у англичан ранняя служба совершается под музыку… а может, просто кто-то упражняется. Да что тут говорить, несколько часов расхаживал я взад-вперед – уже и полдень возвестили, – а все зря. Площадь исчезла с лица земли.
Мне было не по себе. Не то чтобы меланхолические чувства привели меня сюда, но за годы у меня возникла определенная связь с этим стариком. Несомненно. Ведь я не только жалел его, меня занимала судьба бедняги – эта странная случайность, столкнувшая нас именно тогда… почему он должен был умереть? В ином месте я накопил свою злобу и этой черной злостью сломал его позвоночник – разве не унизительно? Что он жертва, а я средство его гибели?
Тем не менее я не был ни грустен, ни взволнован, вполне равнодушно оглядывал места действия. Иные чувства охватили меня, однако, когда растворились передо мной ворота и я вступил под островерхие своды. Даже желудок схватило спазмом.
Ведь все это имело для меня другое значение: именно здесь круто повернулась моя жизнь! Признаться по совести, с тех пор я, в сущности, и не живу: завтракаю, ношусь туда-сюда и все же не убежден, что я жив. Неужели на серьезного человека может столь роковым образом действовать другое существо – облаченное в юбку, писклявое двуногое? Прежде подобными вопросами я обычно занимал себя ради развлечения и никогда не отвечал на них утвердительно, как сейчас, вновь вступая под своды.
Но была, должно быть, и другая причина столь необычному влиянию. Бывают воспоминания, которые со временем спокойно укладываются в памяти. Их не переживаешь заново или не хочешь переживать, у них, видимо, свои пути в человеческом сердце: вчерашний день для них – не реальное вчера, а всего лишь время, когда человек в последний раз занимался ими. А я об этом доме не вспоминал никогда. О шофере – бесчисленное множество раз, а о доме – нет. О роковых событиях в моей жизни я молчу. Они засели во мне пулей, но им вынесен приговор молчания.
«Здесь ты сидел, в этом саду», – напомнил я себе в это мгновение. И действительно, я словно вчера был здесь – настолько близко оказался этот сад, – а потом отлучился домой переодеться или что-то в этом роде.
В большой зал я даже не зашел – душевных сил не хватило. Ведь тогда, спустившись из студии, я сказал себе, что с меня хватит.
Между тем в студии этой не было ничего особенного. Самая обыкновенная театральная школа, курсы по подготовке кинофильмов – таких в больших городах десятки. По моим сведениям, мадам Пуленк организовала школу для своей сестры, болезненной женщины, балерины на пенсии. Там можно было обучаться танцам, изящным движениям, а главное – любви.
Перед домом шикарные автомобили, в коридорах шныряют молодые господа, некоторые из них даже в цилиндрах… Из-под полуопущенных ресниц, словно вода, холодно поблескивают глаза, ведь эти господа – особой, избранной породы, они неохотно дают понять, что замечают тебя.
О, знаю я, сколь завораживает это волшебство: любезничать с какой-нибудь Персефоной в темном зрительном зале, во время репетиций! Пока идет действие, барышня и сама задыхается от переполняющих ее классических страстей – знаю, что во все времена это было любимым развлечением знатных господ. Но чтобы здесь бывала та, кого я любил, чтобы она находила в этом удовольствие?..
Это одна сторона дела, а другая заключалась в следующем:
Близость или отдаленность события в подобных случаях одинаково играют на нервах человека. Все это случилось словно вчера и все же куда оно уже ушло, это вчера? В непостижимую даль, как уходят умершие. Туманная дымка отделяет нас от прошлого, путаница, хаос, наверняка вызванные теми ночами, когда я без сна ворочался в постели, или же теми вечерами, когда я вместе с упомянутой мудрой сеньоритой с короной роскошных волос разгуливал по одной из украшенных агавами аллей и, приподняв шляпу, раскланивался с господами, проносящимися мимо в своих легких колясках. Странная штука человеческая жизнь, быстротечная и неуловимая! Пожалуй, вернее всего будет уподобить ее единому вздоху. Кто поверит, к примеру, что в Южной Америке я носил бороду? Что содержал любовницу, ту или иную латиноамериканку или какую другую иностранную красотку. Они и отошли в дальние дали.
И все же, хотя столь многое теперь разделяло нас с женой во времени, с ней самой в душе моей ничего не происходило. В неком заколдованном царстве, немом и недвижном, она обреталась близ моего сердца, где-то в соседней комнате, скажем так. Стоило только туда войти, и она была там, погруженная в ничем не нарушаемую тишину, и читала свои заумные книжки. И лишь сейчас, после стольких лет, выяснилось, как обстоит дело со мной, и наверное, потому, что мне до такой степени не хотелось вспоминать ее. Оказалось, что мне приятно было бы отсюда заглянуть ненадолго в «Брайтон», сесть за свой столик в углу, где спина защищена стеной, и оттуда вновь вернуться домой, разложить перед собою свои обширные ведомости да реестры и погрузиться в работу при свете лампы под круглым абажуром.
Вот из-за чего, собственно, я все это рассказываю.
Ее роковую близость чувствовал я и тогда, в тот день. Ведь все же в ее руках была моя жизнь в этом городе, не следует забывать, что именно она выцарапала меня у смерти. Я неотступно думал об этом, и передо мной возникала одна и та же картина, о которой я ни разу не вспоминал с тех пор: я болен и притворяюсь, будто сплю… Да-да, все так и было. Мне хотелось, чтобы она хоть немного отдохнула. Но она все-таки проверяла, как я, что со мной, низко склонялась над постелью, и к лицу ее приливала кровь. А в глазах застыло выражение глубокой озабоченности.
Значит, все-таки она любила меня – вот что хотел я доказать себе, каждой вспышкой чувств. Хотя тогда я уже вышел на улицу. На душе было до того хорошо, благостно, точно озарило ее горним светом.
От минутной, мимолетной надежды, что жена все-таки любила меня.
И это, конечно, беда, и немалая: что я по-прежнему чувствую себя на седьмом небе от одной этой мысли!
– Уймись, глупый болтун! – попытался я вновь отогнать ее от себя. Но тщетно.
Ведь говорю же, не знаю, что бы я отдал сейчас за возможность вернуться домой, как прежде. Не куда-нибудь еще, а только туда. То бишь к ненавистным крышам, над которыми перед закатом кружат белые голуби.
А тут еще это убогое предрассветное кафе с Лиззи и Додофэ. Вот почему я запер накрепко, причем окончательно, дверь в другую, близкую сердцу комнату.
Цвет ее глаз я с трудом припоминаю, сколько бы ни напрягал память. Прежде я называл их голубыми, но, пожалуй, это было не так. Скорее, цвета янтаря – таково мое впечатление, – янтаря, темневшего от сильных страстей, или же отливающего синевой в ненастье. Далее: была ли она упоительной или же скучной? Красивой или нет? Теперь, как правило, лицо ее представляется мне заспанным, а волосы – взлохмаченными. И тогда она кажется мне красивой.
На этом, пожалуй, можно бы и закончить, поскольку исчерпан круг воспоминаний, которые я спозаранку позволяю себе поворошить. Уж в этакой малости грех себе отказывать. Ни к морфию не прибегаешь, ни кокаином не балуешься… должна же быть у человека хоть какая-то дурная привычка. Если нет у меня ни будущего, ни надежд, да еще и отречься от прошлого, что же останется мне под конец? О чем тогда размышлять по утрам, не о пипетке же, которую держишь в руках? Кстати, я пришел к одному важному выводу, и как раз в ходе раздумий на заре нового дня. До сути вещей докопаться невозможно. Крути-верти сколько угодно – невозможно прожить их во всей глубине и полноте, ибо жизнь не поддается глубинному проникновению, и мы, судя по всему, касаемся лишь ее поверхности, ее пенной накипи.
Ведь не будь это так, чем тогда объяснить, что порой меня даже охватывает сомнение, действительно ли произошло со мной все то, что я изо всех сил пытаюсь сохранить в себе. Не уверен, признаюсь откровенно. У прошедшего есть свойство испариться, развеяться туманной дымкой, и память ему это позволяет. Как же это понимать? Выходит, душа сродни воздуху или воде, коль скоро от всплесков ее и следа не остается?
С другой стороны: если допустить, что я всецело постиг случившееся, то как объяснить, что я и по сей день в состоянии ворошить прошлое и изо дня в день открываю в нем нечто новое… что иногда оно кажется мне сладостным, а в другой раз – горьким… Не стану продолжать, поскольку это уводит в бесконечность – в нескончаемость раздумий. Достаточно сказать, что мне приятно время от времени копошиться в этих мыслях, а предрассветный сумрак – весьма подходящая пора для подобных занятий. Закутаешься поплотнее в одеяло и чувствуешь, как в голове постепенно яснеет, как во внешнем мире за окном. Ощущение настолько приятное, что наверняка захватило бы меня целиком, не будь я властен над собой. Но я собой владею и даже разработал на этот случай психологическую практику: полчаса даны на откуп мечтам, после чего я мигом вскакиваю с постели и начинаю новый день. Лучшее средство против подобных «запоев» – непрестанно находиться в движении. И уж коль скоро мы об этом заговорили, перейдем к перечислению моих новейших парижских впечатлений.
Начнем с самого главного: я все же поступил в университет. Конечно, не студентом, а вольнослушателем. Что послужило тому причиной? Не справляясь с химией в одиночку, я нанял себе репетитора. Но тот получил работу где-то за границей и уехал. А поскольку он и ранее водил меня иногда в университет, чтобы продемонстрировать кое-какие опыты (сам-то он служил практикантом в институте химии), я не стал подыскивать себе другого наставника, а взял да записался на курс. Посмотрим, справлюсь ли?
Вот и вся предыстория.
Тем самым мне удалось подавить в себе чувство страха, с детских лет охватывавшего меня при виде храма науки, а в последнее время – главным образом из-за возраста: мне, мол, там не место. Но теперь, когда я увидел, что ни одна живая душа на меня внимания не обращает, я разохотился, даже, можно сказать, вошел в раж.
И действительно трудился на совесть, с утра до вечера, не то что какой-нибудь студент. Корпел, не поднимая головы. Поначалу возникали кое-какие досадные обстоятельства, но я их быстро преодолел. Упомяну хотя бы одно: странной казалась мне эта нынешняя молодежь, никак я не мог к ней приноровиться.
«То ли дело в наше время!.. – так и просится на язык. – Тогда и молодежь была другая». Черта лысого, такая же точно была, как и теперь. Человек во все времена одинаков, разве что одежда меняется – сегодня, скажем, чуть покороче да поведение раскованнее. Пожалуй.
Молодежь устремлялась потоком. И не сказать, чтобы страстно – равнодушной массой, как воды Миссисипи. Швыряли на столы тетрадки и насвистывали сквозь зубы. Понимай так, что они неколебимы и стойки. Только в чем они столь уж неколебимы?.. Я в ту пору вечерами почитывал прозу Леопарди, очень талантливый был человек, блестящий ум, и мне иногда думалось: а что сказал бы на это Леопарди? Да ничего не сказал бы. Тогда чего уж мне говорить?
Должно быть, эта молодежь – коммунистических убеждений, предполагал я. Ничуть не бывало. Потому что доводилось слышать и такие высказывания:
– Воображаете, будто меня интересует коллективное сообщество?
– А вы думаете, мне оно нужно?
– Ха-ха! – прозвучало рядом. Значит, и там, в углу, сыскался кто-то, кого коллективное сообщество не волновало. Только в чем же тогда они столь уж неколебимы?
«В своей юности, бестолковый старик, вот в чем!» – одергивал я себя и продолжал работу.
Однако была среди них одна барышня, которая больше других выводила меня из равновесия. Правда, лишь поначалу.
Вдобавок та самая, кому мой прежний учитель поручил следить за моей лабораторной работой.
Вполне порядочная барышня, не придерешься: прилично одета, уши, нос, ноги – все безупречно, но почему-то ужасно скучная. Может, их специально натаскивают на уныние и серость? – думалось мне. На ногах грубые ботинки – конечно же на низком каблуке, волосы зачесаны назад… Все бы это полбеды, прямое следствие научных занятий. Но чтобы у нее не нашлось ни одного доброго слова для человека в летах, который столь одинок и к тому же старательно выполняет свое дело!
– Неплохо, – небрежно бросала она. Максимум, чего от нее дождешься. А я, признаться, рассчитывал на большее. Ребячество, сам понимаю, но хотелось большего.
– Это хорошо, а это не очень, – так она изволила оценивать плоды моих напряженных усилий.
Поначалу я пытался было к ней подкатиться. Обращаясь к ней, говорил, например, что погода сегодня пасмурная. «Да», – отвечала она. «Вроде бы тучи рассеиваются», – замечал я. Она и на это согласно кивала.
«Ну, погоди! – думал я. – Заговоришь ты со мной по-другому». Знаю я силу своего взгляда. Смотришь, смотришь, бывало на этакую безукоризненную барышню до тех пор, покуда она не придет в смущение и не примется сама сообщать мне, какая нынче погода. Все именно так и произошло. Но к этому повороту событий мы еще вернемся.
Я продолжал трудиться со все возрастающим интересом – и это главное. По-моему, интересней химии не сыщешь.
Какую поистине поэтическую радость испытываешь, сделав хоть самое пустяковое открытие в науке, не понять тому, кто сам этого не пережил. Одно наблюдение за преобразованиями веществ чего стоит. Допустим, есть у тебя какой-нибудь голубой газ – я колдовал над ним какое-то время, и вскоре им можно было гвозди забивать, настолько твердым он делался. То есть нечто воздушное превратилось в твердое вещество – ну, разве это не радость? Кстати, я мысленно лелеял мечту о небольшой, идеально обставленной лаборатории, где можно бы производить эксперименты над некоторыми легко вступающими в реакцию веществами. Особенно волновали мое воображение карбамиды, они не только кислотоустойчивы и могут служить изоляторами, но и не хрупки – такие очень нужны современной промышленности, я давно был наслышан об этом.
Пожалуй, и достаточно о химии. Вечера же я посвящал чтению. Теперь и я отдавал предпочтение «книгам возвышенного рода», хотя, конечно, чтение мое не было систематическим, брал то, что настойчиво рекомендовал книготорговец. Однако литература не для меня, не находил я в ней особой радости, о чем красноречиво свидетельствуют мои замечания о прочитанном. Например:
Ли Мастерс: надгробья у него хороши, остальное – нет.
Улисс: мура собачья.
Ромен Роллан: приторная тягомотина.
Верфель – бельгийский автор – сплошь тошнотворная стряпня.
И далее в таком же роде.
Оставим это, в литературе я не смыслю. Кому-то, может, и покажется смешной моя наивность, но все равно признаюсь, что Диккенс, например, доставил мне наибольшую радость, особенно одной своей книгой. И покуда жив, незабываемым останется Рождество, которое я провел с ним. На весь день зарядил дождь, и я с утра до вечера буквально ничем другим не занимался, кроме как ел хлеб всухомятку и читал Диккенса. Чтение затянулось до глубокой ночи, до полного одурения, я пережил тогда восторженный подъем, как во времена далекой юности. Изредка подходил к окну, глядел на унылый дождь… И не переставая курил трубку.









