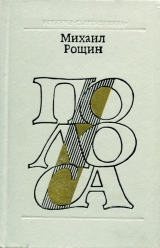
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц)
За тополями вдоль аллеи стояли красивые дачи за разномастными заборами, но Шура вела Ваню все дальше и дальше. Потом дачи кончились, начался небольшой поселок. Тут расположились барачного типа двухэтажные дома, очень старые, густо заселенные, но не безобразные и грязные, какими бывают обычно такие дома, а, наоборот, симпатичные: за долгие годы они обросли палисадниками, огородиками, деревьями. Пристроенные терраски заплело диким виноградом и вьюном. За домами тянулись клубничные грядки, действительно красные от ягод, зеленели огороды. За огородами стоял чистый березовый лес.
Шурина квартира, две комнатки и терраса, находилась на втором этаже, туда надо было подниматься по деревянной крутой лестнице. Она громко скрипела, на нее падало солнце, и чистые ступени желто светились. В комнатках тоже сияла чистота, стояла металлическая кровать с блестящими шарами и голубыми бантами. На старом буфете блестел самовар, на выцветших обоях висели выцветшие фотографические портреты в деревянных рамочках. Вот уж непохоже на Шуру. Шура живет!
Появились старички, Шурины дед и бабка (оказывается, она с ними всю жизнь прожила, без родителей), тоже чистенькие и приятные, белоголовые, совсем старые. На Шуру глядели с обожанием, на Ваню с лаской. Опять же совсем непохожие на Шуру люди.
Здесь террасу тоже заплело вьюном так густо, что открывалось лишь одно окно; Ваня сел на подоконник, глядел на недалекий красивый лес. Шура переоделась, торопясь засветло накормить Ваню клубникой прямо с грядки. А еще раньше пообедать. Переоделась она в кофточку в рукавами и в старую, знакомую Ване защитную юбку.
От этой юбки и пошли они опять вспоминать контору – уже говорили о ней, пока шли от станции, и, собирая клубнику, тоже говорили. Вокруг в бараках на неогороженном пространстве дворов, на грядках, на огородах набиралось все больше после работы людей, дети гомонили со всех сторон, в сараюшки хозяйки загоняли кур и гусей, с детьми бегали собаки, выгибались на карнизах кошки – все кипело и жило кругом. Народ с интересом поглядывал на незнакомого Ваню, здоровался с Шурой, и Ваня заметил, что Шура понемногу словно бы утихает и лицо ее разглаживается от усталости.
Шура хоть и ушла давно, а конторские новости знала. А Зяблик совсем не знал: мать его перевелась из министерской столовой в другую, заходить туда стало не к кому. Сам он уволился еще в марте. Шура рассказывала, что в конторе почти все по-старому, только Зоя перевелась на другую работу да Капитанша вышла наконец замуж за своего капитана и уехала с ним на Дальний Восток. Просвирняк так и укрепился на междугородке, даже в месткоме теперь, а Пошенкин исчез. Дмитрий Иваныч еще на месте, но упорно говорят, что его скоро сменит Щипков.
– Да ну их! – Шура махнула в конце концов рукой. – Противно.
Они прошли березовым лесом до самого шоссе и по нему уже почти в темноте возвращались обратно. Ваня хотел сразу идти на станцию, но Шура не отпускала его, и Зяблик, как всегда, поддался чужому уговору.
Пришлось ему оставаться ночевать. Спал он на террасе на жестком топчане, который, как Ваня понял, был Шуриной постелью. Он заснул быстро, потом проснулся – то ли от шорохов природы, то ли от непривычной деревенской тишины. И подумал: зачем Шура его зазвала, почему? Неужели так и живет с этими божьими одуванчиками и больше нет у нее никого? Ваня прислушивался, ему казалось – кто-то ходит. Но нет, все спали, только на первом этаже заорал было грудной ребенок, которому тут же заткнули рот соской. Ваня невольно вспоминал опять контору, Митрофаныча, весь их важный дом, похожий на корабль. Шура не ужилась там, а Просвирняк ужился. Вот черт, он забыл спросить, а что же с Артамоновым. Что с ним-то сталось? Не забыть бы утром. А с другой стороны, какое Ване дело до Артамонова, до всего этого? Он работал теперь в одном большом научном институте, тоже на АТС, и уже закидывал удочки, чтобы остаться потом, после института, там инженером. Бог с ним, с прошлым, с прозвищем Зяблик, даже с Шурой. Все это минуло, не вернется. Зола.
С тем Зяблик и уснул.
А утром поднялись рано – и Ване и Шуре надо было на работу. Раннее солнце уже пылало, ветра не было, густые плети вьюна лежали плотно, и утренним лучам никак было не пробиться сквозь них.
Шура вышла легкая и свежая, во вчерашнем платье, но, видимо, выстиранном и выглаженном. Она весело подгоняла Ваню, приносила ему пахнущее воздухом полотенце. Опять появились и тихо двигались ласковые белые старики с добрыми утренними улыбками. В рабочем доме тоже все вставали, ходили, делали зарядку, гремело радио, а вдали уже неслись, шумели электрички.
Опять сидели за столом, пили, уже торопясь, чай, и не из самовара, а из чайника. Пчелы одна за другой влетали с деловым жужжаньем в солнечное окно и садились на край чашки со свежим клубничным вареньем. Они изо всех сил трудились, снуя лапками, хоботками, крылышками, тычась в варенье, и на глазах набухали, ухватив даровой взяток. Потом поднимались тяжело, как чересчур нагруженные самолеты, и неспешно вылетали назад в окно. Никто их не гнал, не боялся, не бегал с полотенцем, махая на все стороны. Старик еще взял ложку и помазал края побольше, чтобы пчелам было легче пить, чтобы не лезли в гущину и не топли. Лицо у деда и для пчел было ласковое.
Зяблик побаивался пчел, но держался, как все. Разок только вдруг поперхнулся, когда пчела задела его прямо по носу, и все трое с одинаковыми лицами, Шура и старики, глядели на него: что с ним? Готовы были тут же помочь.
Потом вдали сказали по радио точное время. Ваня с Шурой подхватились, побежали на станцию, уехали, распрощались на той же «Курской»: «Заходи, звони!» – и больше не встретились никогда.
Первый, второй
(С утра до ночи)
Был шестой час утра. Карельников уже поднялся и, включив свет, стоял в трусах в коридоре перед трельяжем, брился. Электробритва зудела на весь дом по пустым комнатам.
Позавчерашний день все не шел из головы. Вчера уже была куча дел, и сегодня предстояло дай бог, тем более что Купцов слег все-таки, загрипповал. Карельников один остался – да, дел невпроворот, но из памяти никак не уходило то, позавчерашнее: бюро и как они вышли из обкома, как обедали потом вдвоем, летели в «аннушке». Главное, что между ними, кажется, пробежала черная кошка. Вышло, будто он подвел первого. Смешно, конечно, но получилось именно так: Карельников подложил Купцову свинью. Кое-кто так и скажет. Да и сам Купцов разве не дал ему понять? Когда вышли из обкома, остановились на обкомовских ступеньках, Купцов повернул к Карельникову красное лицо и сказал зло: «Ну, понял?»
А за обедом?.. Обед попросили в номер. Купцов решил выпить, чтобы разогреться, разогнать простуду или, может, просто разрядиться, а пить в ресторане, на людях, не хотел, и они обедали вдвоем в номере. И тут, наверное, надо бы иначе себя повести, подобрее. Купцов брезгливо, почти с отвращением, как лекарство, выпил целый стакан – с краями налитый, водка по стенкам текла и капала, да, наверное, тоже надо бы выпить и сказать что-то утешительное, а Карельников покуривал и молчал. Но он не чувствовал себя виноватым.
А выходило, что виноват, если б не он, не было бы и записки в обком, ожидания, и, в конце концов, этого бюро, и сначала насмешливого, а потом уничтожающего разгона им обоим. Им обоим, но, главным образом, конечно, Купцову, поскольку Купцов первый секретарь райкома, старый и опытный, а Карельников второй, и, как говорится, без году неделя второй.
В стылом и тряском самолете за час полета они уже ни словом не обмолвились. Купцов, совсем больной, с температурой, с красным и набрякшим, постаревшим лицом, поеживался, запахивался в пальто и не глядел на Карельникова.
Электробритва раздражала, он слышал ее звук, и в затылке отдавался моторчик – первый признак утомления и скверного настроения. Надо сбросить с себя эту тяжесть. Дел полно. Но в голову помимо воли лезло одно и то же: как он все-таки не сдержался и вспомнил Купцову, что они, собственно, когда готовили записку, и не рассчитывали, что их встретят с распростертыми, знали, на что шли. Шуточки ли – предложили менять основу экономики всего района, на областной баланс замахнулись. Но все-таки, что греха таить, надеялись: поддержат, поймут, в пример даже, может, поставят. А что сказал им Козаченко? «Работать надо, а не прожекты сочинять. Работать не умеете, вот и придумываете, легоньких путей все ищите! Реформаторы!»
Слава богу, побрился! Можно дернуть штепсель и бросить наконец нагревшуюся жужжалку. Бритву получше не могут придумать, бухтит, как трактор. Еще этот пустой неприбранный дом, сиротские без Нади и Витюшки комнаты, ворох грязного белья в ванной, остатки остывшей на сковороде яичницы – одно к одному… А как Козаченко бросил под конец их записку, каким жестом брезгливым. А она год писалась, по ночам, сколько людей труд свой вложили и, главное, надежду.
Ну, ничего, время покажет. Не ударяться только в амбицию, не поддаться обиде и этакому настроению, как сейчас. Речь идет не о самолюбии первого или второго – о деле, о районе, о том, что так дальше жить нельзя. Обойдется. Перемелется – мука будет.
Он стал под холодный душ, растерся, побрызгал лицо одеколоном из пульверизатора, надел чистую теплую ковбойку, приободрился. Под душем, хлопая себя по крепкому телу, растирая руки и ноги, покрякивая под ледяной водой, он всегда вспоминал о своем возрасте, о том, что только-только перевалило за тридцать, все еще впереди. В хорошем настроении, когда Надя дома, он еще и пел в ванной. Уже две недели, как Надя отвезла Витюшку в Новгород к бабке, а сама сдает в Ленинграде сессию. Сегодня экзамен, позвонит, должно быть, к ночи.
Уже торопясь, стоя, он выпил на кухне чая, подумал, что надо бы выкроить время, прибрать, перемыть, а то домой идти неохота. Он любил хозяйственно походить по дому с молотком и гвоздями, замазывать окна на зиму, колоть дрова; когда Витюшка родился, стирали с Надей в четыре руки пеленки, сам обеды варил, полы мыл. Но теперь и забыл уже, когда это делал, – времени нет и кто-то другой приходит замазывать окна, чинить краны, а дрова привозят колотыми.
За окном светлело, хотя день, похоже, опять собирался пасмурный и с дождем. Проклятая еще погода, двадцать первое мая, а все не отсеялись.
Пора было ехать. Он сбросил тапочки, надел тяжелые сапоги, кепку и куртку, вышел на крыльцо. Вспомнил и поманил за собой кота, чтобы тот не оставался в доме. Кот лениво вышел, и Карельников сказал ему: «Пошатайся опять где-нибудь, к вечеру вернусь». Крыльцо мокро блестело от ночного дождя, на пустом дворе стояли лужи, зато «газик», что ждал его у крыльца, омыло после вчерашней грязи.
За забором, на той стороне улицы, дом Купцова – такой же, как у Карельникова и у другого городского начальства – у директора Стекольного, у председателя райисполкома, у начальника милиции, – такой же типовой чистенький финский домик с тремя окнами по фасаду. Знакомые желтые занавески на окнах были задернуты. Неужели Купцов надолго свалился? Не ко времени. Надо будет зайти проведать, теперь, наверное, успокоился немного, оттаял.
Он сошел с крыльца, открыл дверцу, достал из-под сиденья тряпку, наскоро протер ветровое стекло. Вымел чуть-чуть из-под ног вчерашнюю непросохшую грязь. Открыл ворота, выехал задом. «Газик» завелся сразу, будто только и ждал, когда к нему прикоснутся.
Карельников вышел, чтобы затворить ворота, и увидел, как показалось ему, что в доме Купцова поднялась и опустилась занавеска в крайнем окне. Может быть, постучаться, зайти? Не спит, может? Рано вообще-то всегда встает, Карельникова научил в пять вставать. Ну, ладно.
Он проехал медленно своей улицей, где выстроились рядком эти самые финские домики, и выехал на Волейбольную. Тут стояли катки и грейдер, горками был насыпан щебень. Карельникову пришлось съехать со свежего асфальта на обочину. Он отметил, что со вчерашнего дня дорожники нисколько не продвинулись (опять дождь проклятый) и что сейчас пока ни одного рабочего на дороге нет, а ведь обещали к первому июня Волейбольную сдать.
Проехал до моста, миновал мост, заводские пруды, рынок. Еще не решил, куда поедет сначала: в «Первое мая», к старику Нижегородову, или в Кувалдино, к Ляху. Отметил мимоходом, что ворота на рынке уже раскрыты, но стоят всего две машины, людей мало, пусто. Не до рынка сейчас. На дверях новенького стеклянного магазина «Спутник» (одежда, галантерея, парфюмерия) висела дощечка – «ремонт». Осенью только открыли торжественно, нахвалиться не могли – тоже и у нас модерн, не лыком шиты! – и вот за зиму магазин скособочился, два больших стекла лопнули, пластик на полу вздыбился, начинай все сначала.
После областного города Михайловск, как всегда, казался большой деревней, да он и был, в сущности, селом Михайловским, с шестьдесят первого только переименовали. И вот с тех пор бывшее Михайловское из кожи вон лезет, чтобы походить на настоящий город, строится и асфальтируется, но все равно реконструкция захватывает пока только самый центр, «пятачок», да район Стекольного, а остальной Михайловск все остается деревянным и одноэтажным. Сюда бы еще троечку таких заводов, как Стекольный, или большую стройку, или хотя бы железную дорогу не в восьмидесяти километрах, как сейчас, а поближе, тогда бы пошло дело. Или… Да, или то, что было написано в их «прожекте»: интенсивный животноводческий район потребовал бы холодильников, мясных и молочных заводов, возродилось бы кожевенное производство, можно было бы построить обувную фабрику… Ну ладно, ладно, а пока вон тетка выгоняет из калитки корову, а вон другая, а вон и два пастуха волокут свои кнуты по асфальту.
Карельников доехал до развилки, где стоял новенький, выкрашенный серебряной краской столб не столб, обелиск не обелиск с вертикальной по нему надписью «Город Михайловск». Тут же были слова «Добро пожаловать!» и типовой синий орудовский щит с румяным милиционером и стандартным изречением, что Михайловск приветствует дисциплинированных водителей. Карельникову припомнилась ГДР, магдебургские голубые шоссе с указателями и надписями, его шоферская солдатская служба – давно дело было, совсем мальчишкой был Витя Карельников.
Как-то сам собой «газик» повернул налево. Ну что ж, к Нижегородову так к Нижегородову. Интересно, знает ли уж старик, с чем они вернулись? Что-то он скажет? Ничего ему, черту хитрому, не делается. Пока он в председателях, секретарей-то в районе не меньше десятка поменялось, уж он-то всякое повидал.
Каждый раз, выезжая на первомайскую дорогу, Карельников любовался видом, который открывался за развилкой. Михайловск лежал в долине между невысокими горами – это все исконно лесные места, с пестрыми и скудными почвами, с глиной и камнем, но необычайно красивые, просторные: извилистая, тихая и мелкая Сога в черемуховых зарослях, просторные чистые луга с отдельными по ним старыми ветлами, отлогие склоны холмов, как бы самой природой приготовленные под пастбища, а выше – леса: сосняк, береза, дубки, светлые и чистые леса. Каждый дол скрывал в себе деревеньку – совсем близко подъедешь, и то не увидишь, пока не выдаст ее старая колокольня. Остались еще тут деревянные церкви и каменные, но все заброшенные.
Ровные и обширные поля в Михайловском районе по пальцам перечесть, поэтому стали запахивать луга. Вот, например, сразу слева от дороги луга были, а теперь?.. На просторном длинном поле, заняв его на две трети, поднялась молодая зелень – это взошло то, что успели до мая посеять. А остальной участок лежал черным и пустым, и на самом краю его увязла в грязи сеялка без трактора – значит, до сих пор еще сеяли или, в лучшем случае, только-только закончили. Как зарядили с тридцатого апреля дожди, так по сей день колхозы никак из грязи не вылезут. Вот тебе и луга.
Дорога едва приметно поднималась вверх и вверх, белела среди зелени и черноты полей. Карельникову надо ехать до самого леса, подняться в гору, там по нагорью километров восемнадцать, все лесом, а затем снова спуститься вниз, а там уже – и само Пеплово, и усадьба Первомайская.
Впереди сошла с дороги, посторонясь от машины, высокая старуха в тулупе и сапогах, с авоськой, в которой успел Карельников разглядеть хлеба буханку. Мелькнуло испуганное длинное старушечье лицо. «Это куда ж она?» – подумал Карельников. До ближайшей деревни километров восемь. «Не иначе как из Прудов». Он было проехал, но потом затормозил. Откинул правую дверцу, высунулся, обернув голову назад. Старуха стояла в нерешительности и испуге.
– Далеко ли тебе, бабка?
– Как? – голос у старухи высокий, она кричала почти.
– Куда идешь-то? – закричал тоже Карельников.
– А в Пруды, милай, в Пруды, тамошняя я.
Все не выходя на дорогу, старуха заторопилась, заковыляла по грязной обочине к машине, ссутулилась, будто сделалась меньше ростом.
– Ну садись, подброшу тебя, – Карельников перегнулся через сиденье и открыл заднюю дверцу.
– Да это что ж, это спасибо, милай, только отплатить-то мне нечем тебе. – Старуха говорила все так же громко, должно быть, глуховата была.
– Садись, садись, ладно.
Старуха стала сбивать с сапог грязь, неумело, неловко полезла в машину, благодарно и испуганно бормоча. Карельников опять перегнулся и захлопнул за ней дверцу.
– Из Прудов, значит?
– Оттуда, оттуда, милай, из Прудов мы.
– Чья ж ты?
– А Василёва, милай, Василёва Анна. Мужика-то нету у меня, на войне убитай, а дочка старшая, Анютка, тоже в доярках, может, знаешь, в Первомайском дояркой. Она-то по мужу Анфисова…
– А, Анфисова, знаю, – Он в самом деле слышал такую фамилию, Анфисова. Но не может быть, чтобы в Прудах жила доярка, а в Первомайском работала, больно далеко от Прудов до ферм, что до первой, что до второй. Пруды – это совсем затерянная деревенька, богом забытая, в семь дворов всего. – Что ж она, с тобой живет, дочка-то? – Карельников глядел на дорогу и спрашивал, не оборачиваясь, громким тоже, высоким голосом. Старуха разбирала, не переспрашивала.
– Строюца, строюца. В Пеплово ушли. Куда ж в Прудах-то!
– Строятся? Это во сколько ж им дом-то встанет?
– А во сколько! Новый-то в одиннадцать старых обломится, да хотим вот старый перевозить.
– Старый?
– А то куда ж его? Не бросать, чай, а покупщиков на Пруды-то не найдешь. Худое место, вовсе, милай, худое. Пруды-то не годятся никуды.
– Худое, говоришь?
– Куда-а! И не дееца им ничего, Прудам-то, разбомбил бы их уж господь! Старухи мы одни остались да ребятишки. Большие города, слышу, пощиплют там войной али еще как, да обратно отстроюця, а нам сто лет все одно. Никудышнее место!
– Так ведь ты небось всю жизнь там прожила, или не жалко?
– Нет, я не отсюдова, меня мужик привел, мы сами-то серебряковския…
Карельников усмехнулся: Серебряково было в соседнем районе, всего километрах в сорока пяти отсюда. Старуха осмелела заметно, так же громко, почти на крике, стала рассказывать, как привез ее мужик в Пруды, как жить стали.
– А ведь у вас в Прудах свой колхоз был, – вспомнил и перебил Карельников и усмехнулся опять: колхоз на семь дворов.
– Был, был, как же! Опосля войны еще был, да что проку-то!
– А скажи мне, пожалуйста, по скольку ваши мужики прежде хлеба тут брали?
– Брали? А помногу, милай, никогда не брали, но по шестьдесят бывало…
– Ну уж, по шестьдесят! – Карельников не поверил, хотя и эта цифра невелика была. Но если учесть, что в прошлом, например, году едва собрали то, что посеяли, и если учесть, что в лучших Михайловских хозяйствах цифра в семь центнеров написана на всех лозунгах и плакатах как предел взятых колхозами обязательств, то десять почти центнеров, конечно, немало.
– Это на каких же, мать, полях они брали?
– А на каких! На энтих же, на наших, вон они пойдут, за рощей-то…
– За рощей?
– А то где ж! Да ты что, милай, дивуешься-то? Бывало, всюю осень и весну навоз возим да золу, под семенное-то непременно мужики золу клали…
– Золу, смотри ты!
– А как же! Навоз, он сорняк гонит, где ж тут!
– Интересно… Но я ж эту землю знаю, камень ведь один голый, теперь-то еле по три-четыре центнера…
– Теперь-то так, обтощала земля…
Впереди длинно желтела лужа. Карельников сбросил скорость и медленно въехал в нее, отвлекшись на минуту от разговора. Потом вспомнил и снова перебил старуху:
– Золу, говоришь?
– Ее, милай, ее. Всю зиму, бывало, собираешь…
– Химия, значит, была, минеральное удобрение?
– Как?
Карельников не ответил. Ему не верилось, что прудовские мужики собирали такие урожаи именно на тех, зарощинских, хорошо ему знакомых землях. Но старуха не могла ошибаться. Что ж, выходит, может, прав Козаченко: работать не умеем?
Нет, это все не так просто, не надо забывать, сколько и каких лет лежит между теми урожаями и нынешними. Да и не везде, наверное, и не всегда удавалось мужикам брать столько хлеба.
– А на других землях как? – спросил он старуху.
– Так по-всякому, какой год! Уж насиживались и без хлебушка, слава тебе, господи! Так-то насиживались, что в иную весну могилок свеженьких на погосте больше, чем народу по домам…
Вот-вот, вот то-то и оно, а шестьдесят-то пудов, может, раз-другой только и взяли, почему и в память запало. Не зря михайловские помещики зерновым хозяйством почти не занимались, предпочитали лучше кусок чернозема где-нибудь на юге купить – тут же, в своей губернии, поюжнее только. Весь парадокс-то в том, что в Сосново-Кузьминском, например, районе земля как земля – там и по двадцать два и по двадцать пять центнеров получают, а тут – пшик. А область одна, и планы одни, и цены одни, и требования одинаковые. Уж так ясно, ребенку ясно, что нельзя с одной меркой подходить, – нет, все не разберемся никак. И мы в своих требованиях правы, мы, Алексей Егорыч, и бояться нам нечего.
Опять вернулся Карельников к Купцову, вспомнил, как летели в самолете, какой больной и несчастный вид был у первого, – почему-то именно тот обидный час молчания не шел из памяти.
Карельников еще поговорил со старухой: о других ее детях, о погоде, о строительстве дома. Старуха никак не хотела помириться со своими полуразвалившимися Прудами: у других и электричество, и радио, и шоссе рядом или станция, а от Прудов все далеко, ничего в Прудах нет, хорошо, ребятишек стали в интернат на зиму забирать, а то и учиться негде: за десять километров не находишься.
– А скажи-ка мне, мать, что председатель-то ваш, он как? Вот хоть с домом, помогать-то обещал?
– Он-то? Иван Никитыч, что ль?
– Да какой Иван Никитыч, у вас Нижегородов теперь, вы ведь первомайские теперь, что ты, ей-богу!
– Ну да, – сказала старуха неуверенно, – первомайские. Иван Никитыч – это… ну да… – и опять подняла голос: – А ему чего! Мы ему чужие, он к нам и не кажется сроду, на кой мы ему!
– Да ну брось, брось, сам я с ним к вам заезжал, что уж зря говорить…
– У Пруды?
– Ну в Пруды, конечно, куда ж еще…
– Ну, может, и так, вам оно виднее. – Старуха сникла и подумала, должно быть, кто ж это такой везет ее. – У нас и с коноплями все мимо ездиют, и на таких машинках вроде проскакивают, и так…
Разговор увял, да и Карельникову все труднее было следить за дорогой, потому что въехали в березняк, – мокро, набито сразу три колеи, не угадаешь, какой лучше держаться. Надо бы уважить бабку и сделать крюк километра полтора к распроклятым ее Прудам, но там совсем дрянная дорога, возвращаться же назад – долго. На повороте Карельников притормозил. Да и старуха уже заволновалась, глядела в оконце и вот-вот хотела спросить, куда это везут ее. Карельников помог открыть дверцу, она выбралась, опять громко и от души благодарила его.
Они распрощались, и Карельников тронул машину. Дело не в крюке было, он понял, просто не хотелось лишний раз бередить себя видом Прудов; старых и еще крепких, как он помнил, но сиротливых и неухоженных домов, куцей улочки, полурастасканного развалюхи-амбара. «Пруды не годятся никуды». Точно сказано.
Дорога петляла среди редких молодых берез, трава между ними стояла свежая, мокро-зеленая, с первыми цветами – сюда, видно, пастухи еще не заводили коров, хотя рядом, слева, вот-вот откроется калда – летний лагерь. Несмотря на холод и дождь, природа брала свое, лес и поля оделись в зелень, и было то состояние в природе, та готовность к лету, что, кажется, пробрызни на полдня солнце, и все оживет, высохнет, заиграет, будет май как май. Карельников подумал, заезжать или не заезжать на калду? На утреннюю дойку, конечно, опоздал, в четыре должны подоить и выгнать стадо, сейчас небось и нет никого.
Однако, подъезжая, он еще издали увидел медленно, разбросанно бредущих от лагеря коров – каждая, опустив голову, жадно хватала первую попавшуюся траву. Возле свежей, желтеющей, как масло, изгороди видна была группа доярок; пастух в длинном плаще изгилялся там что-то, махая шапкой; женщины смеялись. На деревянном помосте бело, алюминиево сияли бидоны… «Ну паразиты, ну работнички, полседьмого уже, а они…» Карельников прибавил скорость и целиной, по траве и кочкам, погнал машину к лагерю. Мимо коров, мимо рыжего бака для комбикорма и бурды, мимо полевого вагончика с красным вылинявшим флажком – жилища доярок и скотников.
Его заметили издали, успели перегруппироваться, одна из женщин побежала в лощинку, пастух торопливо отделился, надел шапку, ударил кнутом, и ближайшая к нему корова дернулась и прыжками побежала вперед.
Вот совсем рядом увидел Карельников напряженные лица доярок, сбросил скорость, остановился. Машина проюзила с метр по жидкой грязи, доярки отпрянули.
– Секретарь, секретарь, – услышал он шепоток, и почудилось в этом шепотке облегчение. Видно, не самый для них страшный зверь секретарь.
– Ну здравствуйте, красавицы!
– Здравствуйте!.. День добрый!.. Вам также! – небойко ответили голоса.
Перед Карельниковым в грязи и на мостках стояли женщины в сапогах, ватниках, платках, только две из шести молодые, и молодых Карельников помнил – беленькую простоватую Настю, повыше ростом, и невысокую, строгую, с красивым смуглым лицом Марфу Кострову. Знал он и Лизу Савельеву, одну из лучших доярок. Лизе лет сорок, всю жизнь прожила она без мужа, и ее чистое, застенчивое лицо осталось девическим, всегда она смущалась и розовела, как девушка, и издалека можно угадать ее по быстрой и тоже как бы застенчивой походке. Стояла тут же маленького росточка, знакомая на лицо Карельникову старушка доярка, из тех бойких старушек, что не помнят своего возраста и вечно держатся с молодыми бабами и даже бывают заводилами среди них.
– Ну и что же это, как же это называется? – Карельников обвел взглядом всех, но обратился к Марфе, поскольку она была за старшую. – Эй! – тут же крикнул он пастуху и поманил его рукой. – Погоди-ка!.. Как его? – обратился он к женщинам.
– Горелов Пашка, – ответила хмуро Марфа.
Пастух еще ударил кнутом, гикнул на коров и нехотя повернулся назад.
– Ну так что же это делается? – опять спросил Карельников.
Доярки понимали, в чем их винят, тут ничего объяснять не нужно было, но по лицам их Карельников видел, что виноватыми за то, что стадо уходит из лагеря так поздно, они себя не считают. И действительно, старушка бойко ответила:
– Так ведь дождь даве лил, товарищ секретарь. Куда ж их?
– Отдои-ка скоро! – сказала с вызовом беленькая Настя, обращаясь не к Карельникову, а к подругам. – У меня вон девятнадцать их!
– В три-то часа и выйти не дал! – сказала еще одна доярка о дожде.
– Машину бы лучше вовремя подавали! Все одно ее до сих пор нет! Вон оно, молоко-то! – Это Марфа вступила и показала вниз, в лощинку, где в родниковой воде, в широком деревянном лотке, стояли утопленные на две трети бидоны.
Услышав про машину, Карельников выругался про себя, но виду не подал (пришлось бы признать виноватым кого-то другого) и поэтому, не отвечая Марфе, продолжал наступать.
– Навесы-то у вас зачем? – сказал он. – Что ж, под навесом, что ли, нельзя в дождь доить?
– Так и доили, что ж, когда поутихло-то…
– Их, чай, девятнадцать, – опять сказала Настя.
Пастух подошел и остановился в двух шагах. Карельников глянул мельком – парень напускно хмурился, зимняя шапка натиснута на лоб – и продолжал слушать женщин.
Говорить стали одна за другой и сразу, как водится, о всех бедах своих, хотя речь шла только о нынешнем утре, – но уж это, как обычно, стоит увидеть начальство, и посыплются все жалобы от Адама: и что из грязи не вылезают, и что плохо ездит лавка продуктовая, и что телята поносят, и что коровы селедки плохо едят (бочки с селедкой стояли тут же, в стороне, под брезентом, и от них шел соленый, гниловатый дух), – говорили все сразу, одна подхватывала начатое другой, и уже выходило, что не Карельников делал им выговор, а они ему.
Слушая и коротко отговариваясь, Карельников вступил на мостки, где на кольях сушились перевернутые бидоны, стал отгибать и нюхать резиновые круглые прокладки на крышках бидонов. Женщины примолкли и следили за ним.
– Что ж плохо моете, или кипятку нет? Кипятку тоже, что ли, сварить не можете? – Он опять обратился к Марфе.
– Да моем, как не моем! – сказала Марфа.
– А это вот что? Понюхай! Это вот чей? – Он повернул бидон и увидел криво написанные черной краской инициалы: «Ев. М.». Из-под прокладки тянуло кислым.
– Михайловой Дуськи это! – ответила за Марфу старушка. – Говорили ей, окаянной, тыщу раз говорили!
– Болеет она, – сказала Марфа.
– Ну вот, – Карельников как бы отвечал на все их жалобы, – сама себя раба бьет, что нечисто жнет. Не так, что ли? Что не от вас зависит, это мы с другими разберемся, но свое-то что ж спустя рукава делаете? Вот ты, – он обратился к пастуху, который стоял с таким видом, точно скучал, – для самодеятельности другое бы время нашел. (По всем лицам прошла улыбка.) Когда теперь назад погонишь? Не накормишь ведь, ненакормленными вернешь?
Пастух плечами пожал, усмехнулся – мол, такого не бывало еще – и не ответил.
– Не мне вас учить, сами все знаете, – сказал Карельников мягче при общем молчании, – неужели пособранней нельзя быть? Ведь говорили много, толковали, вон лето-то какое…
Он понимал, что говорит, может быть, ненужные, известные слова, и ему вовсе не хотелось ругать женщин или держаться с ними официально, но он знал, что они поймут, чего он хочет от них. На каждом шагу видишь, что люди не умеют, не любят или ленятся работать. Уж кажется, сами лучше кого другого понимают, – так нет, обязательно что-то будет не так. Конечно, деревня не завод, всего не учтешь, не распределишь от смены до смены, не спланируешь – вон дождь ливанул в четыре, и весь распорядок к черту. Но все равно. Крышку вот эту несчастную неужели вымыть нельзя?..








