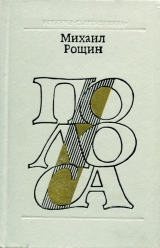
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
Тем не менее деловая и строгая обстановка заседания, лаконизм, сдержанность, п р и в ы ч н о с т ь этой обстановки – поскольку у себя на Карасу Тихомиров тоже сидел каждый день за своим Т-образным столом вместе со своими инженерами, начальниками участков и управлений, прорабами, проектировщиками, бригадирами, и тоже требовал всегда краткости, готовности, четкости, и так же с а м не мог обычно расстаться с лишней копейкой, – эта похожесть делала зампреда и министров в достаточной степени понятными и доступными людьми. То неизбежное благоговение, которое Тихомиров испытывал еще полчаса назад в зале ожидания, как ни странно, не усилилось, а прошло, и Тихомиров, например, думал мельком, как зампред завязывал утром галстук, – кстати, тем же узлом, что и Тихомиров, – надевал носки, устало прикрывал глаза, пока его брили или, наоборот, читал в это время утренние бумаги. Тихомиров понимал, что ему сейчас предстоит встреча с лицом официальным, а не просто с человеком имярек, в таком-то галстуке и таком-то костюме, с человеком, так сказать, бытовым, но все-таки это полусознательное ощущение человеческого р а в е н с т в а, сочувствия усталости зампреда и понимание сложности его труда почти успокоили Тихомирова, помогли ощутить не исключительность, а нормальность, естественность отношений между ним, Тихомировым, и одним из руководителей государства. В конце концов, не себе же он пришел просить денег и не из своего же кармана их отдаст или не отдаст Совмин Тихомирову. И почему надо бояться, что человек, много старше и опытнее Тихомирова, занимающийся всю жизнь тем же делом, что и он, не поймет того, что так ясно Тихомирову и любому рабочему на Карасустрое?..
Объявили е г о вопрос. Не поворачиваясь, боковым зрением, Тихомиров увидел, как в дверь вошел и сел там, теперь далеко, на том краю зала, Деревянко с папкой в руках. Ничего не изменилось, только Сергей Александрович, который находился тут же, поднял на секунду голову, поглядел и словно не увидел Тихомирова или, может, на самом деле не увидел. Председательствующий, глядя в поданную ему бумагу, изложил ходатайство министерства о Карасу. Моложавый серьезный референт стал читать: Карасустрой… министерство… Госплан считает… Комитет Совмина по труду и зарплате считает… главное управление, обсудив, считает… и так далее.
Ничто не изменилось, но Тихомирову казалось, что зал заседаний исчез, все исчезли, остался только он, Тихомиров, и зампред. Смысл проекта решения был именно тот, который предсказал Деревянко. Тихомиров слушал, а перед глазами словно бы мелькало кино: прошлая весна, еще снег на склонах, яркое солнце, а на стальных канатах над безумной Карасу висит трактор – таким путем они перебрасывали тогда трактора на левый берег. И скалолаз Валя Седых стоит рядом, вцепившись зубами в зажатую в кулак кепку, бледный, с уголком тельняшки на груди из-под ватника, – золотой парень, Валя Седых, которому не отплатить всеми деньгами на свете за те дела, которые он делал со своими хлопцами в ту весну.
Моложавый референт еще продолжал стоять с бумагой в руках, когда Тихомиров поднялся и сделал два шага к стволу председательствующего – даже как будто чуть испугал его своим неожиданным появлением. Некоторые головы от длинного стола тоже обернулись к Тихомирову.
– Товарищ заместитель Председателя Совета Министров, – сказал Тихомиров, глядя прямо в обратившееся к нему лицо, – разрешите несколько слов по данному вопросу?..
Не сводя глаз с зампреда, Тихомиров увидел, как рядом с зампредом оказался, наклонился к нему Сергей Александрович, и услышал его полушепот:
– Начальник строительства, Тихомиров Алексей Ильич…
– Я быстро, всего несколько слов, – продолжал Тихомиров, – но это необходимо, это вопрос жизни для нас, я быстро…
– Мы не торопимся. Пожалуйста, Алексей Ильич, – ровно сказал зампред, приняв прежнее положение, держа руки на столе. – Послушаем, товарищи?
Большой стол закивал головами, хоть и без особого одобрения. Уже было пусто, уже складывались в папку бумаги.
– Пожалуйста, товарищ Тихомиров.
Тихомирову показалось, что зампред с интересом оглядел его, всмотрелся, как еще несколько минут назад Тихомиров всматривался в него, но на этом вся фиксация Тихомировым окружающего словно прервалась, и осталось одно: Карасу.
Как рассказал потом Деревянко, говорил он гладко и точно, производя хорошее впечатление своей речью, интеллигентным видом, молодостью, эффективностью аргументов. «Будто каждый день на Совмине выступаешь!» – сказал Деревянко. Тихомиров и сам чувствовал, что его слышат и понимают (как и всегда, впрочем, когда он выступал на митингах, на собраниях), что глядят на него с интересом и уважают его за то, что он вдруг оказался здесь.
– Вы не волнуйтесь, Алексей Ильич, – сказал в паузе заместитель Председателя, – не волнуйтесь.
– Я не могу не волноваться, – тут же ответил Тихомиров, уже называя зампреда по имени-отчеству, – приходится.
Уж таких слов, конечно, не было в той речи, которую Тихомиров готовил в приемной, хотя говорил он, как ни странно, примерно все так, как и собирался.
– Всем приходится, – слабая улыбка прошла по лицу заместителя Председателя, и за большим столом почувствовалось движение.
Тогда Тихомиров позволил себе еще шагнуть назад, взял со стула папку и вынул фотографии. Это был неплохой материал, Тихомиров сам выбирал фотографу Паше Козелькову экспозиции, и на больших фотографиях запечатлелись самые опасные куски ущелья, теснота створа, крутизна скал, затерянность поселка в горах, фантастические петли дорог. Он вытащил фотографии из черного конверта чуть неловко, фотографии заскользили по чистому столу, три упали, Тихомиров бросился подбирать, и моложавый референт тоже, и сам зампред, сдвинув кресло, наклонился и поднял фотографию из-под ног.
– Ничего, ничего, – ответил он на извинения Тихомирова и проглядел фотографии разом и отодвинул от себя. – Так что, товарищи, какие есть мнения?
Тихомиров собирал фотографии, потом отступил, закладывал фотографии в черный конверт, а за большим столом поднялся между тем министр финансов, объясняя, почему отказано Карасустрою.
– Ну, понятно, понятно, – перебил зампред, – хочу только спросить: вы бы сами, интересно, стали там работать при таком коэффициенте?..
«Вот именно», – захотелось крикнуть Тихомирову, но он, естественно, смолчал. Он услышал эти слова и тут же понял: он выигрывает, вместо «нет» может быть «да», вот сейчас, еще через несколько минут.
Министр финансов заговорил уклончивым, почти оправдывающимся, но еще твердым тоном, но затем послышалось: «Стоит подумать… Надо поискать…»
Выступил другой министр, в поддержку Тихомирова. Зампред спросил, кто есть от министерства, – у дверей поднялся Деревянко, – но ему зампред не дал сказать ничего, кроме слова «поддерживаем».
И вот и все. Председатель Госплана и министр финансов, не глядя на Тихомирова, обещали в ближайшее время пересмотреть свое первое решение, и зампред с полуулыбкой сказал:
– Да, я думаю, что мы должны помочь этой стройке… Я думаю, мы вам поможем, Алексей Ильич. Езжайте, работайте, желаем вам успеха…
И Тихомиров готов был поклясться, что зампреду хочется с ним поговорить, что-то узнать еще, расспросить, – это, по крайней мере, Тихомиров увидел в его взгляде.
Тихомиров уже шел к двери, когда зампред сказал министру финансов:
– Этот случай тоже, кстати, к тому нашему разговору, помните? Хорошо что начальник строительства пришел.
К сожалению, Тихомиров уже не услышал, что ответил министр финансов и ответил ли что-нибудь: Деревянко, поднявшись первым, держал перед Тихомировым открытой дверь, пропуская его вперед и изображая на лице что-то вроде: ну, брат, ты силен! ну ты дал!..
Они вышли вместе. Деревянко тут же взял Тихомирова под руку и заговорил, заговорил без остановки; приемная и зал ожидания, который был виден в открытую дверь и который показался Тихомирову очень знакомым – даже захотелось еще зайти туда и посидеть, – опустели, оголились. Тихомиров слушал и не слушал фамильярные похвалы Деревянко, который, как он знал, понесет теперь эту историю по министерству; он шел коридорами, снова, уже машинально предъявляя пропуск, и все не мог поверить, что столь быстро и сравнительно легко (если не считать, что он был мокрым от пота) решился этот п о с л е д н и й вопрос.
Они вышли через Спасские ворота на Красную площадь. Деревянко ждала машина, он предложил подвезти Тихомирова, но тот отказался, ответил, что зайдет в гостиницу.
– Устал, брат? – бодро говорил Деревянко. – То-то! Всем вам не мешает побывать в нашей шкуре! Но ты молоток! Тридцать процентов, можешь считать, у тебя в кармане!
– Как тридцать? Сорок!
– Хе-хе! – Деревянко уже стоял у черной машины, и шофер открывал перед ним изнутри дверцу. – Так тебе и дали сорок! Один и три десятых дадут, а больше не жди!.. И то, брат ты мой, хлеб!..
– Но ведь он сам сказал…
– Правильно, сказал.
Деревянко засмеялся и сел в машину. И Тихомиров тоже засмеялся. Стоял на булыжнике, на спуске к Василию Блаженному, и смеялся. Деревянко даже оглянулся из отъезжающей машины и посмотрел с удивлением. «А ведь точно, – думал Тихомиров весело, – не дадут, зажмут. И Деревянко бы зажал. И я бы, наверное, тоже зажал… Зажал бы? Пожалуй, зажал…»
Продолжая смеяться, он пошел вниз, к «России». Солнце светило во все лопатки, было тепло, у подножья храма сидели рабочие в желтых касках, курили, стояли два компрессора и самосвал. По Москворецкому мосту бежали в две стороны машины, блестя и сверкая, зеленело под солнцем Замоскворечье, по Москве-реке, выходя из-под моста, двигалась самоходка, – нет, ничего, ничего, Москва была своя, понятная, привычная, и Тихомиров шел по ней, как по своему городу, улыбался.
1970 г.
ГРЕЧЕСКАЯ ТЕТРАДКА
СУНИОН
От Афин до Суниона, до мыса, где стоит (стоял) древний храм Посейдона, около семидесяти километров, дорога бежит вдоль берега, и для человека, который первый день в Греции, ее познание и открытие начинаются отсюда (если не считать первых впечатлений от вида с самолета, который заходил с моря на бетонного цвета пригороды, от аэропорта, где темно-синие полицейские сидят на темно-синем броневичке и где самолетов и служб, кажется, не больше, чем в Адлере, и так же синеет справа море, а слева растворяются в зное невысокие горы). Город долго не отпускает нас от себя, и мы мчим мимо отелей, таверн, магазинов, вилл, в потоке машин, но все же все чаще и чаще открывается в просветах голубизна, пляжи, тенты, а дома отступают на левую сторону и более и более прореживаются зеленью.
Пятница, конец дня, машины, машины, как и повсюду в мире, – афиняне бегут на уик-энд из города. Здесь любят надежные немецкие автомобили, предпочитают, но много, конечно, каких угодно других: «хонды», «фиаты», «рено», то и дело мелькают наши «Жигули», которые считаются недорогими среди этого класса машин. Греция – на автомобиле, вся Греция на автомобиле. Проспект до Пирея – сплошные автосалоны, продажа машин, другой проспект – мастерские, склады и ремонт старья. Разумеется, всех занимают проблемы дорог, смога, цен на бензин, штрафов, аварий, ремонта, как купить, как продать. Неужели человека, когда он ходил пешком, столько же занимали сапоги, а когда сел на лошадь, то лошадь? Наверное. Седло, сбруя, конюшня, овес, очередь в кузню. Хлопот хватало, надо думать.
В Афинах так много проблем с машинами, что придумали и издали распоряжение: пусть один день ездят машины с четными номерами, другой – с нечетными. Ну и конечно, люди тут же постарались иметь по два автомобиля, того не лучше!.. Позже в одном интервью, когда меня упорно будут спрашивать про Чернобыль, я вдруг кажу, что такова плата за прогресс и каждый автомобиль – это тоже скрытый Чернобыль. Думаю, в подсознании эта фраза начала зреть от этого первого впечатления загородного шоссе в пятницу. Ведь наши понятия о Греции связаны с вечностью, со священным, и, вероятно, шустрый наш друг и враг автомобиль, да еще в таком количестве, как-то плохо вяжется с этими представлениями и мешает настроиться на торжественный лад.
Но мало автомобилей – еще мотоциклы. Их множество, и особенно молодежь предпочитает двигаться в гуще городского транспортного потока на двух колесах. Вперед, в обгон, в маневр, трррр! Со всех сторон – мотоциклы, машины, опущенные стекла, горячий ветер, синяя гарь, черные очки, развеваемые ветром волосы, детские мордашки в заднем стекле, подголовники, гордые обладатели «мерседесов» и девицы в шортах верхом на седле. Таверны, таверны, реклама таверн, дансингов, сигарет и греческой водки «узо», пляжи и опять машины, машины, повсюду – на камнях, на песке, с раскрытыми настежь дверцами, с семейством, уже сидящим на ковриках в тени своей колымаги, среди олеандров, за эвкалиптами, под эвкалиптами, под соснами, под тополями. Ни лошадки, ни ослика. XX век – век автомобиля. А ведь изобрели его всего-навсего сто лет назад, как раз сто лет назад, в 1886 году.
Казалось бы, нелепо задавать вопрос: лучше стало человечеству с автомобилем или хуже? Автомобиль взял на себя такие услуги, что вопрос излишен. И все же накаливается в последнее время у одних смутное, у других уже вполне определенное и научно обоснованное раздражение против двигателя прогресса. Речь даже не об отраве воздуха и прочих технических проблемах, – наверное в конце концов будет электрический, или водородный, или какой-либо новый «мобиль», экономичный и сверхбезопасный, но я, сам любящий машину и благодарный ей, как верному помощнику, часто ощущаю, как все же много моего в н и м а н и я отвлекается машиной, как привычка почти слила меня с ней, как велика моя зависимость от нее. И что-то есть в этом подозрительное. Без машины я уже словно голый. Или без очков. Или без палки, если я хожу с палкой.
А сколь много занят машиной современный город. Автомобиль завладел улицами, он диктует свои правила пешеходу, старику и ребенку, тысячи здоровых мужчин почти исступленно день и ночь заняты автоинспекцией, города перестраиваются с тем, чтобы дать больше места автомобилю. Словом, наш сапог сел нам на голову, это очевидно. И что-то вытеснил, чью-то нишу явно занял. Отнял нечто нам естественно присущее, заменив искусственным… Я не против автомобиля, глупо было бы говорить, но я размышляю. Размышляю на фоне древнего моря, вечной природы, на земле великой культуры, и в сопоставлении с ними и с человеком, который идет (такой нам попался монах по дороге) вдоль берега с посохом, толстый, с терракотовым от загара лицом, в развевающейся длинной одежде и простых сандалиях, – мое размышление низводит автомобиль до игрушечного, крошечного, временного явления, и я уже вижу, как он исчезнет с лица земли когда-нибудь, уступив место чему-то другому. Может быть, столь же суетному и еще более для человека завлекательному, что еще больше будет сберегать нам силы и время, но отнимать нервы и воздух, а может быть, и более простому, естественному, вроде какого-нибудь воздушного шарика, за который зацепился и лети, куда и сколько надо, а потом отпусти. Впрочем, это так, между прочим, и, конечно, я бы не хотел трястись до Суниона на осле, а тем более идти пешком с посохом, уж это точно, А не хотел бы, так вот и плати – вытеснением, зависимостью, подчинением машине и раздражением за зависимость. И это еще цветочки.
А вот древний храм, его останки в виде нескольких колонн и покоящихся на них перекрытий, сразу трогает за душу. Ну-ка, ну-ка, почему?.. Мы видим его издалека, – всего несколько – восемь или девять колонн, их обрубки и обкуски яснее различаются по мере приближения к невысокой горе и собою обозначают возможные прежние размеры целого храма, его портал. Покинув машину, надо идти вверх, по камнем выложенной дорожке, и рядом идут в основном мальчики – юноши и девушки: шорты, майки, панамы, кроссовки, яркие рюкзаки, фотоаппараты. Речь немецкая, французская, английская. Три маленькие японки фотографируются, обнявшись. Французские скауты в красной униформе улеглись под колоннами, словно положенные к храму гвоздики: молодые лица, загорелые тела, улыбки. Все ждут заката, того самого часа, когда старый Эгей ожидал здесь когда-то сына. И увидел отсюда черный парус, а на самом деле должен был быть белый, Тезей возвращался к отцу живым и здоровым, просто забыл сменить парус, и отец в отчаянии, поверив в смерть любимого сына, бросился вниз, под откос, где бьется, если заглянуть, прибой о камни. Вот сюжет: любовь отца к сыну. Родовая, древняя, эгейская, мифологическая и библейская, и сегодняшняя. Самая нежная, искренняя, н о р м а л ь н а я, но сколь, однако, в ней нынче примесей и отчуждения. О, Эгейское море! Не зря ты названо именем любящего отца.
Древние умели найти место для храма, в этом им не откажешь. Наши русские мастера тоже взяли где-то, уразумели искусство поставить храм, и сами искали и звали лозоходов, чтобы так стояло, так гляделось, чтобы никакие тяжелые подземные потоки и силы не нарушили покоя, и грозы небесные не разбили бы тоже, – не попада́ли, словом, плюс на минус. И церкви наши и теперь, хоть и брошенные, всегда хорошо глядятся среди равнины, и колокольня колокольне шлет издалека привет.
Храму Посейдона греки нашли удивительную точку в пространстве. В этом, наверное, прежде всего дело. Стоит там присесть на камень, и о самом храме довольно скоро забываешь, хотя за спиной его колонны, а под ногами, словно круглые корни выпавших зубов, заросшие колючкой основания других, уже навсегда исчезнувших колонн, их другого ряда. Все внимание начинает отвлекать пространство. Солнце садится справа и уже зависло желтком в томате над овалами других гор и темным над ними маревом, а впереди и слева лежит море, слитое с небесами, и они уже таят в себе ночь. Раз! – и включился молодой тонкий месяц, – вверху слева, – и вдруг все связалось треугольником: солнце, месяц и мы на горе.
Море странное. Шла не так далеко яхта, и видно было, как ее гнал сильный ветер, но этот же ветер гуляет по воде вспять и вкось, как хочет. Рябит ее так и эдак, проносится туда, сюда, вода покрывается гусиной кожей. Кажется, не один, а сто ветров сразу резво валяют дурака на огромной площадке для игр. Конечно, приходит в голову «Солярис», – не бывал ли здесь Станислав Лем, не сидел ли вот так на закате, наблюдая с высокой высоты, как морщится, ежится, реагирует на всякую малость, каждую секунду живет организм фантастического мозга, субстанции, более всего напоминающей сожительство воды и ветра?.. Вдали, в наступающем сумраке – контур острова, и это там, в том направлении, вся россыпь больших и малых греческих островов. Но того дальнею пространства вроде нет, оно неинтересно, а есть вот это, «местное», обозримое пространство; оно достаточно величаво, но и как бы одомашнено, даже окультурено – и трехтысячелетним присутствием здесь храма, и легендой, которую все мы знаем и уже не можем выкинуть из головы, она на нас так или иначе воздействует. Природа эта не безымянна и уже не живет сама по себе. Как ни глубоко здесь море, но бежит по нему парусник и спешит, развевает водяной шлейф российский, сормовский корабль на подводных крыльях – весьма прижившийся у греков.
Солнце все ниже, и вот уже разноплеменная молодежь единым криком и посвистом приветствует произошедшее: солнце село. Как хорошо глядеть на этих ребят, которые сидели и стояли здесь час-полтора все вместе. (Жаль, не видно русских, хотя, говорят, теперь есть и наши молодежные группы.) И невозможно не думать, что когда-то Афины воевали со Спартой, и Фессалия с Македонией, и молодые афиняне потрясали мечами и шли в бой на спартанцев, – сегодня это смешно. И нельзя не вспомнить, что когда-то и Рязань воевала с Москвой, а Тверь с Владимиром, и противозлоба, скажем, Москвы и Новгорода ох как была велика. Неужели тысячелетия и столетия нужны людям, чтобы их прапраправнуки сидели одной веселой кучей на древней горе, смеялись, фотографировались, слушали, что им рассказывают гиды: какою бывает любовь отца к сыну, какою у л ю д е й должна быть отеческая и всякая иная любовь. И чтобы они потом бежали весело в своих одинаковых, что у французов, что у японок, шортах и кроссовках к автобусам или шли пешком, и сидели шумно в таверне на берегу, а вся таверна – это навес, деревянные столы и лавки, и там такие же, как сами туристы, мальчишки носят тарелки с греческим салатом: помидоры, огурцы и лук-репка, только масло оливковое. И дают еще жареного молодого осьминога, жареную рыбу, она прямо из моря, и воду со льдом.
Небо стало глубоко-черным, звездным, молодой месяц, проводив солнце, сразу разгорелся, рассиялся. Тепло, лает где-то собака, трещат цикады, старик сторож спит возле лодок, под навесом из фанеры, море плещет у его пяток.
В таком месте хочется быть с самым близким человеком, чтобы разделить с ним всю глубину впечатления и чтобы он, как ты, увидел этот простор, проникся им и понял, как ты, и посидел рядом молча.
Я разделся, поплыл, море очень теплое и сильно, непривычно для нас соленое, – легко держит тело вода, когда перевернешься и лежишь на спине, смотришь на звезды. Храм вон там, рядом, я знаю где, но его почему-то не подсвечивают ночью, он исчез, но я все равно знаю: он там. Они собирали колонны из мраморных толстых колец, как дети собирают пирамиду. Колонна не была монолитной. Круг на круг, круг на круг. А внутри – стержень. Держит всю колонну. Стержни делали из графита. Как в реакторе. Турки разрушали храмы и валили колонны ради того, чтобы достать графит. Кому что.
Я лежу на спине, на воде, думаю об этом храме, об этом месте, о Эгейском море. О любви отца к сыну. Не зря было придумано, что должны быть отец, сын и с ними, между ними, – свят дух.
Об этом не раз говорилось, но, право, каждый раз удивишься: как это ты, маленький и смертный человек, легко вбираешь в себя в с е пространство, впускаешь всю вселенную (и безусловно ощущаешь ее со всею ее бесконечностью), проникаешь легко в прошлое и способен даже прозреть будущее: ведь ясно же, например, что в будущем никакие Афины не пойдут с мечами ни на какую Спарту, потому что и то и другое теперь одно, а не разное. Или хоть и разное, но все равно одно. Впрочем, ясно-то ясно, но…
ПЕЛОПОННЕС
Жара 38, воздух такой, словно сидишь у костра, солнце в зените, и кажется, все живое скрылось, – только цикады гремят да люди все мчат по дорогам. По всему прибрежью и на отлогих склонах гор – оливковые рощи. Оливки, оливки – куда ни кинешь взгляд. Желтая сухая трава, мясистые кактусы-агавы, словно бледные морские чудища, и оливки. Впрочем, не только. Места тут благодатны, урожаи снимают два раза в год. Кукуруза, виноград, табак, сливы, персики, инжир (его зовут здесь «сика»), рощи лимонов – еще зеленые крепкие лимончики глядят из плотной листвы, – арбузы, помидоры. Арбузами торгуют прямо на дороге, как у нас картошкой: стоит пикапчик, набитый полосатыми глобусами, рядом, вытянув ноги, спит на стуле хозяин, шляпа на лице. Или бежит впереди фургон, полный ящиков с помидорами. Пылит по дороге желтый трактор, несмотря на воскресный день, а вон и крестьянин на ослике, гонит перед собой серую кучку овец.
Край богатый, и немудрено, что повсюду видишь: или уже стоит готовый новенький, справный, двухэтажный, красивый дом, или строится. Террасы, плоские крыши, гаражи, пристройки. Каркас делают из бетона, потом облицовывают, или так оставляют. Дома хорошие, один одного не хуже. Как и положено на юге. У нас на Украине, на Кавказе или в Азии тоже так. Только тип дома, разумеется, здесь свой. Свой, но непременно стандартный, как у соседей. Можно побогаче, можно другого цвета, но тип тот же: «шоб як у Миколы». У домов растут мальвы, георгины, вдруг мелькнет желтым родимый подсолнух. (Может, оттого, что я недавно был в Крыму и на Украине, мне все кажется сходным.) Деревянные жалюзи домов закрыты, людей нет, жара.
Между прочим, бетонные каркасы неспроста: здесь часты землетрясения. Кроме того, дешевле. И к сожалению, эта дешевизна сказалась на облике городов, и в частности Афин: город не белый, а серый. И жилые районы-новостройки особенно серы, однотипны, утилитарны. Но и таких, конечно, не хватает. Тесно в городе, дорого, дымно, плохо, гадко, в деревне лучше, но… в стране девять миллионов населения, а три с половиной, если не больше, живут в Афинах.
Пелопоннесская жара. Белое солнце в белом небе. Огненный воздух. Сухие колючки на сухой земле. И вдруг – городишко в одну прибрежную улицу, пеструю от ярких витрин лавок и таверн, опять скопище так и сяк ткнувшихся куда попало, словно тараканы, разноцветных автомобильчиков и туча голого, пляжного, вольного народа: шлепают в купальниках и плавках, глядят из-под белых козырьков с резинкой вокруг головы, несут запотевшие бутылки и жестянки с пивом, смеются, волокут за собой детей. Море! И можно раздеться прямо на террасе ресторана, нависшей над водой, и тут же спуститься лесенкой на белый пляж, кинуться в воду. Вот благодать! Море чистое-пречистое, жгучее, круто-соленое, и зной тут же словно взлетает вверх. Позади остается полоса белого пляжа, там полно людей, детей, но все же без тесноты, не впритык друг к другу, и молодые женщины и девушки загорают и купаются «топлес», без верхней части купальника, стоят и демонстративно намазывают кремом от загара свои новогреческие грудки. Поплыли с Олегом, заплескали, как дети тоже. Потом я болтался в тени лодки, боясь сгореть, ухватясь за канат ее якоря, а мой друг покарабкался на лодку, сел там, наоборот, прожариться на греческом солнышке. И повели мы беседу о чем? О греках, одиссеях, грудках? Нет, о сельском хозяйстве – о, наша «вечная тема»! «Чужих краев неопытный любитель и своего всегдашний обличитель», как говорил Пушкин, всегда, оказавшись за рубежом, едва увидев, как и что делается на свете, тут же сравнивает со своим и начинает невероятно волноваться. Да и как не волноваться. Есть что посравнивать, и что касается торговли, магазинов, организации дела, техники, умения считать, беречь, удовлетворять спрос, то тут, к сожалению, сравнение почти всегда не в нашу пользу. И так это, честно сказать, надоело. Глядишь на себя, пожилого уже человека, на патриотическое свое волнение, вспоминаешь, как ты еще мальчишкой в газете бился за внедрение торфо-перегнойных горшочков, которые, по тем понятиям, и должны были вывести наше сельское хозяйство на мировой уровень, и делается смешно: нет, видно, так и помрешь, а порядка н е увидишь. Да, смешно, только плакать хочется.
Но ладно. У нас не хватает, а эти девятимиллионные греки – у них своя проблема – не знают, куда девать свои персики и виноград, арбузы и помидоры. Таков наш мир. И какую-такую эру проходит человечество в своем развитии, что при великом прогрессе так много дикого, невероятного, несправедливого? Кто мы такие? Или так было всегда, и просто с количеством населения растет уровень общечеловеческой глупости? Миллиард или два делали меньше гадостей, чем четыре? Или просто меньше совершали поступков и меньше было последствий? В массе? Мы ведь знаем теперь, что самый невинный поступок – прихлопнуть комара – и то может иметь непредсказуемые последствия. А уж что говорить, когда колесницу гонит энергия коварства, корысти, жажды превосходства над ближним, властолюбие, жажда мести или просто жажда и голод?
Человек существо самонадеянное и отчаянное, он верит, что с ним-то ничего не случится, а если и случится – ну что ж, будь что будет. Чем человеку лучше, тем он беспечнее. Чем хуже, тем он отчаяннее. Желание гонит его вперед, ослепленный и обугленный, он все равно летит на огонь. Изменчивая реальность обходит его установления, законы и логику, он уверенно ставит на реке плотину и верит в ее незыблемость, а буря разваливает ее в один миг. Но человек плохо обучаем, и его самонадеянность сильнее опыта. Бог жестоко наказывает его, но человек все равно тянет руку, и причем уже не к древу познания, за которое поплатился, но к древу жизни. Живем на минном поле, но все равно прыгаем по нему, резвимся, беспечно машем: авось ничего! Все равно хотим настоять на своем. Хотя «свое» уже вошло в полный «клинч» с реальностью.
…Сидим «по-гречески» голышом за обеденным столом, в плавках, ноги студит мраморный пол, пьем белую, смолянистого духа «рецину», ведем интеллигентную беседу о неразумном человечестве. А на столе – «мусака», горячее блюдо вроде пирога, со сложным слоем мяса, сыра, теста (в каждой таверне своя мусака), далма в виноградных листьях, помидоры, фаршированные рисом, еще тушеное мясо, салаты – один особенно хорош: сметана, в нее натерт свежий огурец и чеснок. Как тут не будешь беспечен! Ласкается внизу море, взбегают вверх по ступенькам золотокожие, крепконогие наяды, обдают тебя запахом свежести и оставляют на мраморе мокрые изящные следы, а ты потягиваешь холодное винцо, чревоугодничаешь, слушаешь, как умный и образованный, очень интеллигентный и очень известный драматург Якобос Камбанеллис ведет рассказ о древнем Пелопоннесе, о религиозных мистериях, положивших начало театру. Ну войдет ли в голову мрачная мысль, ну не прогонишь ли ее тут же? Все равно что взять и задуматься вдруг за этим столом о собственной смерти. Разве какая-нибудь великая цивилизация предполагала в пору своего расцвета, что рано или поздно от нее останутся битые черепки и выветрившиеся стены некогда неприступных крепостей?..
Вот дальше на нашем пути Микены, сердце древнего Пелопоннеса, легендарные Микены. Отсюда братья Менелай и Агамемнон повели ахейцев на Трою, чтобы вернуть Менелаю похищенную Парисом Елену. Это они сидели ночью, согнувшись, в деревянном коне, стараясь не брякнуть копьем о щит. Кто в мире смел оскорбить Микены? Вон как высоко стоит город среди долины, а долина ниспадает к морю. Стены его были неприступны, львиные ворота священны, богатства и слава велики, цари непобедимы. Они разгромили Трою, и обманутый Менелай получил назад свою красавицу жену.
Мы глядим на Микены издали, с одного из соседних холмов, пьем из бумажных стаканчиков апельсиновый сок, и останки древних округлых стен являют одновременно торжественное и печальное зрелище. Кое-где возникают на стенах фигурки туристов, и стены сразу кажутся не столь уж велики. Так жарко, что нет сил и нет особой охоты подниматься туда, к львиным воротам, которые все мы помним с детства, по учебнику древней истории, – бродить по накаленным развалинам. Сокровища Микен, слава Микен, золото Микен – где все это, кому, зачем? И где – вот что занимает нас теперь особенно – тот пункт, с которого началось падение Микен?.. Пока вдали от дома воинственные братья умножали славу Микен, громя чужую Трою, жена Агамемнона Клитемнестра, как известно, сошлась с Эгисфом и, когда муж вернулся, коварно убила великого героя. Вот и ходи на войну!








