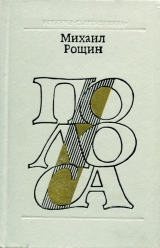
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
Митрофаныч и Ваня, напротив, никакого волнения не чувствуют, им здесь все знакомо. Митрофаныч даже напевает между делом: «Из-за лесу, лесу темного привезли его огромного…» Кабинет министра по сравнению хотя бы с кабинетами его замов или даже с приемной, которую миновали монтеры, кажется небольшим: наверное, когда проходят заседания коллегии, здесь бывает тесновато. Но, говорят, министр не любит больших помещений, у него ив квартире так – может быть, оттого, что сам он маленького роста. Но все-таки в кабинете четыре больших окна – сейчас шторы на двух задернуты и в кабинете сразу и солнце и полутень, видно, как пляшут пылинки, передвигаясь из тьмы на свет, – и вообще места, конечно, немало. Стоит длинный полированный стол для заседаний, темный, старинный, но не на середине, а ближе к стене, к дверям, а вокруг двадцать два темных жестких полукресла.
Стол министра не примыкает к этому столу, а находится в стороне, ближе к окну, особнячком. Он тоже темного, не казенного вида и невелик и перед ним не огромные мягкие кресла, как бывает в иных кабинетах, а такие же твердые стулья с полукруглой низкой спинкой, как и у стола. И точно на таком же стуле сидит сам хозяин кабинета.
Стол министра чист, на нем лишь лампа, тоже простая, черная, изогнутая, эбонитовая (принятый всюду стереотип), да деревянный стакан с остро отточенными карандашами, да темный посредине бювар, вот и все.
Рядом на специальной подставке, у окна, под плексигласовым колпаком зеленеет модель тяжелого танка с длинной пушкой.
Хотя в кабинет, видимо, не приходила еще уборщица, ничто не говорит о том, что несколько часов назад здесь кто-то находился, работал: ни пепельниц с окурками, ни стаканов с недопитым чаем, ни брошенных в корзину бумаг – чисто, холодно, строго. Таков и сам министр – маленького роста человек всегда в одном и том же черном пальто и шляпе, с большеносым армянским лицом, строгим, но болезненным, болезненно-одиноким. Несколько шагов от машины к подъезду он проходит обычно замкнуто и строго, но чуть нервно и чуть подавленно, как будто на него плохо действует вид слишком большого подъезда, слишком больших и к тому же сразу двух корабельных громад министерских зданий: его министерства да еще соседнего. Окружающая его тайна, его государственный пост, его деятельность должны внушать трепет и, вероятно, кому-то внушают, хотя бы ближайшим помощникам министра, но простой люд и особенно женщины, которых питают собственные наблюдения, трепета не испытывают, и, например, телефонистки конторы связи относятся к министру, к его фигуре (плюс разговоры о его плохом здоровье) с жалостливым состраданием: им так и чудится, что министр сидит у себя по ночам без чая и папирос, глядит в одну точку перед собою и думает мучительные думы.
Правда, Митрофаныч, напротив, утверждал другое. В кабинете рядом с огромной картой Союза, задернутой занавеской, в стене, отделанной деревянной панелью, находилась еще незаметная маленькая дверь. Это была самая тайная дверь, и никто, как в замке Синей Бороды, не знал, что это за дверь и что за нею. Но Митрофаныч якобы знал и утверждал, что там у министра стоит раскладушка, чтобы вздремнуть в свободный часок, а также американский холодильник с водочкой и закуской на всякий случай. Но будь это хоть и правда, все равно тем более жалостливо выглядело: бедный министр, лежащий в каморке на раскладушке.
Когда вошли Витя с Зябликом, а за ними Сухоруков, Митрофаныч уже возился у еще одного небольшого – специально телефонного – столика, который находился совсем у окна, от министра по правую руку. Здесь стоял коммутатор и всего два телефона: белый и черный, оба без дисков – разве может занятой человек сам без конца крутить пальцем, набирая номера? Белый телефон – вертушка.
Коммутатор был плоский, компактный, черный – отличный симменсовский аппарат, лучше не бывает. Его устанавливал когда-то Пошенкин вместе с затюканным инженером Изей из АТС, и с тех пор чуть что – Леонид Степаныч сразу свой главный козырь: «А кто министру коммутатор наладил?»
Митрофаныч опускается на колени, открывает в деревянной стене деревянную же дверку, осматривает вмонтированные в стену розетки. Потом, подняв край тяжелого ковра, оглядывает пол: там, под паркетом, уложены провода. «Из-за лесу, лесу темного…»
Сухоруков задерживается у дверей, снимает фуражку – голова его оказывается тоже до глянца выбритой, как и лицо, и тоже костяного, желтого цвета. Просвирняк замешкался опять, замотался, словно его уличат сейчас, что пришел сюда без дела; Зяблик манит его к себе: надо же Вите в самом деле хоть чему-то учиться.
Сам Ваня пока стоя нажимает один клавиш на коммутаторе, другой – мягко загораются мелкие лампочки, прикрытые плоскими матовыми колпачками. Все лампочки горят, порядок, но Ване нужно сменить их все до единой. Это вот почему. Несколько лет назад, сразу после войны, пришел в контору некий инженер Рублев, офицер, фронтовик, вся грудь, рассказывали, в орденах. И вот этот фронтовой связист решил все в конторе изменить и переделать. Вот он-то, например, и говорил: если срок работы какого-то прибора или лампочки рассчитан на год, то лучше всего снять их и заменить новыми через одиннадцать с половиной месяцев. Не дожидаться, пока сами выйдут из строя. Тогда, мол, не будет аварий, ремонта, потери времени.
Стал Рублев так делать на практике, но контора заартачилась, заленилась, покатила на Рублева бочку: «А как экономия? Это к чему нас призывает товарищ Рублев? Списывать в утиль хорошие лампы? Разбазаривать средства? Да еще неизвестно, куда эти наши хорошие лампы потом пойдут! Может, налево?..» И хоть доказывал Рублев, что ремонт и простой стоят дороже, но его «разоблачили» и из конторы выгнали. А про его крамольные методы и вспоминать запретили. И никто не вспоминал, и по-прежнему на шнурах телефонистки работали до тех пор, пока шнуры не превращались в лохмотья и не становились совсем короткими от бесконечных обрезок. И без конца же ремонтировали реле, проводку, трубки и прочее. И лишь Митрофаныч тайно учил Зяблика, что инженер Рублев был прав. Конечно, везде всего не наменяешь, бедность кругом и всего нехватка, но там, где приборы должны в с е г д а работать как часы, там, говорил Митрофаныч, на дерьме выгадывать нечего и надо делать по-рублевски. И вообще, мол, парень этот был с головой и не сожри его Дмитрий Иваныч со своей братией, в конторе давно бы машинки сами себя чинили да еще пол мели и сидели бы здесь вместо нас две-три автоматические чучелы.
Теперь, меняя лампочки, Ваня садится, чтобы было удобнее, в полукресло министра и видит, как Просвирняк вздрагивает и озирается на Сухорукова: можно ли? Ване даже неловко за взрослого Витю: что он так боится всего?
– Ты сюда смотри, сюда! – говорит он Просвирняку. Ваня бросает лампочки в аккуратный кожаный мешочек, они еще пригодятся. Потом снова нажимает клавиш вызова, и в комнате тотчас раздается женский официальный голос:
– Междугородняя, четвертый слушает.
Это Шура.
Просвирняк опять вздрагивает, уж этого он не ожидал: что сюда так громко может вторгнуться посторонний и вольный звук. Сухоруков тоже поворачивает голову, не поворачивая корпуса, как кукла.
– Привет, Шур! – говорит Зяблик обрадованно. Он нарочно откинулся в кресле и только чуть развернулся к коммутатору, чтобы проверять, с какого расстояния лучше слышно. – Это мы тут орудуем. Как слышишь?
– А-а… – Голос Шуры сразу меняется. – А я-то удивилась: что это так рано? Вылизываете?
Митрофаныч, все еще стоя на коленях, тут же начинает квохтать, трясясь от смеха.
– Стараемся, – тут же пристраиваясь к тону Шуры, отвечает Ванечка, но вместе с тем чуть косится на Сухорукова. – А у тебя там как?
Это он проявляет участие насчет Артамонова, но Шура не успевает ответить – вступает, квохтая, Митрофаныч.
– Здоров, Сергеевна! – кричит он. – Это я! Как она, ничего? Чавой-то давно не видал тебя!
– Ничаво, – отвечает Шура в тон, – здоров, дед! Где вам видать, вы все вылизываете.
Митрофаныч совсем заходится от смеха, а Ванечка, убавляя и прибавляя громкость, спрашивает:
– А так, Шур?.. Шура, а вот так?..
Он еще продолжает выкручивать и вставлять новые лампочки в поднятую крышку коммутатора и показывает Просвирняку, чтобы тот следил, смотрел сюда, в густо забитое цветными проводами нутро аппарата, хотя ясно, что Просвирняк от волнения и страха ни бельмеса не понимает. И еще он хочет обезопасить Шуру от Сухорукова, чтобы она при нем лишнего не сморозила:
– Шур! Слышишь? Мы тут с Витей… Ну, а чем кончилось-то?
– Да ну их к черту! – говорит Шура. – Пошенкина ищут, раздуют теперь до небес… Вы бы всюду так вылизывали. – опять меняет она тон, посылая свою фразу Митрофанычу, – мы бы горя не знали!
– От дает! – восторгается Митрофаныч.
А Сухоруков хмурится, а Просвирняк втягивает голову в плечи.
– Ладно, Шур, – опять перебивает Зяблик, – дай мне на минутку Свердловск, потом Украину.
– Ну ты тоже, нашел время! – Шура сердится. – Урал забит.
– Ну на секунду!..
Аппарат работает так хорошо, что слышно дыхание Шуры, голоса Зои, Нинки, Риммы Павловны, и, пока Шура вызывает Урал, Митрофаныч квохчет, обращаясь теперь прямо к Сухорукову:
– От девка! Пальца в рот не клади! Отрежет хоть кого! Из себя тощеватая только… Да ты ее знаешь, Шуру-то, Сухоруков?..
– Ладно, ковыряйся поживей! – неожиданно грубо отвечает Сухоруков. – Некогда мне тут с вами ля-ля! Шуры, понимаешь, муры…
При этом Сухоруков бросает свою фуражку на подоконник. Бедняга Просвирняк от этого жеста, от звука стукнувшего по мрамору козырька даже бледнеет. Он так и не выпускает из рук красного провода.
– Всюду бы так-то вылизывали! – хохочет Митрофаныч. – Ну подцепит, а?
Тут снова раздается голос Шуры:
– Свердловск возьми, только быстро!
Ванечка закрывает коммутатор; Митрофаныч складывает свой чемоданчик, поднимается и отряхивает колени – будто его страшные рабочие штаны могли испачкаться о стерильный ковер. Ваня кивает ему: мол, еще минута – и все, заканчиваю.
– Свердловск? – Он чуть повышает голос. – Кто это? Ксеня? Как слышите? От министра говорю.
Пробиваясь сквозь всю страну, отдаленно, сквозь шорохи и помехи, но все-таки чисто и четко доносится нежный девичий голос, чуть медленноватый для телефонистки:
– Это не Ксения, это Марина, здравствуйте. Ксеня сменилась…
Зяблик Марину никогда не видел, но знает ее давно, и по голосу она представляется ему тоненькой, тихой девушкой. Она ему нравится по голосу, и его тон, когда он с ней, бывает, разговаривает, тут же делается особенным, Марининым, если можно так сказать, потому что, скажем, со своей девушкой Валей Зяблик говорит иначе, да и с каждой другой по-своему.
– А, Марина! – говорит он. – Здравствуй, здравствуй! – Он не замечает, как откидывается в кресле и перестает обращать внимание на окружающих. – Ты по первому каналу? А по второму тоже возьми на всякий случай… Раз, два, три…
– Очень хорошо слышу, – отвечает Марина, – и по второму тоже…
– Да-да, ясно, Марина, спасибо.
– А у нас вчера метель была, – вдруг говорит Марина, – просто небывалая, трамваи не ходят, грузовик один перевернуло…
– Да? Как это?
– Ой, а сегодня! Солнышко и все такое белое, так сверкает! – Слышно, как Марина нежно смеется, и Зяблик невольно улыбается. – А у вас? – продолжает разговор Марина.
– Нет, у нас еще… – на улыбке начинает фразу Зяблик, но тут его перебивает Шура, которой нужен канал, и он сразу видит глядящих на него, развалившегося в кресле министра, Сухорукова, Митрофаныча и Просвирняка. Причем Митрофаныч еще посмеивается, а Витя глядит удивительно похоже на Сухорукова: чуть ли не с возмущением.
– …у нас, Марина, – заканчивает Ваня, выпрямляясь, – спасибо, Марина, видишь, канал нужен…
– Хорошо, до свидания, – все так же нежно отвечает Марина, хотя понимает уже, что про метели и солнышко она начала невпопад.
– Спасибо за связь, Марина. – Зяблик в оправдание свое решил закончить процедуру проверки как полагается. – Не уходите с линии, сейчас проверим с Макеевкой – Тем самым он еще дает понять Марине, что не он виноват. – Шура, Макеевку!
– Черт, навязался еще на мою голову! – отвечает Шура, опять потешая Митрофаныча, и кричит: – Макеевка! Макеевка! Как слышите?
Она подключает Макеевку, и они разговаривают вчетвером: Марина, Ваня, Шура и телефонистка из Макеевки с сильным украинским акцентом. Слышимость отличная. Шура вдруг тоже спрашивает о погоде, и весь строгий, торжественный, с печальной тенью от шторы кабинет министра вдруг заполняет живой крик макеевской телефонистки:
– Та ну, шоб ей сказиться, ужо тий погоди! Дожжит та дожжит другу нидилю, нияк картоху с огорода не выкопаемо!
Просвирняк в полной растерянности, Сухоруков берет с подоконника фуражку и насаживает ее на голову, Митрофаныч, похохатывая, уже движется к двери, к двойному ее тамбуру. Зяблик тоже встает, закрывает чемоданчик, а женские голоса еще продолжают звучать, шуметь, звенеть, пока один щелчок ключа не обрывает их живую музыку на полуфразе.
Все в порядке, прекрасно слышно, отличный селектор у министра, можно идти.
На обратном пути испуг Просвирняка проходит; упревший от впечатлений, от волнения, даже обессиленный, он сияет влажным от пота лицом, и глаза его горят счастьем: господи, где он был! куда допущен! какие горизонты открываются в жизни!.. Вот оно, все близко, руками можно потрогать, руками!..
3
На столе Пошенкина шасси распотрошенного приемника, старые динамики, репродукторы, пахнет в каморке паяльником, жженой пластмассой и канифолью, в перевернутой крышке от стеклянной консервной банки гора окурков «Беломора»: мелкая кустарная мастерская, да и только.
Впрочем, так оно почти и есть. Леонид Степаныч слывет специалистом по радиочасти. Пусть он без образования, но опыта у него хватает. Как-нибудь, с грехом пополам, но он починит вам, может, и топорно, любую радиоштуковину, хоть нашу, хоть какую. И если кому-то в министерстве надо исправить приемник или телевизор (тогда занималась заря первых «Ленинградов» и «КВНов»), то никто, конечно, не обращается ни в какие ателье – да их и не было, – а идут на поклон к своим, местным техникам.
Таков был вообще издавна заведен порядок, не зря сохранялась министерская автономия: министерские слесари чинили по квартирам умывальники и унитазы, маляры и плотники белили потолки, циклевали паркет, стекольщики вставляли стекла, и, бывало, Митю-электрика гоняли на чью-нибудь квартиру или дачу починить выключатель или присобачить в изголовье какой-либо Марье Ивановне трофейный ночничок, купленный в комиссионке.
А что касается радио, то с этим, конечно, в контору связи. Забарахлит у какого-нибудь завотделом приемник, скажет он своей секретарше: позвоните, мол, Зиночка, в АХО Бубышкину, а то у меня дома «телефункен» не того. И Зиночка тут же позвонит Бубышкину или прямо в контору Дмитрию Иванычу: отправьте, дескать, своих хлопцев туда-то и туда-то; Дмитрий Иваныч рад стараться: чем выше просящий, тем больше нам, связистам, почета. Он тут же отдает приказ, а затем звонит Зиночке: мол, готово. А Зиночка вызывает машину своего шефа, и вот уже (не прошло и получаса) кто-либо из конторы, а чаще всего Леонид Степанович Пошенкин, глядишь, мчится в начальственной машине с чемоданчиком на коленях по городу и уже глядит с переднего сиденья на пеший люд с тем особым барственным выражением, с каким всегда глядят из автомобилей те, кто редко в автомобилях ездит.
Работы хватало и с каждым годом после воины все прибавлялось, в одиночку Пошенкин уже не справлялся и стал привлекать к этому делу то Зяблика, то бедного многодетного Изю. До конторы же, до своей главной работы, случалось, неделями не доходили руки. Да и что делать? Все сделано. С утра Леонид Степаныч прочтет (или не прочтет) сводки с периферийных отделений (где какие повреждения на линиях) и велит Зяблику передать сводки телефонисткам: «Доведите до сведения». А что доводить, когда сами же телефонистки эти сводки принимают и лучше других знают, где какие повреждения. Зяблик отнесет для порядка листочки Римме Павловне или просто бросит их в корзину, предварительно прочитав и изорвав (секретность!). Зяблик все-таки юн, романтичен, а от сводок с названиями дальних уральских, казахстанских, украинских мест – Енакиево, Днепродзержинск, Челябинск – веет заснеженными лесами, безбрежными белыми полями с вереницей черных телеграфных столбов, занесенными узкоколейками, черными домнами. Леониду Степанычу такое даже в голову не приходит. Он прочтет, значит, покрутится, покалякает еще с телефонистками, сделает кому-нибудь походя выговор – он быстрый, маленький, резкий и очень гордый, просто Наполеон, – а там уж твори что хочешь. Из-за резкости характера Пошенкин всегда с кем-нибудь в ссоре, чаще всего, как теперь из-за Просвирняка, с самим Дмитрием Иванычем, и поэтому сидеть, как другие, по кабинетам ему не приходится. От него только и слышишь: все жулики, бездельники, выскочки, подхалимы, специалиста ни одного, кроме него да Изи, во всей конторе, все недотепы, ваньки деревенские, зачем их вообще только в город пускают! Дайте тому же Дмитрию идол Иванычу схему простенького реле – разберется он? Как свинья в апельсине! Только перед начальством подхалимничать да за кресло свое держаться! А чуть что – Пошенкин! Кто министру коммутатор ставил? Кто замминистру антенну через семь балконов тянул? То-то! К черту всех! И прошу не входить!..
Пошенкин запрется в каморке и паяет, паяет, чинит, Зяблик на подхвате, а потом вдруг бросит все, выдвинет средний ящик в тумбе стола, откинется и заснет в минуту, по-наполеоновски скрестивши руки на груди. Еще дым канифоли не рассеется, а он уже спит. Устает, бедолага. А проснется – опять надо ехать, бежать, паять-чинить, и так день за днем.
Зяблик и Просвирняк сидят в каморке, Ваня на специальном станочке перематывает обмотку трансформатора для приемника, рассказывает Вите свои министерские рассказы. Витя глядит, но больше слушает. День идет к полудню, Пошенкина все нет, змея Полина уже три раза звонила, спрашивала его. Но чувствовалось: напряжение спало, работа у телефонисток идет своим чередом, близится обед и уже кого-то, слышно, снаряжают в магазин за кефиром, колбасой и булками. Телефонистки, как правило, в столовую не ходят, только, пожалуй, Нинка да Шура, но это потому, что одна дома не готовит, не обедает (да и бывает ли дома?), а другая живет за городом. Сам Артамонов, должно быть, давно позабыл утренний конфликт, тем более что Урал ему все-таки через часок дали. И при всем при том всем ясно, что так не обойдется, не положено, чтобы так обходилось, и Дмитрий Иваныч втык междугородке все же сделает.
Витю Просвирняка не оставляло давешнее возбуждение, мечты и мысли одолевали его, он жадно слушал повествование Ванечки о привычках одного замминистра, о чудачествах другого, о крутом нраве третьего, о талантах четвертого. Его интересовали главные, самые главные люди.
– Эх, образования нет! – горюет Витя. – Нету! А без образования высоко не прыгнуть!
Ванечка внимательно глядит на него, изучает: мол, как высоко ты хочешь прыгнуть?
– Учись, – говорит он Вите, – здесь работа не бей лежачего, учиться вполне можно. Ты кем хочешь?
Лицо Просвирняка живо двигается, глаза ходят туда-сюда, буря чувств его переполняет, но он лишь отмахивается:
– Кем-кем! Где уж мне, поздно!.. – И опять перекатывает, перебирает внутри свои идеи и опять сам себе отвечает: – Нет! Где там! Не допрыгнуть.
– А я закончу, диплом получу, уеду куда-нибудь, – говорит Зяблик, – не век же здесь сидеть, правда?
– Здесь? – Просвирняк не понимает: чем же здесь плохо? – Тебе диплом светит, другое дело…
Так они беседуют, обмениваются честолюбивыми мечтами, как вдруг врывается Пошенкин. Маленький, в зимнем уже рыжем полупальто на меху, с меховыми белыми отворотами, в мохнатой шапке, с набитой авоськой в одной руке, а другой прижимая к себе завернутый в газету ящик – скорее всего очередной приемник, – он проносится через диспетчерскую, как всегда стараясь, чтобы телефонистки не успели рассмотреть, что он несет, и тут же вываливает все на стол, сбрасывает полупальто, соскребает нога об ногу галоши, хватается за телефон. Ваня успевает уступить ему его место, Просвирняк, поднявшись, прилепляется спиной к стене, сразу обретя в присутствии Пошенкина виноватое, полусогнутое положение. Раздевшись, только не сняв шапку, Пошенкин вовсе делается мелким щуплым мужичишкой с маленьким личиком, с красненьким носиком. Но как садится за стол, как облокачивается, как берется за телефон! Чингисхан, да и только, в мохнатой шапке, сей миг соскочивший с коня!
Накручивая диск, он властно, быстро спрашивает Зяблика без всякого «здравствуй»:
– Ну, чего делается?.. Черт, крошки во рту с утра не было!.. (Сразу намек на столовую: не пойти ли?)
На Просвирняка даже не взглянул, Просвирняка для него не существует.
– Вроде все нормально, – отвечает Ваня.
– Мотаешь? – спрашивает его Пошенкин, кивая на сердечник трансформатора. – Мотай-мотай, завтра чтоб закончить. – Тут он дозванивается куда хотел и натужным начальственным голосом требует: – Товарища Миронера, Пошенкин говорит…
И он долго выясняет с товарищем Миронером, почему ему недоплатили – за какую-то, видимо, халтуру – девятнадцать рублей, а Ваня и Витя стоя слушают, не смея ни выйти, ни пошевелиться.
И тут дверь открывает Полина, а за нею видна фигура Риммы Павловны.
– Здрасте, Леонид Степанович, – елейно поет Полина с порога, но Пошенкин, подняв руку, дает ей знак помолчать и, еще басистее, еще сильнее насупив личико под шапкой, заявляет товарищу Миронеру, что требует немедленно выяснить, в чем дело.
– Вас к Дмитрию Иванычу, – коротко говорит, уже обидясь, Полина, когда Пошенкин кладет трубку. – Срочно.
– Какое срочно, – режет Пошенкин, – обед. Крошки во рту с утра не было.
– Вас уже три часа ищут.
– Чего? – Пошенкин грубит. – Только не надо. Я на объекте был.
Полина дергает плечиком.
– Ладно, сейчас пообедаю, приду.
– Он срочно велел, – повторяет Полина.
– Все срочно, у меня тоже срочно. – Пошенкин встает, давая понять, что вопрос исчерпан.
Полина опять ведет плечом – мол, я предупредила, вам же хуже будет – и, повернувшись, едва не толкнув Римму Павловну, удаляется.
Едва Полина отворачивается, Пошенкин опять звонит, и Римма Павловна, ступив на порог, глубоко дыша, ожидает. Ваня и Просвирняк продолжают стоять у стены. Этот сухонький гриб в шапке умеет всех держать по струнке. Римма Павловна открыла было рот, но на нее он тоже двинул ладонь: мол, закройтесь. И тут же приказывает Ване, продолжая крутить диск:
– Давай в столовую, занимай очередь…
Ваня, однако, не кидается бегом, медлит, тоже желая объяснить, что здесь случилось и зачем зовет Дмитрий Иваныч. Впрочем, он знает Пошенкина: если уж тот заартачился, отступления не будет.
Еще тянутся нелепые мгновения, пока Пошенкин крутит диск. Но вот в недрах конторы, еще неслышимый и невидимый, но ощущаемый всеми кожей, происходит некий взрыв. Волна пронизывает стены, где-то, пока далеко, хлопает первая дверь, что-то близится неотвратимое и страшное, как шаровая молния. Даже Пошенкин ощутил опасность, и палец его задерживается в какой-то миг на диске.
В каморке есть еще одна дверь в коридор, но ее обычно держат запертой на ключ и на железную задвижку, чтобы никто посторонний не дергал, не заглядывал, не мешал паять-чинить. И пол под дверью из-за тесноты скоро обрастает коробками, банками, на самой двери на вбитых гвоздях висит одежда, халаты – именно туда Пошенкин повесил, войдя, свое полупальто. Ванечка стоит сейчас ближе всех к этой двери. И он первый, слышит, как движется по коридору цунами, ревет ветер, как вихрь делает виток именно здесь, под дверью. И вот мощная рука трясет дверь за ручку с той стороны. И бьет в дверь кулаком так, что трясется каморка. И голос гудит снаружи:
– Пошенкин!
И еще чей-то голос мужской и голосок Полины. Ясно: Дмитрий Иваныч со свитой.
Римму Павловну как ветром сдувает, Ванечка кидается убирать из-под двери хлам. Просвирняк дрожит.
– Открой! Пошенкин! – гремит голос.
Ванечка кинулся убирать, но успел глянуть на своего начальника: как он? что прикажет? А Пошенкин, бросив телефон, делает Ване без суеты знак: мол, убирай, да не торопись, – и первым делом сгребает со стола разобранный приемник и сует все вниз, под стол. Ваня убирает, гремит, приговаривает: «Сейчас, сейчас». А Пошенкин без всякого для быстроты ловко пролезает под двухтумбовым столом, едва не сунувшись головой в живот Вите, – он успевает еще изобразить на лице, как ему неприятно присутствие этого Вити, но вместе с тем ладно, мол, плевать на него. И опять же на руках и гримасами показывает Ване, что ты, мол, открывай, а меня нет, я ушел, минуты две как ушел. Ваня понимает. Он уже гремит ключом в замке, задвижкой. Пошенкин еще обдергивает на себе пиджачок, приняв важный вид, и вмиг исчезает в дверях диспетчерской – там он может, не выходя в коридор, в секунду выскочить на улицу и через следующий подъезд войти в министерство снова. Мало того, он и шапку успел снять, не забылся, обнажив свою маленькую, потную, с прилипшими волосами голову. Бросил шапку на стул и исчез.
Просвирняк оторопел, Зяблик усмехнулся – он-то знает Пошенкина – и уже вполне спокойно открывает дверь. Открыл, но еще замешкался перед входящими, не дал им сразу вступить, еще что-то убирал с пола, а в дверь лезет пузом и красным, как ветчина, лицом Дмитрий Иваныч в синем костюме с жилеткой, а за ним еще начальник аккумуляторного цеха Трусов, первый подхалим, тоже толстый и кудрявый, и Полина, и маячит кто-то из монтеров, привлеченный шумом.
Дмитрий Иваныч кидает взгляд по каморке и – надо же! (тоже хорошо знает Пошенкина) – сразу дальше. Ванечку просто сносит на сторону пузом, стол сдвигает, стул с шапкой отшвыривает ногой. Тут ему на глаза попадает оторопелое лицо Вити.
– Ты – за мной! – ткнул он в него пальцем. И – дальше.
Разумеется, ворвавшись в каморку и не застав Пошенкина, Дмитрий Иваныч, будучи человеком простым, произносит еще кое-какие слова: мол, ну хорошо, Леонид Степаныч, ах вы так, Леонид Степаныч, ну погодите, Леонид Степаныч! И, покидая каморку, влетев сокрушительно в диспетчерскую, чтобы лишь пройти через нее, ни на кого не обращая внимания, не здороваясь и ничего не объясняя, он продолжает повторять все свои приветствия в адрес Пошенкина. Телефонистки аж рты раскрывают: буря!
За Дмитрием Иванычем катится толстый Трусов, а хитрая Полина, сообразив, бежит по коридору обратно, чтобы в конце перехватить Пошенкина. Но где там! Маленького Чингисханчика и след простыл!
Когда Зяблик оглядывается, в каморке уже пусто, обе двери стоят настежь, рыжая шапка и стул валяются на полу. Витя Просвирняк торопится, приволакивая ногу, через диспетчерскую вслед за Трусовым.
4
Ваня ехал в контору на трамвае, стоял в тамбуре, окна заиндевели, к ночи подморозило. Молодая кондукторша, высоко сидящая на кондукторском месте с кожаной сумкой на коленях, по-зимнему была закутана в платок и обута в валенки. Ваня наблюдал за ней: как она машинально объявляет остановки полупустому вагону, как дергает сигнальную веревку, как закрывает ударом кулака сверху двустворчатые деревянные двери, какие были тогда в старых трамваях. Он смотрел и горевал: он поссорился со своей девушкой Валей, а на носу праздник, они не договорились, как и где будут его отмечать. Ваня сердился, ему надоели Валины капризы.
Он бежал потом от остановки бегом к министерству, он уже на полчаса опаздывал (хотя ждал его один Просвирняк), и от легкого быстрого бега ему стало вроде полегче. По центру уже висели всюду плакаты, торчали развешанные дворниками флаги, мелькнула где-то горящая гирлянда лампочек. Как будет теперь с праздником? Но какой-то бес глубоко внутри радовался: ну и ладно, ну, может, и хорошо?
Каждый месяц (а перед праздниками само собой) полагалось проводить чистку и профилактический осмотр коммутатора – между прочим, тоже Рублевым был заведен порядок. Делалось это ночью, чтобы днем не мешать телефонисткам работать и чтобы они не мешали.
Просвирняк в своем длинном пальто, заложив за спину руки со шляпой, ходил по коридору, в диспетчерскую один зайти не решался.
– Чего ж ты? – суетливо бросил он на ходу Ване. – Айда, айда!
На часах было без пяти двенадцать.
В полутемной, непривычно пустой и тихой диспетчерской сидела за коммутатором одна Шура, читала книгу. Плечи ее были укутаны коричневым платком, над головой горела лампа на кронштейне, на стенде светилось всего пять-шесть лампочек. Из-за коммутатора неслось похрапыванье: там на диванчике, поджав ноги в теплых белых носках, укрывшись пальто, спала Зоя.
– Привет! – весело сказал Ваня Шуре, – С наступающим… «Три мушкетера»? – спросил он про толстую растрепанную книгу: известно было, что Шура читает только такие книги, а современные не любит.
– С наступающим! – сказал Просвирняк за спиной Вани.
Шура посмотрела на них не шевельнувшись, не изменив позы, не убрав закрывающую лицо остро подстриженную прядь, еле кивнула – на лице ее блуждало впечатление от прочитанного, и она опять погрузилась в книгу.
Ваня подмигнул Просвирняку: мол, не робей, – они прошли в каморку, разделись, закурили, и Ваня с ходу быстро стал объяснять, что нужно делать. Его настроение становилось легче и возбужденнее с каждой минутой, и подспудное чувство облегчения все усиливалось: не хочет Валя – не надо.
Начали работу. Она заключалась вот в чем: один монтер из диспетчерской посылает с коммутатора сигнал, а другой по этому сигналу (для быстроты) находит на стенде реле, снимает с него колпак-крышку и чистит контакты, попросту прокладывая между ними лист бумаги и нажимая на них. Контакты Ваня чистит сам, а Витю отрядил бегать в диспетчерскую и обратно.
Примерно через полчаса Ваня услышал – Шура что-то говорит Просвирняку, а затем послышался и голос Зои, бас ее и зевота.
– Чего там? – спросил Ваня.
– Все шутит, – сказал Витя недовольно о Шуре и даже голоса не понизил, – все, говорит, выкинуть давно пора, а не чистить… Ей бы в другом месте за такие слова…
– Не обращай, уж она у нас такая.
– Уж такая! Видно, какая…
– Тебе, что ли, что сказала?
– Мне? Нет.
Ваня работал быстро, ловко, но ему уже надоела работа, он вышел в диспетчерскую: любопытно было, что там гудит Зоя и чему смеется Шура. Зоя ходила в белых носках, потягивалась. Вокруг рта, пухлых и выпуклых со сна губ, расползлась помада. Волосы висели черными прядями вдоль лица. От платья крепко пахло перегоревшими духами. Будто дома в своей спальне, она зевала, лениво тянулась, покряхтывала. Что-то бормотала, что понимала одна Шура и чему смеялась, приговаривая со смехом:








