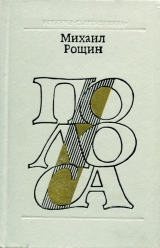
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
А вечером, как снег на голову, свалилась (пролетом в свой Норильск из Донецка, из командировки) Ирка Разгуляй, лучшая институтская подружка, с которой они не виделись года полтора. Года полтора! Как длинны стали, как все длинней становились их разлуки, – а ведь когда-то дня не могли прожить друг без друга. Ах, Ирка! Ирка Разгуляй!
Пошел дым коромыслом, Ирка умела оправдать свою фамилию. Часам к двенадцати ночи квартира выглядела так: на кухне остатки ужина, россыпью зеленые еще яблоки, бутылка из-под водки, которую они выпили в пропорции 2:1, по комнатам платья, лифчики, журналы, чемодан разинут, в ванной плавают розы и трусы, телевизор включен, но без звука, свет горит повсюду, окурки раздавлены о каждый спичечный коробок, у тахты на полу бокалы, две бутылки шампанского в тазу с растаявшим льдом, и так далее и тому подобное. Сама Ирка, загорелая, длинная, здоровая, как антилопа (она вообще смуглая и черноволосая, у нее бабка была гречанка), уже в чужом, Татьянином, халате, в ее же браслетах и кольцах, которые она примеряла и пока не сняла, валялась на тахте, пила, курила, с одной стороны играл магнитофон, под другим боком – телефон, глаза горели, ни о каком сне не могло быть и речи.
Но главное не это. Главное другое. Она в л ю б и л а с ь. Она влюбилась, влюбилась, влюбилась. Умереть. Сойти с ума. Две недели счастья. Но какого! Ничего подобного, никогда! Он главный инженер шахты. Тридцать пять лет. Жена, дети. Умница. Депутат. Орден Ленина. Смелый, как черт. Здоровый, сильный, красивый. Алеша. Алеша, Алеша, Алеша. «Танька, ты не понимаешь! Я не жила до сих пор, я ничего не знала! Он меня срезал, скосил, умираю! Я ничего не знала, я женщиной не была!» (Однажды она уже это говорила, но Татьяне неловко было сейчас напомнить об этом.) Ирка без стыда, как только может подруга подруге, поверяла все тайны; она каталась по полу, металась, хохотала и плакала. Два раза она набирала по автомату Донецк и разговаривала со своим Алешей по полчаса (сидя на полу, скрестив ноги, с сигаретой и бокалом в одной руке сразу, отпивая и затягиваясь). «Люблю… дорогой… я не могу без тебя… а ты?.. что ты делаешь?..» Она совала трубку Татьяне, чтобы та поговорила тоже, подтвердила, как Ирка его любит.
Татьяна тупо мямлила, не попадая им в тон, а на том конце тоже не больно звонко бубнил с южным, полуукраинским акцентом смущенный голос: что не пора ли, мол, баиньки (так он выразился). «Что делать, Танька, что делать? Я не могу, я умру без него!..»
Она все-таки попыталась напомнить Ирке, что подобное бывало раньше, что каждый раз она «умирала», влюбляясь, но Ирка не хотела слушать. «Дура! Ты не поняла ничего! Мне конец! Я брошу все! Я брошу Андрея, все брошу, я буду жить около него! Он не может, он депутат, его знают! А я могу!.. Это счастье! Это нельзя отдать!..»
Поначалу Татьяна включилась, настроилась на Иркину волну, радовалась и плакала вместе с нею, но потом устала. Можно было ожидать, что Ирка устанет, но где там! Как все безумством началось, так безумством и кончилось. В десятый раз Ирка повторяла, что сказал он, что сказала она, в три ночи опять набрала Донецк (бедный этот депутат, спасибо, его жена с детьми отдыхали в Крыму) и вдруг, когда Татьяна уже дремала, сорвалась, стала трезвонить в аэропорт, выпросила шестьдесят рублей, и – о боже, Татьяна опомниться не успела, как они мчались на рассвете в такси, мелькали березки, а билет будет или нет, неизвестно, народу полно, сегодня суббота, держись, Алеша!..
Но бог, как всегда, помогает влюбленным, в последнюю минуту Ирке продают оставшийся от брони билет, она бежит сама через поле к самолету, мелькая длинными ногами, с одною сумкой через плечо, а завтра ей обязательно надо вернуться, все ее вещи остались здесь, и Норильск ее давно ждет, неизвестно, что будет и как, все на острие ножа, и от ее счастья недалеко до несчастья.
Татьяна возвращалась потом с аэродрома в город экспрессом, автобусом, выжатая, как лимон. Устроилась одна на заднем сиденье, задернула от солнца белую шторку, полудремала. Отчего-то жаль Ирку, во всем чудился повтор, слишком все знакомо: уже сидела когда-то Ирка на полу, сложив по-турецки ноги, с телефонной трубкой в одной руке и с сигаретой и бокалом в другой, уже кричала она «умру!», и даже к самолету когда-то бежала через поле. Так артисты выходят играть все одну и ту же сцену, и только им одним это не надоедает.
И еще холодело на душе неприятное, смутное, сомнительное: Татьяна чувствовала сейчас и за Ирку, и за ее Алешу, и за ту незнакомую ей женщину, жену Алеши, которая отдыхала себе беспечно в Крыму с детьми. Она отдыхала, а Ирка шаталась голая по ее дому… «Ну-ну, не ханжи», – сказала она себе голосом Астры, но видение не проходило. И не оттого ли, не от этого ли самого видения разжигает честная Ирка такой большой, такой ненатуральный костер? Ведь б о л ь ш а я любовь все оправдывает. (Почему-то.) За большую все простится. Должно проститься… И то, как ты ходишь голая п о ч у ж о м у дому? Ложишься н е в с в о ю постель?.. «Ну-ну», – опять сказала она себе. В самом деле, теперь такое как бы и за грех не считается, подумаешь, это мелочи.
Она была почти у дома, вышла из метро на Смоленской, у гастронома, ей хотелось спать. Но она представила, что войдет и увидит сейчас ночной разгром, надо будет прибираться, мыть посуду, сметать Иркин пепел. «Иркин пепел…»
Она позвонила с улицы Астре и попала вдруг с корабля на бал. Астра закричала: «Ну где ты шляешься? Ты забыла?.. Бери такси, я одну тебя жду!»
В самом деле, ведь была уже суббота, а об этой субботе талдычили всю неделю. У мужа Астры, Николая Анатольевича, архитектора, приняли конкурсный проект, и намечалось отметить событие.
Астра много лет подряд снимала дачу в одном и том же месте, в Томилине, по Рязанке, у них была, по сути, своя половина дома, с отдельным входом, с отдельным просторным участком, на котором ничего не сажали, не возделывали. Николай Анатольевич решил устроить пир на воздухе, и конечно же с шашлыком. Гостей звали по раньше, на весь день, хозяин уехал еще с вечера, и гость ринулся на дачу охотно, до жары. Когда Татьяна с Астрой примчались около часу на такси, набитом сумками, бутылками, взятой напрокат посудой, по участку уже бродили и лежали мужчины без пиджаков, впустую суетились женщины. Уже была готова яма пылающих углей, а счастливый, лысый Николай Анатольевич, в майке и фартуке, нанизывал на шампуры бледное от маринада мясо. Он фыркал, напевал, отгонял мух, выкрикивал распоряжения и приветствия и еще успевал спорить об архитектуре с одним из своих соавторов, Смоляницким. Щуплый, рыжебородый, в затемненных очках и коротковатых джинсах интеллигент Смоляницкий подавал Николаю Анатольевичу двумя пальцами круглые дольки помидоров и лука и спорил твердо и запальчиво. Еще один соавтор, Икулов, белозубый бакинец, босой и голый по пояс, как разбойник, мотал листом фанеры над огнем, ровняя угли, и крепкое загорелое его тело (брюшной пресс, как у античной статуи) картинно блестело от пота. «А, кто приехал! Татьяна приехала!» – выкрикнул он весело. Они были знакомы.
Пир был как пир, как все такие пиры. Долго ждала шашлык, он то жарился, то не жарился, был сырой или горел. Сначала каждый кусочек терзали нарасхват, с едва прикрытой юмором жадностью, все проголодались, а потом Николай Анатольевич с пятью шампурами в руках, чуть не плача, а за ним Икулов с подносом, ходили, уговаривали: ешьте, пожалуйста. Сначала все торжественно сидели за белым столом, собранным из разных столов и ящиков, а потом кто где, на траве и на крылечке. Сначала поднимали тосты, произносили проникновенные слова, потом дули так, кому сколько влезет, без тостов; сначала казалось, что вина – море (кто будет пить в такую жару?), а потом ездили на станцию прикупать еще. Кто-то уже спал, развалясь в гамаке, а кто-то дурачился, побивая гостей из шланга.
Икулов ухаживал за Татьяной. Белые его зубы и черные глаза так и сияли перед нею, куда ни обернись. «Я вас монополизировал». Он подливал, подкладывал, целовал, когда она удачно острила, руку, открыто любовался ею, плясал для нее с ножом в зубах и осаживал сильно перебравшего соавтора, которому Татьяна, видно, тоже понравилась (вакантность, вакантность!). Смоляницкий внезапно нависал сзади с рюмкой в руке, щелкал каблуками, стараясь держаться совершенным кавалергардом, снимал очки, считая, видимо, что так он красивее, и по-детски мигал на солнышко большими глазами небесной голубизны.
С женщинами как-то не удалось, их оказалось меньше мужчин, все с мужьями, и Татьяна, самая молодая в этой компании, без пары, захватила внимание. Ее это вдохновило, она почувствовала себя легко и в какой-то момент, уже чуть хмельная первым хмелем, который обычно затем проходил, увидела себя, нравясь себе со стороны, стройной, высокой (стройнее и выше, чем на самом деле), в белой юбке, светло-розовом батнике со стоячим воротничком, с косыночкой, конец которой продернут в верхнюю петлю батника, со светлыми, вымытыми в ромашке, распадающимися (но ровно настолько, насколько нужно) волосами, с грациозно отставленной рукой, в которой – прости, Ирка! – сразу и бокал и сигарета. Вот так она стоит, смеясь, под старой елью, в закатной тени, а вокруг, на земле, валяются (буквально) мужчины.
Когда ехали в такси, она говорила Астре, что первый делом ляжет и поспит хоть час, но теперь и не думала об этом.
Честно говоря, она уже позабыла, как это бывает: компания, свобода, ты одна, делаешь, что хочешь. Уже осел в ней опыт замужней женщины, семейных застолий, с детьми, с мужьями. Выступать в роли одиночки, завлекательницы она и прежде не умела, – всегда была второй при ком-нибудь из подруг, – и что такое случилось сегодня – сама не понимала. Но – случилось, получалось.
Потом, уже в темноте, вдруг собрались купаться – далеко, на озеро, точнее, на бывший карьер, и отправились человек семь. Астра не пошла, устала, ухаживала за мужем, – Николаю Анатольевичу стало плохо, его рвало, видно, объелся, бедный, своего шашлыка. Астра сказала только: «Икулов-то! Смотри, мать!» А Икулов стоял тут же, сверкая зубами, терпеливый, мягкий, предупредительный, в меру дикий и в меру интеллигентный, тихий, как кот, в расстегнутой до пупа рубашке. Совсем свой. Наблюдал, прищурясь, как мышка делает последний шажок к мышеловке.
Но между прочим, не сдавался и запальчивый Смоляницкий, силой духа весь день держась на ногах. Преподносил вдруг, бог весь откуда, огненный пион, под носом у соавтора увлекал Татьяну танцевать. Теперь он тоже выкачнулся из-за спины Икулова, сделав руку колечком, первым предложил Татьяне идти.
Они купались в светлой парной воде, блестевшей редкими звездами, они с Икуловым заплыли дальше всех, и он подныривал под нее, пугая, и касался ее тела. Невзначай. И подавал ей руку потом. И придерживал за талию. И оберегал. А она молола без передышки чушь, раскатывалась пляжным смехом. А он придерживал, дотрагивался. Неотвратимо. Проверял: да-да, нет-нет. Бедный Смоляницкий, не умея плавать, плескался у берега, и над озером раздавалось его городское, дилетантское«ау!»
Они вышли на берег в другом месте, как бы играя в прятки со Смоляницким, дурача его. Здесь белел твердый, чистый песок. Татьяна упала на него, полузадушенно смеясь. И Икулов тоже шипел «тсс!», опускаясь рядом. И опять (совсем невзначай, в припадке веселья, чисто по-дружески – поди скажи что-нибудь) положил свою ладонь на ее колено, и (конечно же лишь корчась от смеха) ткнулся мокрой головой в ее бедро, и (нечаянно, уж совсем это нечаянно) прижался на секунду ухом к ее груди. Выл Смоляницкий, одна яркая звезда сияла в темно-бледном небе, мышка вбежала в мышеловку, ей оставалось только схватить приманку. Еще секунда промедления будет означать согласие. Ну! Потом его уже не остановить. И самой не остановиться. Ну!.. И, опершись локтями, она вскочила… Нет, не вскочила, он перехватил ее, вскинул, понес к воде. Понес, и вошел с нею в воду, и бросил ее, как с вышки, – она заорала и плюхнулась с головой.
И в воде он уже и топил ее, и хватал, и с криком «акула! акула!» шел на нее тараном. Она изнемогала от хохота, ныряла, отбивалась ногами.
И все это – лишь затем, чтобы скрыть, спрятать то настоящее, что произошло. Она не захотела. В ту секунду, на песке, она нутром ощутила: нет, не надо. Даже не потому, что ей потом не отмыться бы и не простить себя. Что-то другое сработало. Оказывается, не т а к о г о она все-таки хочет. Нет.
Напоследок, еще в воде по грудь, когда они уже стали на ноги, Икулов схватил ее и с силой прижал к себе, будто собрался поцеловать. А сам спросил чуть вкрадчиво, чуть насмешливо: «Ты что, девушка?» Как бы шутя. Она, слава богу, нашлась (не зря была весь день в ударе), ответила – тоже как бы шутя, но и вполне серьезно: «Нет, я – женщина». (Даже загордилась потом, вспоминая, к а к ответила.)
Вообще-то чуть стыдно стало и жаль человека. Слишком заигралась, они не дети. Тоже еще динамистка. Теперь, кажется, так не положено. Ну а с другой стороны, в чем дело? Почему все должно быть просто, доступно? Ведь что-то ее остановило? Хотя она уже бегала по самой мышеловке. «Я женщина». Правильно. Есть женщины и есть бабы. В этом вся разница. И не Икулова надо стыдиться, а Смоляницкого, – ну как бы она выглядела в его глазах, если бы Икулов завтра, подмигивая, рассказал бы соавтору, что случилось, пока он кричал свое «ау»?
А что касается Икулова… ничего, больше будет уважать. Женщин. Ровно настолько, насколько он уважал бы их меньше, случись все иначе.
Потом они шли назад, вокруг светились дачи, лаяли собаки, неслись песни из телевизора. Не было двенадцати, а там, на озере, казалось: уже глубокая ночь. Соавторы поотстали, заспорив вдруг о подземных гаражах и универмагах. Татьяна ушла вперед. Так захотелось домой. Чтобы прийти, а там Жора, там Маруська, все на местах. Казалось, они одни могли спасти ее, где ж они?
Хмель прошел, игра кончилась, в какие-нибудь полчаса настроение поменялось с плюса на минус. Пожалуй, теперь она даже чувствовала себя оскорбленной, оплеванной. Не приключения ей хотелось – как это мужики не понимают, – не приключения, а увлечения. Что ж он решил? Что она – кто? (Она снова назвала вещи своими именами, как это сделала бы Астра.) Ей стал противен и Икулов, и дача, и весь этот день, и сама она себе тоже. Пошлятина. Вот это и есть пошлятина. Отставлять ручку с бокалом и сигаретой, а потом позволять хватать тебя первому встречному.
Тем не менее вскоре они ехали опять большой группой в электричке, мужчины еще выпили на посошок и пели песни. Смоляницкий заливался – откуда силы брались в этом тщедушном теле. Икулов как ни в чем не бывало продолжал ухаживать, гипнотизировать, – видно, не шло у него из головы, что м о г л а хлопнуть мышеловка. Он сидел напротив, вагон мотало, а Татьяна, едва опустившись на скамью, прислонилась виском к стенке и стала проваливаться в сон, моргая глазами.
Икулов со Смоляницким проводили ее до самого подъезда и, кажется, еще рассчитывали зайти. Она им отказала. Поднималась в лифте, расстегивала на ходу юбку, которая весь день впивалась в бок, и, стоя, спала, мечтая об одном: как войдет и рухнет.
Но на том и кончился ее сон. Еще не доехав доверху, она услышала крики, матерщину, удары. На седьмом за решеткой лифта мелькнули свекольные рожи, белые ножки воздетой вверх табуретки, рвался женский визг. Татьяна поняла: у Таськи. О господи, как бы прошмыгнуть незаметно! Но где там!
Таське на седьмом, вправляла мозги подруга Светка за своего Витьку, а Витька вкладывал ума Светке; Витькин же друг Колька учил заодно Витьку за Светку, а Таська врезала Кольке, разбив ему скулу до крови; а еще все вместе колошматили некую пожилую Люську, которая заначила поллитру в ящике на лестнице, где пожарный кран.
Всю эту информацию, во всех подробностях, с повторами, Таська считала необходимым довести до сведения Татьяны, прося у нее защиты. Дело продолжалось до пяти утра: смывали кровь, прижигали раны, держали на голове лед. Являлась милиция, которую вызвали соседи, но, правда, к тому времени ураган уже унесся: Люська бежала, Светка увела Витьку, а Колька спал без памяти на Таськиной софе. А сама Таська, сидя у Татьяны на кухне (в который уж раз!), омывала слезами свою непутевую жизнь. В разорванном на спине кримпленовом платье, босая, с царапинами на шее и щеках, толстоногая, толстогрудая, толстоносая, с золотыми серьгами и кольцами, Таська была сжигаема средневековыми страстями, дворцовой сложности интригами. Она с екатерининским размахом вела свои сексуальные дела, тасовала фаворитов, как карты: приближала, ввергала в опалу, покупала, отбивала; то держала мужской гарем, то сама, забыв все на свете, подчинялась некоему падишаху хамовнических молодых дворничих, продавщиц и малярш из конторы по ремонту квартир. Что х о т е л а, то и д е л а л а. И лишь сейчас, в приступе обиды, получив по морде, не в силах смириться, что Витьку все-таки увели, она выстанывала жалкие, но хоть человеческие слова. Впрочем, ее бесстыжие глаза все равно были непроницаемы, как у зверя, и слезы бы ее высохли в секунду, вытирать не надо, помани ее вдруг кто-то, пощекочи ее никогда не дремлющее желание.
Таська сама запирала дверь на цепочку, пугала: убьют. Татьяна постелила ей у себя. Но едва легли, Таська со словами: «Ты спить, Таня, спить!» – прошла на толстых своих цыпочках через комнату и удалилась. Куда? К побитому Кольке Витькиному, что ли?..
Так прошла у Татьяны вторая бессонная ночь. А в девять уже позвонил Икулов. «Какие планы? Не желаете ли погулять? Один приятель дал машину». – «Нет, спасибо, я еще сплю (черт, надо было выключить телефон!), у меня подруга, я никуда не могу, подруга прилетает». – «Тогда я приеду», – сказал Икулов, и она увидела его улыбку. «И Смоляницкого не забудьте захватить», – ответила она. А он сказал: «Хорошо», – и тут же, бес хитрый, положил трубку.
А через час действительно позвонила Ирка, причем уже из Москвы, из аэропорта, просила срочно привезти ей чемодан в Домодедово. Голос у нее был трезвый, мрачный. «Ты что такая? Что-нибудь случилось?» – «Ничего, приезжай, через час жду тебя прямо у входа».
Вот когда пригодился бы Икулов с машиной. Но пришлось волочиться с чемоданом и с сумкой с зелеными яблоками на Садовое, ловить такси. День опять плыл жаркий, по «Маяку» передавали: двадцать шесть градусов. А после вчерашнего мышцы ныли, тело казалось опухшим, тяжелым. Краситься, причесываться по такой жаре – нет сил. Платье она надела старенькое, попросторнее, «с продувалом», без рукавов, и ноги сунула в сабо, в которых тоже только по дому ходила. Неприбранную голову охватила наспех косынкой. И эдакой марфуткой с чемоданом поехала. Город поражал пустотой, на новом шоссе к Домодедову машин почти не встречалось, в этом чудилось нечто нереальное.
Ирку она увидела издали, подъезжая с фасада к аэровокзалу, – та ходила по самому солнцепеку, сутулясь, в разноцветно-полосатом жакете. Сердце сжалось: невесело она ходила. И вообще, как ни грустно, с одного взгляда, со стороны, было видно: не девочка, и неуловимо провинциальное обнаруживалось в этом жакете, в сумке. (Вспомнился не очень-то интеллигентный говор Алеши.) Есть женщины, которые хорошо смотрятся на улице, а другим идет комната. Впрочем, когда-то Ирка всюду великолепно смотрелась. Что ж, шесть лет в Норильске, в стройуправлении, на их вечной мерзлоте, даром это не проходит.
Ни посидеть, ни поговорить толком они уже не смогли. Из нескольких фраз стало ясно, что Алешу своего Ирка просто не видела. То есть потом она говорила, что видела, но только он, мол, очень устал, что-то случилось у них в шахте. Но кажется, это уже относилось к области желаемого, а не действительного. Словом, когда она прилетела, он ее не встретил, прислал шофера, шофер отвез ее в гостиницу (да еще что-то, видимо, брякнул по дороге), и весь день и всю ночь она провела в номере, не выходя, у телефона. «Знаешь, эти сутки в пустом номере…» И Татьяна тотчас поставила себя на место Ирки: как она летела, мчалась, а тут черная «Волга», шоферюга, вполне определенно поглядевший на тебя: «Просимо у готель!» И час за часом в этом «готеле», у телефона – отрезвеешь. «Я думаю, он был в Ялте, а не в шахте».
Они прослезились, обнявшись, и Ирка пошла по стеклянному коридору, часто оглядываясь, махая рукой. Сейчас у нее, как когда-то, нет никого ближе Татьяны. Господи, как она приедет домой, к мужу? Как ей жить? Что говорить? Что делать?.. Все-таки измена есть измена, что ни говори и чем ни прикрывай ее. И изменять все равно что воровать. Иначе отчего бы нам этого стыдиться? Это только так кажется, что в измене есть шарм, что она извинительна и даже почетна. Нет, кража есть кража, как ни обставляй. И не зря честная Ирка раскладывала большой костер: Л ю б о в ь. Потому что если не любовь, то опять-таки пошлятина, кража. Находи какие хочешь объяснения – ведь крадут из нужды, с голоду, и есть люди, которым украсть все равно что плюнуть, украл и забыл, – но мы-то не воровки, мы не клептоманки, и мы претендуем на то, что совесть наша чиста. Не так ли?
Татьяна ехала назад в электричке, бесконечно долго, в духоте и все думала об одном и том же, и Ирка стояла перед глазами. Какая будет ей расплата за две безумные недели, за этого Алешу, которого она, может быть, больше никогда не увидит? И за ее воздушный замок, который рухнул так скоро?.. Но все-таки, может быть, она права? Может, это лучше, чем сидеть вот так, как сидит она, Татьяна? Все относительно.
Она вернулась домой, осторожно открывала и закрывала двери (в свой-то дом!), чтобы не привлечь внимания Таськи. Выключила телефон, ушла подальше, в спальню, затворилась, приняла таблетку снотворного и – провалилась. Как будто кто-то звонил, звал, орал песни, сменяли, сметая друг друга, сновидения («снови́дения», говорила умная Астра, которая умеет разгадывать сны). Преследовал эротический, похабный кошмар, в нем принимала участие она сама, Таська, окровавленный Колька, и она испытывала во сне отвратительное наслаждение – спасибо, ничего потом не запомнилось, растаяло. Она все не просыпалась.
Так она проспала полсуток, в три ночи прошлепала в туалет, напилась холодного молока из холодильника и опять заснула, до самого звонка будильника.
А утром вскочила бодренькая, напевала. Побежала по лестнице, без лифта. Правда, на улице снова обдало жарой, отцветающей липой, дымом гудрона и желтых дорожных катков, утюживших Садовое. В троллейбусе – снова давка, на работе – те же прокуренные коридоры, те же лица, те же шутки, аванс – получка, получка – аванс. В отделе вместо восьми человек работало трое, Астра с утра полаялась с шефом, сидела злая, в табачном дыму, да еще по телефону поругалась с Николаем Анатольевичем: ему, видишь ли, взбрендило полететь с Икуловым в Баку.
Услышав эту новость, Татьяна испытала облегчение, но вместе с тем досаду: что ж он так, в Баку? Женщины не любят, когда от них отступаются, будь то сам черт. Но в ней осталась уверенность: мол, с этим-то ясно, только пальцем помани. Хотя зачем это нужно, она сама не знала.
Татьяна работала над сметой, которую уже утвердили два месяца назад, но затем два месяца оспоривали, уточняли, корректировали: потому что подрядчики, естественно, просили прибавить, а заказчики жмотничали. То есть они могли заплатить, но им требовались обоснования. Роль группы, которая работала над сметой – и Татьяна в том числе, – сводилась теперь к тому, чтобы вопреки той смете, которую они сами составили, составить новую и доказать к тому же, что там, где они писали «два», следовало писать «три». Словом, работа гнусная. Но зато как раз сегодня Татьяне предстояло ехать в подрядную организацию, в трест, на Юго-Запад, чтобы кое-что уточнить на месте. (Хотя и это уточнение было фикцией, как и все остальное.) И она, конечно, рада была умотать в Тропарево, лишь бы не сидеть в конторе. Тем более что давно собиралась на квартиру матери, полить цветы, – мать с отчимом, оба биологи, два месяца назад уехали в экспедицию в Киргизию, Татьяна присматривала за их домом.
Квартира у матери – новая, даже новенькая, с иголочки, в модерновом кооперативном доме, совершенно непохожая на их старую, бабушкину квартиру на Земляном, на улице Чкалова: там было тесно, шумно, коммуналка, длинный коридор, дрова. Все свое детство Татьяна спала на раскладушке. На подоконниках, в деревянных противнях, мать выращивала причудливые ростки, в колбах бухли водоросли. Своего отца Татьяна не помнила, он умер молодым, вдали от Москвы. А отчим появился всего семь лет назад, Татьяна уже вышла замуж.
Новая квартира блестела, здесь все перестроили и переделали, как захотели хозяева, и выдержан был один светлый стиль: светлые обои, светлое дерево, минимум мебели, встроенные шкафы. В спальне находилась спальня, в столовой столовая, в гостиной гостиная – само это распределение уже отдавало новизной и роскошью, ибо та же мать полжизни ютилась в одной комнате, которая ночью становилась спальней, в обед столовой, при гостях гостиной. Но теперь Татьяне казалось, что там, на Чкалова, было лучше.
Рабочие кабинеты и лаборатории матери и отчима находились у них в институте, библиотека и архивы на даче, поэтому здесь книги и журналы скапливались лишь художественные, цветы и растения – лишь декоративные. Цветов, однако, держали много, они заполняли подоконники, свисали сверху, стояли на полу.
Татьяна вошла, как в оранжерею, и ее тут же охватила тревога. Цветы кричали, плакали, казалось, бросились ей навстречу. Вот стебель склонился донизу, вот листья тряпками пали по стенкам горшка, вот, как руками, растение обняло пересохший веревочный жгутик, по которому вода поступала к нему из банки, а теперь банка стояла сухой, с дохлой мухой на дне. Закутавшись с головой, будто из берлоги, пыхтели плотоядно одни кактусы.
Как к гибнущим детям, ругая себя, Татьяна кинулась к цветам – поливать, – словно минута могла решить их участь. Бедные, они бессильно плакали, не веря в спасение, безмолвный их крик затих, они погружали себя в воду, как рыбы, они дышали. Проклятая жара. Лишь один-два казались совсем безнадежны, желтизна пробила листья, высушила до ломкости их края. Теперь сухая земля повсюду почернела, в подставках щедро блестела и на глазах исчезала, впитывалась вода. Татьяна поймала себя на том, что без остановки говорит с ними: бедные, бедняжечки, сейчас, сейчас.
Она открыла узкую боковину окна, глядела с пятнадцатого этажа на затянутый полуденным маревом незнакомый город. И высота, и ракурс, и дом – все ново-чужое. В этом Тропареве, носящем такое смешное для города, деревенское название, не оставалось тем не менее ничего хоть чуть-чуть напоминающего деревенскую, деревянную Москву, дух которой еще сохранялся в детстве в Заяузье. Так же как в новом доме матери невозможно отыскать ни одной вещицы из прошлого, ни единой тряпицы или безделушки, от которой бы пахло словом «мама», так и в этом раскинувшемся внизу, по-своему роскошном и вызывающе современном жилом массиве нет ничего от города Землянок, Солянок, Сыромятников, Хитровки.
В прихожей у матери, рядом с парижской акварелью, беломорской иконой и фантастически красивой моделью ДНК, висела увеличенная, под стеклом, фотография Татьяны с двухлетней Маруськой на коленях. Хорошая фотография, удачная, летняя, они обе в сарафанах в горошек, и обе совершенно одинаково щурятся на солнце, морщат носы. Татьяна вдруг подумала, что этой фотографии, этого знака о том, что у нее есть дочь, дочь и внучка, матери вполне достаточно, этим и исчерпываются сегодня их отношения. Впрочем, они всегда были далеки. Мать слишком занята, мать талантлива, посвятила себя науке, а теперь живет заново иную, ничем не похожую на прежнюю жизнь. Чужой мир, с которым и у Татьяны нет, по сути, никакой связи, кроме этой фотографии.
И еще с удивлением глядела она: сколь светлее, тоньше, моложе было пять лет назад ее лицо. И лучше. Глаза лучше, взгляд. Чище, что ли? Шея еще юная, не женская, руки тоньше. Ах, черт возьми! Маруська, дитя, и та казалась тоже лучше и чище, чем сейчас, в этом младенческом, с крылышками, сарафане. Теперь она капризничает: «Что ты мне, мамка, надела, с ума сошла!»
Татьяна заспешила, глянув на часы, обернулась напоследок к цветам. А они уже ожили, успели. И стебель, который оставался склоненным, уже склонялся не так, чувствовалось, выгибал вверх спинку. И листья, лежащие по стенкам горшка, уже не лепились к нему полугнилью, а набухли и чуть отпрянули. И весь мелкий цветочный сад, прямясь и вытягиваясь, беззвучно пел, ликовал.
Однажды в метро Татьяна наблюдала группу глухонемых парней и девушек – одеты, как все, неотличимы от всех. Они кого-то проводили, усадили в вагон и вот, когда двери закрылись, будто побежали, рванули следом, но оставаясь на месте из-за тесноты перрона. И махали руками, кричали, смеялись, выражая море чувств и не издавая при этом ни звука. Так и цветы. Они жили, волновались, некоторые уже и прихорашивались. И они словно бы старались не смотреть в сторону тех двух горшочков, которые пока так и не подавали признаков жизни.
Татьяна сказала цветам на прощанье еще несколько ободряющих слов, обещая не оставлять их больше надолго. И вышла, странно опустошенная и странно обновленная. Хотя это обновление отдавало скорее отчаянием, чем покоем.
В управлении она решила все дела в десять минут и позвонила Астре, чтобы та не ходила без нее обедать: она чувствовала вину перед Астрой, что бросила ее сегодня одну.
И с обеда они уже не расставались. А после работы Астра решила идти к Татьяне ночевать, совсем разобиделась на своего Николая.
Между прочим, в обед, в столовой, им попался на глаза Малыхин. Они стояли с Астрой в очереди, еще с пустыми подносами, а он, уже с полным подносом, отходил от кассы, искал место по залу, поблескивая очками. Очень загорелый, похудевший – должно быть, из отпуска, – в голубоватой рубашке с коротким рукавом – такой прогресс, такая для него вольность, он всегда при галстуке. И все-таки, как обычно, он выглядел чуть нелепо, лишних полминуты толокся на одном месте со своим подносом, как в кинокомедии, и его улыбка, милая и застенчивая, казалась жалкой и даже угодливой. Его не красили к тому же ни залысины, ни очки, ни эта рубашенция, ни брюки, сшитые явно не в Доме моделей. И кажется, на подносе у него стояло сразу два супа, в такую-то жару. Не самый лучший кавалер Малыхин, что говорить, таким не погордишься. Хотя всем известно, что он умный, образованный, безусловно, хороший человек и замечательный работник.








