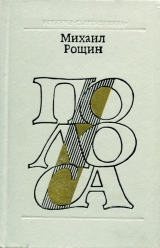
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц)
Полоса
ПОВЕСТИ
«Роковая ошибка»
– Ну чего ты, Надек, пошли! – Бухара попрыгивала на месте, ей не терпелось начать, она поглядывала в сторону станции, откуда метро выбрасывало народ.
Бухара попрыгивала, Ленок затягивала молнию на куртке, Жирафа сделала постное, печальное лицо. Они втроем стояли, а Надька сидела на бульварной скамейке, осыпанной сентябрьским листом, один кленовый лист крутила за длинный черенок меж пальцев. Что-то ей скучно было вступать в игру. Вы давайте, давайте, говорил ее вид, я-то успею, свое возьму.
– Пошли, Жир! – сказала маленькая черная Бухара длинной белесой Жирафе. – Жир!..
И они пошли.
– Ты чего? – спросила Ленок Надьку.
– Да не, ничего, я сейчас… Вон бери, твой! – И Надька показала на мужчину в шляпе, который, выйдя из метро, остановился закурить: поставил портфель между ног, а на портфель торт в белой коробке. Сразу видно: в хорошем настроении, значит, добрый. Ленок тут же послушалась и мягко двинулась наискосок к мужчине, чтобы вынырнуть возле него сбоку. Ленок узкая, как кошка: голова обтянута шапочкой, спина – курткой, зад – джинсами, ножки – сапогами. Нет, не кошка – змейка, змея.
Надька наблюдала издали. Видела, как Жирафа подошла к телефонным будкам, а Бухара к киоскам – там слепились «Союзпечать», «Табак», «Мороженое» и гуще толпился народ. Ленок приблизилась к мужчине. С жалобным лицом, смущаясь, но и чуть виясь, не скрывая своих достоинств, лепетала: «Извините пожалуйста, у вас не найдется пятачка на метро, домой не на что доехать…» Мужчина уже наклонился было за тортом и портфелем и хотел бежать дальше в том же темпе, в котором выбежал из метро, но – Ленок била в десятку – пыхнул дымком сигаретки, вгляделся: та стояла бедной скромницей. Надька услышала веселое:
– Дайте пятачок на метро, а то на портвейн не хватает, а? – Мужчина был еще не старый и говорил громко. Он полез в карман, порылся и раскрыл ладонь с мелочью: – На, держи!.. – Ленок опять вилась, стоя на месте: мол, зачем мне столько? Потом выставила руку. – Держи, держи, сами такие были! – Мужчина подмигнул и побежал беспечно, помахивая тортом. Ленок опустила мелочь в карман, повернула голову к Надьке, подмигнула. «Отлично! – отвечала та взглядом. – Не слабо!»
А возле автоматов Жирафа уныло клянчила двушки у тех, кто помоложе, – вон к такому же длинному, как сама, парню подошла, и тот нехотя отдал ей монетку.
У киосков за мелькающими людьми Бухара, тоже понуро, стояла перед молодым мужчиной, который, видно, на минуту выбежал из дома в одной клетчатой рубахе и без шапки, – он держал в руках, одну на одной, сразу несколько пачек пломбира. Наклонясь к Бухаре, нетерпеливо слушал, потом подставил ей нагрудный карман рубашки, чтобы она сама вытянула оттуда деньги. И она, кажется, взяла сразу бумажкой – должно быть, рубль. Мужчина еще протянул ей брикеты с мороженым, и Бухара – цап! один, а он щелкнул остальными ловко, как в цирке, скрепив их опять давлением.
С этим брикетом Бухара примчалась к Надьке:
– На! – Ее уже охватил азарт добычи. – Видала? – И она в самом деле показала рубль. – Ты-то что?..
– Я не хочу, – сказала Надька про мороженое.
– Ну, а куда его? Ешь! – И Бухара умчалась.
Надька откусила и положила пачку на скамейку. Полезла в карман брюк, достала деньги: рубли, трешки, мелочь – рублей пятнадцать набиралось, – сунула назад.
Не так уж деньги им были нужны – они развлекались.
Посмотрела опять: где кто? Ленок стояла перед интеллигентного вида женщиной, та рылась в кошельке, искала, видимо, пятачок. А от киосков вдруг взметнулся женский высокий голос: тетка с сумкой и с пакетом чистого белья из прачечной кричала вслед отступавшей Бухаре:
– Как не стыдно! Только что просила вот тут у гражданина! Ни стыда, ни совести! – Женщина пыталась привлечь внимание общественности, но общественность реагировала так себе, а Бухара уходила, ввинчивалась в метро, где не вход, а выход. И тут же возникла Ленок, кивнула Надьке и тоже двинулась к метро. За ней Жирафа с округлившимися сразу глазами.
– Какие наглые! – шумела женщина. – Вы подумайте! Все им можно!
Надька бросила без жалости почти целую пачку мороженого в урну и пошла тоже. Нарочно сблизилась с теткой, которую уже все покинули, пробасила:
– Ладно орать-то! Чума! – И нырнула в метро.
Они сидели на лавке на перроне и обсуждали происшествие. Бухара изображала тетку, растопырясь и держа в руках невидимую поклажу.
– А ты кончай, Надек, – вдруг ни с того ни с сего сказала Жирафа. – Мы это… а ты сидишь.
– Да! – Кажется, уж кто бы говорил – тут же прищурила и без того узкие глаза Бухара.
– Да! – сказала и Ленок. – Так не полезно. – И кинула в рот таблетку: она все время глотает разные витамины, знает, что́ полезно, что́ не полезно, у нее мать в аптеке работает.
Надька поглядела жестко в сонные глаза Жирафы, и та тут же стушевалась, нагнула голову в нелепой вязаной коричневой шапке. Ленок и Бухара тоже отвели глаза.
– Ладно! – Надька говорила властно и кратко. – Вон компоту хотите?
Они так сидели, что перед ними мелькали только ноги и сумки прохожих. Народу было уже не так много. Надька кивнула вслед женщине, которая несла в авоське три банки венгерского «глобуса».
– Компоту! – ухмыльнулась Бухара, намекая на невыполнимость задачи.
– Компот – это полезно, – одобрила Ленок.
– Ну, на́ спор? – сказала Надька, уже неотрывно глядя в спину женщины с компотом, и повторила любимое свое словечко: – Чума…
И вот они вошли в вагон. Женщина – высокая, белокурая, усталая, обе руки заняты – с облегчением увидела, что есть место, села, одну сумку, матерчатую красную, поставила у ног, другую, сетку с банками, – на сиденье рядом с собой. И попала взглядом на Надьку, та опустилась рядом.
Надька еле слышно всхлипывала, утирала слезы. Вроде тайком, не напоказ.
– Девочка!
Надька отворачивалась с таким видом, что, мол, кому до меня дело.
– Девочка, ты что? Что-нибудь случилось?..
Люди со стороны поглядывали с любопытством, но поскольку женщина с компотом уже занялась девочкой, тут же поостыли.
В соседнем вагоне, таясь за торцевым стеклом, маячила кудрявая, теперь без шапки, голова Жирафы.
– Ну скажи. Ты откуда?..
– Ниоткуда! – со всхлипом отвечала Надька.
– Ну? – Женщина протягивала к ней свою добрую руку. – Ну? Кто тебя?..
– Да ну ее!
– Ну кто, кто?
– Да мать! Я у нее приемная, так она хуже мачехи… домой не пускает, я уже второй день… – Надька била сразу из крупной артиллерии. И поглядывала на компот, невольно отвлекая взгляд женщины на сумку. – Совсем уж! И никакой управы на нее нет. Чума!..
– Ох, боже мой! Как же так? А родная мать?
– Да бросила! Сама на Дальнем Востоке.
– Как бросила?
– Да так! Как бросают!
– Ой, боже, боже! А ты учишься, работаешь?
– Учусь. В хлебопекарном. Да она и в училище придет, будто помои на меня выльет: такая я, сякая, а сама…
– Господи, что делается на свете! – уже вовсю жалела Надьку женщина, а Надька только махнула рукой: мол, что уж тут говорить. А сама не сводила взгляда с компота.
– Может, тебе денег немножко?..
– Ну что вы, спасибо, я не возьму. – И не было сомнений, что эта бедняга девочка не может взять у незнакомого человека деньги. – А это что у вас? Я таких банок сроду не видела.
– Да ты что? Это компот венгерский. Как не видела?
– Да не видела, где я увижу?
– Боже мой!.. Дать тебе?
– Зачем? Я не возьму.
– Да ну что ты! Возьми! – Женщина уже запускала руку в сумку и доставала банку. – Возьми, ерунда – компот. – Она рада была хоть чем-то помочь бедной девочке и тем, кстати, выйти из положения.
– Вам тяжело, я вам помогу нести, – сказала Надька светлым ангельским голосом, уже как бы в компенсацию за явившийся наружу компот. Она без зазрения совести глядела в доброе, усталое и блестевшее от усталости, словно от крема, лицо женщины и боялась даже покоситься в сторону, где за стеклами соседнего вагона уже готовился, конечно, взрыв восторга.
И вот холодная банка в руках у Надьки, женщина еще что-то говорит, сердобольно на нее глядя, но поезд тормозит, пора. На перрон вылетают девчонки с воплями, и Надька выскакивает к ним.
– Компот! Компот! Надек-молоток!
Надька победно подняла банку компота – словно кубок.
Перебежав перрон, они влетают во встречный поезд.
Вагон полупуст, сидят поблизости две железнодорожницы с набитыми сумками, тетка с тазом в мешке, молодая женщина в очках с книгой, другая женщина с мальчиком лет восьми. Влетев, Жирафа цепляется двумя руками за поручень, виснет на нем, а задача других – оторвать ее, повалить.
– Гроздь!
– Гроздь! Гроздь!
И все кидаются, тоже виснут, орут.
– Гроздь!
Оторвали Жирафу, повалились на сиденье с воплями. Полный восторг.
Надька и Ленок поднимались по лестнице на последний, пятый этаж старой пятиэтажки без лифта. Дурачились, висли на перилах, приваливались к стене.
– Сейчас поесть чего-нибудь! Я ужас как! А ты, Лен?
– Не полезно на ночь.
Да, Ленок красавица. У нее манера. Надьке против нее куда! С кургузой своей фигурой, широкой мордой, прямыми дурацкими волосами. Когда они остаются одни, то Ленок сразу берет верх, а Надька теряет всю свою власть.
Надька открывала своим ключом дверь, дверь не поддавалась.
– Заперлась, дура! – Надька нажала звонок, и звон хорошо был слышен внутри квартиры. Дверь не открывалась. Надька нажимала еще и еще. – Ну!.. – Она опять выругалась, повернулась и стала стучать в дверь каблуком.
И вдруг из-за двери:
– Не стучи! Не открою!
– Открой, ты чего?!
– Не открою! Иди, откуда пришла!
– Открой! Видала, Лен?.. Вот чума!.. Открой, я здесь с Леной!.. Мамка Клавдя!
– Хоть с чертом! Тебе когда сказано приходить?
– Открой! Сейчас дверь расшибу!
– А я вот милицию, она тебе расшибет!
Ленок сразу заскучала:
– Я пойду, Надь.
– Стой! Я сейчас!.. – И Надька стала еще пуще – от стыда перед Ленком – колотить и орать: – Открой! Открой!..
У соседей напротив уже глядели через цепочку. Ленка кинулась вниз по лестнице. Бедная мамка Клавдя уже не рада была – гремела замком, отпирала, а Надька билась о дверь, стучала кулаками в ярости, но без слез.
…Выходит, в дом-то ее и правда не впускают.
Из холодильника Надька достает банку лосося, за нею банку сгущенки. Обе банки ловко вспарывает на дешевой клеенке кухонного стола. Тут же полбатона белого, тут же видавший виды «маг», который испускает свои «лав», «лайк», «гив», «май». Это очень интересный «маг»: передняя крышка с него снята, задняя тоже, и видно все сложное, на схемах и в цветных проводах, нутро аппарата.
Надька сидит одна за столом, ест. А за спиной ее – всхлипывания, сморкание, кашель и бесконечный монолог, каждый день Надька его слышит.
– Ну змея выросла, свет не видывал! Во, возьмет банку лосося и уговорит одна всю! Ей что! Мать болеет, мать того гляди помрет как собака, воды некому подать будет, – да черт с тобой, кому ты нужна, она только рада будет – наконец место освободила, слава богу! И жилплощадь теперь вся наша, води сюда всю банду свою, гуляй!
Кашель только и останавливает мамку Клавдю, она чуть не плачет от жалости к себе, на самом деле представляя, как это она помрет, а Надька тут же наведет своих подружек и будет здесь безобразничать, прогуливать нажитое.
Надька, разумеется, и ухом не ведет, нарочно громче делает музыку, хотя, конечно, все слышит и про себя еще мамке Клавде и отвечает кое-что не больно вежливое: губы шевелятся.
– Бесстыжая, больше никто! – продолжает мамка. – Уговорит хоть три банки зараз, сгущенки налопается, и плевать ей, откуда ты, мать, взяла, где у тебя денежки удовольствия ей справлять. Одни удовольствия, одни удовольствия им подавай: поесть вкусно, да танцы, да кина, – вот вам и вся жизнь! Откуда паразиты такие только повыросли!
Опять кашель, опять вызов: мол, ну, ответь, ответь, я тебе еще тогда не такое скажу, но Надька молчит, и мамка Клавдя переходит к самому больному месту:
– А какая девочка была, два годика, куколка, звездочка! У нас с хлебозавода Нюрку тогда выдвинули, она со мной сама лично ходила в детдом, хлопотала, я год ждала, чтоб подобрали девочку получше, чтоб у ней хены не срабатывали далеких предков, – нате вам, дорогой товарищ Шевченко, вот оно выросло! Откудова только набрали таких хенов в один организм – вот что страшно-то! А выдали-то? Толстенькая, в белом платьице, волосики вьются прям локонами, глазки, как у куколки, открываются, так и сияют – ангел! Вот он, ангел!..
Тут не выдерживает мамка Клавдя и ревет.
Выходит, Надежда и насчет детдома не врала женщине с компотом… Историю про себя маленькую она слушает с интересом: все мы любим, когда нам о нас же рассказывают.
А мамка Клавдя продолжает:
– А ручки-то крохотулечки, пальчики тепленькие всегда, горячие, как возьмешь в свою рабочую лапищу-то нежность этакую, заплачешь, ей-богу, заплачешь. Сидит, бывало, в ванночке, ручонками шлеп-шлеп, резиновым крокодилом шлеп-шлеп. Ма-ма!.. Что, моя жданочка, что, моя звездочка?.. Ну, слезы, слезы, не нарадуешься, откуда ж счастье-то привалило тебе, дуре одинокой, – так и плачешь над нею, крошечкой, и сама-то сирота выросла, фашист все пожег, всех загубил, с пятнадцати лет в городе на работе, сначала камни растаскивали, цельные улицы разбитые, а потом, спасибо, на хлебозавод определили… И откуда, – тут опять высоко поднимается мамкин голос, – такое-то, зачем только растут? Так бы и засахарить их крошками-то! А то ведь кто выросло! Кто? Черт ядовитый, больше никто! Вот и вся куколка!..
(Ну и переходы у вас, мамка Клавдя, ну и переходы!)
– Мать в гроб вгонит – и порядок в танковых частях, это ее мечта-то и есть! Ну? Все? Отзавтракали, ваша величество? Хоть банку бы за собой выкинула, привыкла: подай, принеси, всю жизнь выносить за тобой матери!..
И – не выдержала Надька, заорала:
– Замолчи! Какая ты мне мать? Чума!
«Маг» в играющем виде сунула в кустарную холщовую сумку, кота Сидора отбросила ногой, об которую он терся, по столу стукнула так, что банки подпрыгнули и повалились. А мамка Клавдя этого и ждала.
– Ах, не мать! Катись! К своей катись! Она вон завтра явится, пусть берет тебя к черту! «Прилетаю завтра рейсом…» Прилетает она, ведьма летучая!.. На вот, встречай иди! И глаза б мои вас больше не видали! – кинула Надьке телеграмму и зарыдала, пошла багровыми пятнами.
Бедная мамка Клавдя! Плюхнулась на табуретку в своей пятиметровой кухне, подперла голову, некрасивая и нескладная, как кривое дерево, – передовица своего хлебного производства, уважаемая работница, а тут, дома, никто, «дура старая», каждый день одни обиды – конечно, за душу возьмет. Да еще э т а приезжает – нет, к сожалению, в нашем языке такого слова, которое бы определило это понятие – мать, которая родила, но не воспитывала своего ребенка. Как назвать такую: родительница, рожальница, детородница, производительница?
Мамка на кухне кашляет и плачет, Надька в ванной закрылась, кот Сидор банкой из-под лосося по полу гремит.
А вот, пожалуйста, кинохроника – расширим границы нашего повествования прямо до Дальнего Востока – кинохроника: синее море, белый пароход, синее море, Дальний Восток.
Плавучий рыбный завод. Лебедки заносят над трюмами тугие от рыбы пузыри сетей. Как серебристая мелочь, сыплется рыба и мчится по мокрым транспортерам в разделочные цеха.
Крутятся механизмы, дымят котлы, щелкают и гудят автоматы. А вот и банки из-под лосося. Вернее, для лосося. Они тарахтят, заполняя длинные столы. А вот и руки, которые укладывают в банки разделанную рыбу. Это женские руки. Две руки, четыре, шесть, сто, двести. Гигантский цех, сотни женских голосов. Голос диктора сопровождает эти кадры бодрыми словами о перевыполнении плана, комментатор берет интервью у бойкой белозубой рыбоукладчицы. И опять рыба, сети, автоклавы, банки с нарядными наклейками…
И на этом фоне начинается еще один монолог, тоже женский. Но женщина теперь иная: крепкая, широколицая, хорошо одетая (жабо белой японской блузки), причесанная в «салоне». Разговор идет с соседкой по самолетному креслу: лететь далеко, можно обо всем на свете переговорить.
Стюардессы разносят обеды, женщины едят, подставляют пузатые стаканчики, в которые им наливают вино, обе оживлены, свободны, веселы: полет, еда, разговор, мужские взгляды – жизнь!
Смеются.
– Чего бы покрепче! – Будем здоровы! – Смотри, икру дают! – Глаза б мои на эту икру не глядели!
– …Ну вот, – продолжает свой, видимо, издалека начатый разговор мамка Шура, так ее зовут в отличие от мамки Клавдии, – живу как сыр в масле, грех жаловаться, а ведь все сама, всю жизнь вот этими руками – видала такие руки?
Она показывает руки, и они поражают своей шириной, толщиной. Такие руки бывают только у работниц рыбзаводов, разделочниц и укладчиц, кто имеет дело с рыбой, крабами, креветкой: рыба и соль разъедают натруженные руки, они пухнут, раздуваются – это профессиональное заболевание. Вернее, даже не заболевание, а результат, признак именно этого труда. Как мозоли у плотника.
– Я его любила без памяти, – рассказывает Шура, – я за ним на край света пошла в буквальном смысле: взяла да прилетела к нему на Камчатку. А мне еще восемнадцати не было. Мы десять лет безразлучно на одном судне плавали, я все навсегда позабыла. У меня мама померла в Воронеже, я только через три месяца об этом узнала. Он краба ловил и креветку, корюшку, лосося, он у меня рос год от года, его весь Дальморерыбопродукт знает, мы с ним два года в Сингапур ходили, – видишь, у меня шмотки – импорт, фирма́, мы на двоих такую деньгу заколачивали, мама родная, не приснится! Тем более он молодым сроду не пил, только трубку курил да книжки читал. Как я его любила – это роман, ей-богу, если описать, одно счастье и счастье было у меня в жизни, больше ничего. Не расставались нигде!.. Ну и куда мне было с дитем, подумай? Сама еще девчонка, все в самом разгаре, один он у меня в голове, – и вдруг на́ тебе! Как я пропустила, не поняла по неопытности, а потом хвать – поздно! Вот это была моя самая р о к о в а я о ш и б к а в жизни! Ей-богу, я всегда так и говорю: «Надька – ты моя роковая ошибка!..» Да уж, видать, так устроено – за все расплачиваться. А ребенок значил конец всему: в плавание с ним уже не уйдешь, разлучайся, значит, на семь-восемь месяцев, он в море, ты на берегу – это все. Там таких, как я, на плавбазе еще четыреста пятьдесят, а он как выйдет с трубкой, глаз прищурит и по-английски: ду ю уот ис лэди дуинг ивнин тудей? И – отпад, любая тебе лапки кверху… Как мне его было оставить?.. Да где оставить! В слабость кидало, если я полдня его не вижу, не дотронусь хоть вот так. Я ни одного дня и ни одной ночи без него не жила. Нет, не опишешь!.. Короче, он даже не узнал ничего. Я вроде мать навещать уехала, она еще жива тогда была, все болела, а он в Ленинграде был на курсах повышения, и я с ним. Я так подгадала, что на три месяца нам расстаться, – господи, выживу ли?.. Ну, подгадала, чего только не делала врачиха, Ирина Петровна, век ее не забуду, такое золото попалась, я полтора суток в родилке, чуть не померла, она меня не бросила. Я ей-то все и рассказала потом. Роковая, говорю, ошибка этот ребенок, загубит он всю мою жизнь. Я даже видеть ее не хотела, представляешь, какая злая была. Кормить отказалась. Меня спрашивают, какое имя дать девочке, я молчу. Какое, говорю, хотите, такое и давайте. Ну что ты хочешь, мне двадцать лет, ни кола ни двора, а в голове только он! Он меня в Ленинграде ждет, а я что ж, с дитем на руках к нему явлюся? Он и так все спрашивал, что со мной, а я – ничего да ничего. Чтоб он фуражечку вот так, честь отдал и гуд бай, леди?.. Короче, пиши, говорит Ирина Петровна, заявление и забудь навсегда, что была у тебя дочь, глаза б мои на тебя не глядели! Четвертый, говорит, случай у нас, будьте вы прокляты, такие матери!
Стюардессы собирали обеденные подносики, мамка Шура обтерла свое крепкое лицо и твердый рот мокрой бумажной надушенной салфеткой, подкрасила снова губы, закурила «Мальборо» и продолжала, не могла остановиться, историю свою и своей дочери:
– Знаешь, вот сейчас говорю и будто про кого-то другого говорю, будто то и не я была и случай этот не со мной. Как сон или под гипнозом я каким находилась, ну ей-богу! Человек, говорят, весь целиком за семь лет меняется. Так я, выходит, с тех пор два раза переменилась. А было, знаешь, время, что я вроде и забыла про это. Нету. Не было. А чем дальше, тем больше мучить стало. И Николаю рассказала, не смогла, лет, может, через пять или шесть как-то под горячую руку. Он потом спрашивает – умный он у меня, понял: неужели, говорит, ты меня так любила, что ради меня ребенка нашего бросила? Ну и сам сказал: надо, говорит, ее найти. А где, как? Я стыдилась, да и не хотели нам говорить. Ирина Петровна сама в Сирии три года работала, я ее ждала, к ней потом поехала, во Львов. Ну, найти, говорит, можно, но зачем? У девочки другая семья, мать другая, вся жизнь другая. Мы с Николаем говорим: ну мы хоть издалечка поглядим. Нет, говорят, не мучайтесь и других не мучайте. Я говорю: Коля, если ты так ребенка хочешь, я тебе рожу. И тут он отвечает: нет, еще поплаваем, я без тебя тоже не могу. Вот такая судьба…
Соседка уже почти дремала, глаза ее хлопали, закрывались и открывались, что доказывает, кстати, нашу уже некоторую привычку к подобным историям, невосприимчивость.
– Ну и что же, – спросила соседка, торопя развязку, – так ты ее и не видела, дочку?
– Я-то? Я да не увижу! – Шура твердым жестом гасила сигарету в подлокотнике, глядела на кипень белых облаков за окном. – Каждый год вижу. Мы договорились: у той матери не забирать, ладно, хоть и проку там мало, одинокая всю жизнь, на хлебозаводе работает, одна тупость, но теперь… – Шура прищурилась. – Помогать мы все время помогали, и сейчас полный чемодан ей везу… Нет, теперь все не так…
Что́ именно «не так», Шура не договорила.
– Ох, господи, чего на свете не бывает! – сказала соседка и зевнула. Она, должно быть, ожидала некий более страшный конец истории. – Может, поспим часок? В сон клонит, прям не могу.
– Да, спи, спи, конечно, – сказала Шура. – Спи.
– А она-то к тебе как? – еще поинтересовалась соседка.
– Кто?
– Дочка.
– Дочка? Нормально.
– Ну и все. Что душу бередить, она теперь уже считай выросла.
– Это да.
Соседка откинулась, уже откровенно закрыла глаза. А Шура отвернулась к окошку.
Там сверкающие облака стояли внизу, как белое море.
И вот закачались на белом, как в мультяшке, черные сейнеры. Закачалась черная матка-плавбаза. И подул ветер, зазвенели снасти.
И покатилась опять рыбацкая хроника: женские молодые лица под капюшонами, твердые морские фуражки, лебедки с пузатыми тралами. Ручьями льется рыба. Речушками. Реками. Серебряный поток. Золотой… Потом это превращается в брикеты мороженой рыбы. Вот холодильные камеры. Трюмы рефрижераторов. Мощные автофургоны. Наклейки. Клеймы. Подписание торговых соглашений. Аплодирующие друг другу внешторговцы.
Сейнер мотает на волне, и вода перелетает через него, как через поплавок. Игрушечный кораблик в ванночке. Дитя, сидя в воде, лупит по воде корабликом. Рыба идет стаей.
…Не соврала, выходит, Надька и про Дальний Восток.
Гонит ветер корабликами сухие листья по тротуару, и они не шуршат, а гремят, как жестяные. Осень стоит сухая, солнечная, но сегодня вот ветер сорвался, бегут облака, и сразу нервно и неуютно на душе.
В районе, где живет Надька, все как в маленьком городе: дома не выше пяти этажей, мостовая еще булыжная, по узкой улице летит трамвай, сотрясая маленькие дома с геранями на подоконниках. Целый пролет меж двумя остановками занимает красная кирпичная стена старинного завода, где делают теперь холодильники, и длинные высокие окна забраны железными решетками. В окнах горит дневной свет, и больше ничего не видно.
Надька не села на трамвай, идет пешком вдоль заводской стены. На той стороне – домишки, деревья, заборы, вон детская площадка, давно ли Надька сама качалась там до одури на железных качелях, а теперь мотается с утра пораньше девчонка в голубой пуховой шапке, и качели визжат так же, как десять лет назад.
А там, за облетевшими кривыми липами, старинное здание школы. Надька ее не любит, школу, ничего хорошего не вспомнишь. Училась она плохо, была упряма, учителям грубила. В пятом классе хотели оставить на второй год, да мамка Клавдя пошла плакать, упрашивать, Надьку оставили, но с тех пор она не могла больше и х в с е х терпеть – за то, что одолжение сделали.
В школе учился один знаменитый летчик, построена она была еще до войны, но все это не интересовало Надьку, и она не понимала, что это значит, «до войны».
За каменным сараем двое девятиклассников передавали сигаретку один другому по очереди.
– Эй, Белоглазова! Здорово!
– Привет!
– Как живешь? В ПТУ топаешь?
– В МГУ! Захохотали.
– А у нас Марь Владимировна на пенсию ушла, слыхала? Помнишь, как она тебя?.. – Хохочут. – Возвращайся теперь, Белоглазова. У нас мемориальную доску открыли. Имени летчика Солнцева.
– Нужна мне ваша школа! – говорит Надька и отворачивается, а ее бывшие однокашники, затоптав наконец свою сигаретку, мчатся к школе, размахивая портфелями.
Она тоже явно опаздывала в училище, но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывала – ну опоздает, ну и что? Пусть спасибо скажут, что вообще пришла. Потому что это училище, эта учеба – тоже – зачем?..
Вот стоять просто, и глядеть, и слушать, как несет ветер листья, как они скользят по асфальту, остановятся вдруг, а потом опять – загремели, понеслись, не хуже трамвая…
В железных чанах железные кривые руки-шарниры месят тесто. Гудит черно-белый тестомесильный цех. Стайка девочек в белых шапочках, в халатах, узко стянутых на талии, с тетрадками в руках, записывают на ходу лекцию, которую читает им прямо на месте преподавательница училища, – училище находится здесь же, при заводе.
Долетают слова: «Вымес продукции производится автоматами типа… выпечка хлеба в нашей стране достигла сорока миллионов тонн в год…» Преподавательнице Ирине Ивановне лет тридцать пять, у нее прямая стрижка, очки, вид самый обыкновенный. А Надька ее не любит. За что, сама не знает. Надька тоже в белом халатике, в колпачке, с тетрадкой – и Ленок с ней, и Бухара, – смотрит на Ирину Ивановну, суживает глаза: мол, говори, говори, я все равно не слышу.
Девчонки шушукаются, смеются.
– Девочки! – говорит преподавательница. – Ну что вы все смеетесь? Ну что вам все время смешно? – И глаза ее вдруг наполняются слезами.
– Чего это она? – шепчет кто-то.
– Депрессуха, – острит Бухара.
Ирина Ивановна оборачивается прямо на Надьку. Взгляды их встречаются. Казалось бы, в глазах девочки должны быть неловкость, сочувствие. Нет, у Надьки вызывающий, скучный, безжалостный взгляд.
Группа движется дальше. Механические руки месят и месят тесто.
Бухара дергает Надьку за халат: отстанем. Она запускает палец в тесто, пробует и корчит рожу. Они в самом деле отстают, шмыгают на лестницу, спускаются на один марш и останавливаются у автомата с газированной водой. Как не попить бесплатной газировочки, хоть и несладкой. Бухара пьет жадно, Надька нехотя.
И вдруг – мамка Клавдя. Она тоже в белом халате, краснолицая, потная.
– Вот они где! Здрасьте! – Мамка Клавдя отходчивая, а за работой вовсе забылась, и теперь тон у нее такой, что вроде ничего и не было накануне. – Надь! Ты не забыла? – Она тоже ополаскивает стакан, пьет. – Ты не уходи, я с ей одна сидеть не буду… Слышь?
И тут сверху, с лестницы, слетает белыми халатами опять вся группа.
– Газировочки! Пить! Давай!
– Надь! Надь! – перекрикивает всех мамка Клавдя. Надьке неприятно, что эта некрасивая, нескладная работница имеет к ней отношение. Хотя большинство девчат, конечно, мамку Клавдю знают. Но Надька демонстративно не слышит. И только хуже делает: высокая и толстоватая отличница Сокольникова Люся толкает Надьку в плечо:
– Тебе говорят, не слышишь?
– Что? А тебе что? Ты кто такая?
– Никто. Чего ты?
– А чего хватаешь? Больше всех надо?
– Да ты сама-то кто?
– Я?
Надька – сплошное презрение, а сбоку уже подтягивается Бухара. Ленок делает вид, что ее это не касается. Но тут сама мамка Клавдя вступает:
– Вы чего? Надя!.. Я кому говорю-то!
– Да отстань, слыхала я! – отсекает ее Надька и продолжает с Люсей: – Я – кто? Ты не знаешь?
Сокольникова отворачивается, а другая девушка, пучеглазая Виноградова, заслоняет ее и говорит Надьке:
– Опять нарываешься? Чего ты все нарываешься?
– Девчата, вы что это? – шумит мамка Клавдя. – Вы чего? Вы это тут бросьте! Вы на производстве! Вы у хлеба находитесь! Хлеб этого не любит! – Она явно обращается к девушкам, которые ни в чем не виноваты, и выгораживает Надьку. – Вы тут не на улице!
Сверху спускается Ирина Ивановна.
– Здрасьте, Клавдия Михална! Что тут такое?
Прямо такое почтение, куда там!
– Да это ничего, ничего, – начинает объяснять мамка Клавдя. Надька не слушает, кривится и идет в сторону. – Надьк! – несется ей вслед. – Сразу домой, поняла? Я с ей сидеть не буду!
Надька красуется перед зеркалом в новом тонком белом свитере, в светлом комбинезоне. Рядом другой свитер, зеленый, натягивает на голое тело Ленок. Шнурует на ноге кроссовку Бухара. Вещи, вещи, вещи. Из раскрытого чемодана парящая надо всем Шура вынимает еще нечто яркое, сине-белое.
– А это вот Клавдии Михалне!.. Михална, ну-ка!
– Чего это? Чего? – бросаются от своих обнов девчонки.
– Мне? А мне-то зачем? – Мамка Клавдя туго краснеет. Но ей уже дают сине-белое в руки, ведут, заставляют примерять, надевать, и оказывается, это кофта в крупную полосу, белую с синим, как тельняшка. – Господи, куда это мне такое? – Но сама еще пуще рдеет, глядится в зеркало – видно, что ей нравится.
– Уж не знаю, угодила ли, старалась, – не закрывает рта Шура, – у нас теперь товаров очень много, японских, сингапурских, каких хочешь. Ой, Михална, ну ты у нас невеста!
Они говорят, между прочим, все вместе, все разом, и все друг друга слышат. Мамка Клавдя так и ходит потом в новой кофте – ставит на стол тарелки с нарезанной колбасой, с сыром, – стол уже и без того уставлен, накрыт, торчит на нем бутылка вина.
– Надь, ну продашь мне этот зелененький-то, Надь? – страстно шепчет Ленок про пуловер, который остался на ней после примерки и облегает ее тонкую спину и талию.
– Ну отличные! – топочет кроссовками Бухара. – Ну отличные, Надь! Только они тебе малы будут!
– Чего это малы, чего это малы? – отвечает Надька и сразу же Ленку: – Ну чего это продашь-то, Лен? Мне самой хорошо. Я тебе потом дам. Поношу – ты поносишь.
– А вот еще, Надь! – кричит Шура, извлекая из чемодана платье. – Поцелуй хоть мать-то, спасибо хоть скажи!
– Спасибо! – кричит издали Надька, а сама усмехается.









