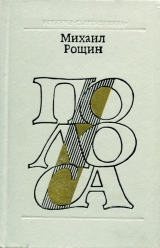
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Они переглянулись с Астрой, прыснули, как школьницы. Малыхин их не видел.
Астра, кстати, ничего не знала о том случае с Малыхиным. И никто не знал. А уж Малыхин – она была уверена – не скажет об этом никогда. Неужели она скрыла это даже от ближайшей подруги лишь потому, что это Малыхин? Была бы какая-нибудь знаменитость, красавец, их зам. генерального Тифенберг Андрей Иоганныч, неотразимый мужчина, по пять месяцев в году шастающий по заграницам, переспать с которым у всех секретарш считается делом чести, то и ничего? Так, например, что ли? Пошлятина, пошлятина.
Она припомнила то время, когда Малыхин целыми днями крутился у них на этаже, все смеялись над его влюбленностью, а она раздражалась и досадовала. Но когда понадобилось, пошла именно к нему.
Мимолетная эта встреча ничего не означала, впечатление от нее застыло без обдумывания, без развития. Просто было зафиксировано: Малыхин. Загорелый, в рубашке-тенниске. И все. Мушка пролетела и качнула паутину, больше ничего.
Как они пировали в тот вечер с Астрой! Уж они отвели душу. Устроили праздник для пуза и для души. Закатили ужин – какой пожелали. Это называлось – разгрузочный от диеты день. Каждая жрала то, что любит и сколько захочет. Была здесь и жареная картошка, и яичница, и соленая рыба, и белый хлеб с маслом, и ветчина, и помидоры. И белыми корками вымакивали сметанный соус из-под салата, и зажарили на ночь глядя, с ума сойти, купаты. Кофе пили сладкий, с пирожными – специально заходили на Новый Арбат в кулинарию. Потом Астра дула свой любимый с девичества кагор, а Татьяна рислинг со льдом.
Чего они только не делали и кому только не перемывали косточки. Смотрели телевизор и поливали на чем свет стоит всех, от дикторш до президентов. Гадали на кофейной гуще и на картах. Примеряли шмотки и менялись, хотя Астра была в полтора раза ниже и толще Татьяны. Прокляли свою работу, оффис, шефа и красавчика Тифенберга заодно. Они выяснили, что все мужики дерьмо, и их собственные в том числе. Они красили ногти. Пели. Снова ели и пили.
Астра говорила и говорила, со страстью, как все она делала, и выпучивала глаза, и плевалась дымом. О, она поднялась сегодня высоко, и язвительный ее ум служил ее плохому настроению. Мир и природа – хаос и случай, жестокость и несправедливость. Мы ни черта не смыслим, а сама смерть стережет нас каждую минуту за каждым углом и смеется над нами. Все условно, нравственность – самообман, лишь щит от ужаса, который охватил бы нас, взгляни мы в лицо правде. Толстая и несчастная, со злыми слезами на глазах, Астра пыхтела из дыма, что умный человек поэтому поступает так, как ему удобно с е й ч а с, а иначе он лжет или дурак.
Татьяна слушала, поддакивала (она перед Астрой была, как Таська перед ней самой), хотя понимала: Астра говорит о том, о чем им обеим сейчас нужно и хочется услышать: о дозволенности. Мол, все к черту и делай, что хочешь.
Но если вспомнить, совсем недавно (после одного фильма, который они побежали смотреть, соблазненные шумной рекламой) Астра говорила совсем другое. Раздуваясь лягушкой и брызжа слюной, она с такой же яростью крушила авторов современной Анны Карениной, которые доказывали, что женщина имеет право на свободу, на порыв (и даже на два порыва, если захочет). Т о г д а Астра кричала, что все всё запутали. Трактуют освобождение женщины от неравенства с мужчиной, равняясь почему-то на мужчин-кретинов. Как будто все мужчины, поголовно, только и делают, что врут и изменяют. И следовательно, бабам надо поступать так же. И многие так и поняли это освобождение: как освобождение от долга, материнства, женственности, жертвенности и, главное, от верности. Как удобно ленивым и тупым телкам! Каждый каприз, прихоть, говорила Астра, то есть то, с чем человеку н е о б х о д и м о бороться в себе, чтобы не обратиться в животное, возводится в мерило свободы или несвободы, в доблесть, в категорию нравственного, а не безнравственного. Запутали, забыли, что Анна Каренина под поезд кинулась от всех своих радостей. Все в полет в какой-то манят. Тут полет, а там проза. Тут змий с яблочком, а на этой чаше тарелка супа. (Как будто все полеты все равно не кончаются тарелкой супа!) И отчего же проза, хрипела Астра, хуже стишка? Она не хуже, да только читать надо уметь.
И т о г д а Татьяна была полностью согласна с Астрой – о недозволенности, – как и т е п е р ь согласна – о дозволенности. Отчего? Оттого, что сегодня х о т е л о с ь позволить? И только? И для этого один закон нужно было сменить на другой?
Все кончилось тем, что Астра разревелась. Мол, она устала, у нее базедка, печень, ей тридцать пять, а она чувствует себя старухой. Ей опостылела работа, она вообще не любит работать, а любит дом, готовить, печь печенье. Почему? Почему она не может сидеть дома и печь печенье?..
Татьяна уложила ее и готова была разреветься сама. Потом лежала без сна, измученная, раздутая от жратвы и питья, возбужденная крепким кофе, маялась. Вслед за Астрой она еще курила сигареты – пальцы и волосы раздражающе воняли дымом, она растирала на пальцах духи. А от духов стало душно, пришлось идти мыть руки. А поднявшись, она принялась за посуду. Потом бросила, вернулась.
Астра храпела в другой комнате, смотреть на нее, спящую с открытым ртом, было неприятно, и сердце сжималось, как подумаешь, что Астре тоже хочется ласки, красоты, любви, утонченности. И не тоже, а ей особенно, потому что она умна и способна оценить то, чего другие оценить не сумеют. Господи, как жалко всех женщин на свете, и всех людей, и себя!..
Ей опять чего-то хотелось, куда-то влекло. Примерещилась бабушкина квартира на Земляном, Жора, Маруська. В девчонках, в юности, вспомнила она, тоже было трудно: она росла дичком, страдала от патологической застенчивости. Однако в длинном коридоре, за шкафами, шалавый мальчишка Борька Липовский, сосед, прижимал ее и тискал, когда им было по четырнадцать лет. Стыдно признаться, но она сама, случалось, поджидала Борьку за шкафами, чтобы он схватил и прижал, молча, не глядя, жарко дыша.
Своего Жорку она вспоминала таким, каким он был в год их встречи, их свадьбы, любви: они уносились на его мотоцикле в Серебряный бор, в Кусково – это были места их юного супружества, медового лета.
Видения сменяли друг друга – под храп Астры, под куранты Киевского вокзала, под ночную гонку самосвалов, и ей грезился еще некий образ, незнакомец, обаятельный и прекрасный, которого она встретит. Он посмотрит и все поймет, возьмет за руку и все почувствует. Его взгляд пронзит и согреет, его улыбка умиротворит навсегда. Он уйдет потом, не останется с нею – это было бы слишком хорошо, – но то малое, что он ей даст, станет для нее огромным, потому что будет дано вовремя, – и хватит ей надолго.
Она успокоилась и вроде бы уже засыпала, как вдруг – куранты уже пробили половину третьего, и небо осветлело над вокзалом – села на постели и даже спустила ноги на пол, отчетливо зная, что нужно сделать. Сейчас, сию минуту. Это было ясно, как день. Вон телефон. Надо только унести его в прихожую или закрыть дверь, чтобы Астра не услышала. Никаких незнакомцев, обаятельных и сказочных, журавлей в небе. Она должна позвонить Малыхину. Да, прямо сейчас. Ма-лы-хи-ну. Смешному, нелепому, такому-сякому Малыхину. Это то, что у нее есть. Наверняка. Это ее. Она верит в этого человека больше, чем в мать или дочь. Он будет таким, как ей нужно. Со словами или без слов. С продолжением или без. С улыбкой или слезами. Он будет счастлив, если она придет. А ведь так хочется осчастливить, отдать – в конце концов, она рождена, чтобы отдавать, чтобы осчастливливать.
Она ничего не вспомнила, не позволила себе – лишь его подъезд, в Измайлове, они подъехали вечером, зимой, на такси, дом выходит прямо на Первомайскую, где хозяйственный, слева от метро. Она бы нашла.
Все отчетливо и просто: вот телефон. Она м ы с л е н н о набрала номер (оказывается, помнила всегда – на всякий случай) и услышала заспанный, но сразу же настороженный, внимательный голос: ведь он тоже знает, к т о может ему позвонить. Она мысленно молчала в трубку, прикрыв пальцами микрофон, чтобы не дышать в него, и на том конце молчали и ждали. Он не клал трубку, и она не опускала. Она знала, что он понял. А она поняла, что он ждет.
Она сделала этот звонок в своем воображении, и настолько отчетливо, даже устала от напряжения, – будто на самом деле позвонила. Не позвонила, а все-таки позвонила… Разве не позвонила?..
Били часы, небо светлело, она спала.
А утром снова был дом, посуда, город, желтые катки на мостовой, жара, а вечером телевизор, Таськины песни и Таськины стоны на седьмом, скука, и тек, тек до самого своего конца месяц июль, тяжелый, будто каторжное ядро, прикованное к ноге. Но вот упал наконец с неба Жора, свалился из внуковских небес, стройный и черный, как канатоходец Тибул, которого превратили в негра, с букетом красных канн и корзинкой недозрелых персиков. Он обнял ее, погладил по голове и поцеловал в нос – чужой, прекрасный, в запахах солнца, моря и вина, с серебряной – видите ли – цепочкой на шее, как киноартист. Он кому-то махал, с кем-то ее знакомил, – прекрасные парни, тетя Таня! – он еще принадлежал этим попутчикам, морю, пляжу, багажу, даже сигареты у него украинские, а не московские, но она уже, сама того не замечая, уцепилась за его локоть, висла, не отпускала. И душа у нее чуть замирала, и ноги слабели от мысли, как они войдут сейчас в дом.
Дура, она совсем забыла, ее Жоркой и погордиться можно, и заслониться, и… но почему он так от нее далеко? Надолго ли опять хватит горячки и любви их встречи?.. Но потом она все забыла. Потом, дома, они остались вдвоем, и стол был сервирован торжественно, на двоих, как в ресторане, стояли садовые ромашки и вино. Но она не могла ни есть, ни пить от волнения, не слышала его пляжных шуток, которыми он старался ее потешить и которые только на пляже и смешны. Открыли чемодан – поверх всего лежал голубой женский халат, – сердце опустилось, – а Жорка хохотал, дразнил ее, на халате оказалась магазинная бирка, это был подарок, ее размер. А она заплакала. И он схватил ее – целовать, осушать слезы, обнимать, раздевать. «Танечка!..»
И потом, когда Жорка заснул как убитый, она стояла в ванной, глядела на себя в зеркало: на горячее счастливое лицо, горячий даже на ощупь рот, сверкающие глаза и замечательно распавшиеся волосы. Черт, как она себе нравилась! Ну а что? Хороша! И линия шеи, и вот этот поворот, и этот… – кожа, глаза, каждый волосок, пушок жили, дышали. И хотя то, что Астра называла вакантностью, казалось, зажглось сейчас в ее глазах, в выражении еще ярче и острее, но грех ее был невинен, как невинность грешна. Какое счастье, что она осталась чиста, ни в чем не виновата перед мужем и перед собой, – это наполняло ее самодовольной гордостью, и она с королевской высоты бросала взгляд на тех, кто внизу: на грешниц с нечистыми взорами, лживыми устами, червивой совестью. Может быть, там, в июле, и она была такой, но теперь ее ядро, гремя цепью, катилось под гору, исчезая из глаз. Хоть стреляйте – она была чиста. И мужа она любила, хоть пусть это и не была любовь.
Она вышла из ванной, на глаза ей попался телефон. Но сейчас она как бы оттолкнула его от себя, не пожелала обратить внимания, не зафиксировала. Словно он и не попал в поле зрения. Будто его и не было никогда. Да и зачем? Разве она позвонила? Она же не звонила. Нет. Было и прошло. Она ведь не изменила? Не изменила. Не изменила? Нет, нет, нет. Ну и все.
Сад непрерывного цветения
Он писал ей:
«Я два раза перечитал письмо и думаю: что вдруг? в чем дело? что хотели мне сказать? «Прощай, прощай!»? Или чтобы я «исправился»? Что ты вибрируешь? У нас с тобой все хорошо, н о р м а л ь н о: я не виноват, что жизнь у меня такая, сто проблем каждый день; а ты влетела в нее вдруг, со своим совсем другим миром и другим понятием, как должно быть. Ты ошеломлена – да, наш мир не для слабонервных, – но костер не виноват, что опаляет бабочку. Да, я так живу, у меня такая профессия, я очень занят. А что касается лирики, я лишь недавно, ты прекрасно знаешь, еле выполз из одной черной любовной дыры, – так не затем же, чтобы попасть в другую? У меня ничего не скрыто, не замкнуто, все наружу, ты же видишь, ты умная. Мне с тобой хорошо, все соперницы твои отпадают, как болячки, и скоро совсем отпадут, дай срок. (Насчет этой женщины в машине – ты просто шуток не понимаешь, это «их нравы».) Ты говоришь, я у тебя один, а у меня много. Много – в с е г о: работы, людей, отношений, планов, мучений, нужных и ненужных, – вот опять делаю и уже ненавижу то, что делаю, – но это не значит, что ты мне не нужна или что у меня не хватает внимания на тебя, – нет, неправда, нужна. Наши отношения только проклюнулись, завязались (мои с тобой), я же не знал, что твоей любви ко мне уже «шесть лет, шесть месяцев и шесть дней» (Ваше выражение), но это твоя любовь, а не н а ш а. В общем, не гони картину, не уличай меня ни в чем, не учи (своего хватает), не обижайся. Будь женщиной, учись быть женщиной, ты еще девчонка и жизни не нюхала. А быть женщиной – значит терпеть. Ты думаешь, у тебя ко мне есть, а у меня к тебе нет и ты, как дура, навязываешься? Нет, просто ты, как всякая женщина, хочешь в с е г о, максимума, пусть даже неосознанно, и хотела бы завладеть в с е м. Но у м е н я нельзя забрать всего, я слишком много вмещаю, слишком много люблю на свете: свою проклятую работу, свою свободу, новых людей, новые страны, новых, извини, женщин – вот таких дурочек вроде тебя… Ну-ну, не плачь, сама виновата, сама вынуждаешь говорить ненужную тебе правду вместо того, чтобы петь нужную тебе ложь. Мне тоже трудновато, браток, ты сообрази, я все еще не оттаял, я внутри живу сухо и жестко, я иду один по своей дороге. Так что не надо – в чужой монастырь со своим уставом. Меня не переделать. Будет так, как есть, по-другому не будет».
Чтобы не реветь, Лора выходила из дому и, как всегда, ехала в Ботанический сад. Через Рижский, Марьину рощу, Останкино. Она старалась занять место в троллейбусе у окна, чтобы отвлекать себя картинами жаркого летнего города, впрочем, с вкраплениями уже, кое-где среди пыльной и зрелой зелени то густо закрасневшей рябины, то тронутого желтизной клена. Сыпало желтым и с берез, стоял август, близился сентябрь, осень, а там зима, конец еще одного года и начало еще одного. Она смотрела в окно на город – он кишел людьми, но все равно ничего не видела. Раскрывала на коленях сумочку и, не доставая оттуда письма, глотала его кусками, хотя знала уже наизусть и каждое слово и знак помнила на вид. Смелый и четкий почерк летел вправо, черные чернила, пером, а не шариковой ручкой, ярко гляделись на заграничной бумаге, сразу и тонкой, и плотной, и приятно-шероховатой на ощупь. Сложено тоже было не по-нашему, втрое и вдоль, чтобы уместиться письму в узкий конверт. Ему можно было поставить пятерку за орфографию, пунктуацию, да и за содержание – что тут скажешь? Она любила эту его абсолютную грамотность, столь редкую у нас даже среди пишущих людей, этот его летящий почерк, эту культурную (а не пижонскую) потребность вот в такой бумаге, в хорошем «паркере». Он рассказывал: за границей прежде других магазинов всегда бежит в писчебумажный, или как там они у них называются?.. Сам вырос в тульских Липках, лишь десяти лет оказался в Москве: отец-шофер возил в армии генерала (этот генерал Петухов вообще немалое влияние оказал в жизни на режиссера П. и был даже снят фильм, который так и назывался: «Генерал», весьма, как говорили, смелый). Лора знала, разумеется, досконально биографию режиссера П., всю его родню, мать, отца и не могла не удивляться, как далеко закатилось яблочко от яблони: режиссера отличали отточенный профессионализм, европейский вкус, даже изыск. Стихийной простонародной талантливости, особенно русской, присуща эта способность, оставаясь собою, кажется, вмиг впитать, что надо: грамоту так грамоту, науку так науку, музыку так музыку и, все впитав, стать еще поверх всего своею натурой: а ну раздайсь, я иду!
Не надо было быть графологом, чтобы по одному почерку определить и талантливость режиссера П., и ум, и целеустремленность, и эгоцентризм, и искренность. Здесь не сказано было и половины правды или правды главной, но искренность и правда не одно и то же, тут ничего не поделаешь. Он был искренен, а правды, кажется, не понимал и сам. «Будет так, как есть, по-другому не будет». Вот это, пожалуй, была правда.
Лора читала с ревностью и пристрастием, разбирая про себя каждую строчку, каждый его, если можно так сказать, постулат, глотая слезы. Опускала глаза в сумку – точно заглядывала с обрыва в пропасть, душа замирала, или точно откусывала, отхлебывала глотком яду. Защелкивала сумку, оборачивалась в окно невидящими глазами, – а строчки и слова черным почерком бежали по домам, заборам, облакам, автобусам и афишам, – глотала яд, жевала, проглатывала, а утихнув, опять раскрывала и опять заглядывала в бездну. Все равно счастье. Что он написал наконец и написал так много, ей написал, и – на его взгляд – открыто и безжалостно, что она может держать это письмо в руках, и… да что говорить, все равно она любила каждое слово в этом письме, хотя в нем было все, но не было любви.
А она-то любила его; она всегда любила его так, что даже ничего не могла делать. Ни общаться с другими людьми, ни работать нормально, ничего. Она не в силах была жить. Довольно странно в наше время. Три года назад наступил предел, нервное истощение, пришлось уйти из школы: она перестала различать учеников, они вытворяли на ее уроках что хотели, а ее называли «чокнутой». Она и была «чокнутая», без ума и памяти. Без него она могла только лежать и думать о нем. И в минуты просветления, борьбы с этой б о л е з н ь ю вся ее натура восставала и стыдилась такого существования.
Они жили с братом Виталием в доме довоенной постройки, в старой квартире, где чудом сохранилась тоже довоенная простая мебель, гравюры в стиле тридцатых годов, книги из той же эпохи: энциклопедии, красные ленинские сборники, сочинения Плеханова, тома «Академии», первые советские издания Маяковского, Есенина на грубой оберточной бумаге и совсем позабытых поэтов: Пимена Карпова, Варвары Бутягиной. Их отец работал всю жизнь в типографии, любил литературу, и эта черта передалась детям.
Лора еще девчонкой перечитала домашнюю библиотеку, в том числе и энциклопедии; образованная, начитанная, романтическая, она страдала еще и оттого, что пропадают зря ее знания, ум, натура, как пропадает душа. Вместе со своим домом, книгами, тихим неженатым братом она точно отстала от времени. А ведь прежде умела радоваться жизни, зажигать других, бежать, смеясь, по набережной, откидывая назад густые короткие волосы, восторженно читать стихи, бороться с несправедливостью. Боже ты мой, ее словно заключили в дом умалишенных: жива, ест, пьет, ходит, а смысла нет, ум помрачен, есть лишь одна идея – он, он, он, мой бог, мое несчастье.
Брат, который был старше Лоры на десять лет и тоже работал в типографии, брал для нее работу на дом, корректуру. Но часто ему самому приходилось сидеть допоздна с типографскими листами, пока сестра лежала в темноте в своей комнате, прокручивая на проигрывателе бесконечного Бетховена, уставясь в потолок, лия свои неслышные слезы. Сострадание заполняло брата, боль и молчание год за годом объединяли их, и боль Лоры за брата, болеющего ее болью, вина перед ним замыкали это кольцо.
Лежа вот так, без света, в своей комнате, Лора чаще всего видела все одно и то же: как молодой режиссер П. выходит на сцену большого столичного кинотеатра перед премьерным показом своего фильма, которому суждено потом стать знаменитым. Он должен сказать несколько слов, представить киногруппу, своих актеров (среди которых стоит и его будущая жена Нэля; на глазах у Лоры в последующие годы они поженятся, она родит ему дочь, они получат квартиру, потом разойдутся, и Нэля выйдет замуж за другого режиссера, ближайшего друга режиссера П., и все они останутся друзьями и даже будут однажды летом снимать одну дачу). Дело зимой, он выйдет непраздничный, невысокий, худой, даже худенький, как мальчик, с темными усиками на бледном лице, в свитере, кожаной куртке, в зимних сапогах, о б ы к н о в е н н ы й, будет держаться перед тысячной аудиторией спокойно, сдержанно. Лора замрет с первого его шага по сцене, с той секунды, когда он, придерживая синий занавес, будет пропускать перед собой своих товарищей, ободряя их ровной улыбкой. Лора угадает, что это не человек, а бог, е е бог, тот самый о н, о котором мечтала, всегда ждала, – всезаполняющий, единственный. Да, вот такой, с полуулыбкой, с усиками на усталом лице, без рисовки, без игры, даже сторонясь слегка этого мероприятия, всегда неловкого: почему, в самом деле, перед сидящей в шубах и пальто публикой надо выпустить еле где-то собранных по городу людей, актрису в нелепо вдруг длинном или прозрачном платье. «Звезд» обычно не заманишь, не отыщешь, а публика хотела бы «звезд», и три дежурные гвоздики вручаются неизвестно кому, публика вяло хлопает, ей не терпится, чтобы погас свет.
Режиссер П. сумел сохранить достоинство перед безжалостным зрителем, соблюсти меру, сказать самую суть, очень кратко, без всяких «случаев». Он только чуть медлил, словно бы подбирая тщательно слова, но это было признаком волнения, очень хорошо скрытого, – Лора узнала эту черту много позже. Он уходил последним и посмотрел прямо на Лору, – она сидела близко, в четвертом ряду. Взгляды их, как ей показалось, пересеклись, и она сделалась маленькой девочкой в белой панамке, которая играет на дворе в песочнице, а во двор входит и стоит над нею огромный десятиклассник в рубашке с короткими рукавами, – он так огромен и прекрасен, он смеется, он закрыл собою солнце, и оно окружает его фигуру нестерпимым сиянием.
Кино, кино. Она бросилась в кино, точно в море. Но он справедливо писал в этом своем письме, что этот мир не для слабонервных и посторонним лучше туда не входить. Она стала читать, смотреть, крутиться, изучать. Конечно же, ей хотелось сделать нечто такое, чтобы удивить его, помочь ему, в самую трудную минуту вдруг – раз! – и оказаться рядом, и спасти, и выручить. Как, как? Она и не подозревала, как далека была от этого е г о мира, от специфики кино, где, кажется, даже великие творения рождаются из неразберихи и мясорубки, из непрерывной суеты, тщеты и тщеславия, ужасных на неискушенный взгляд. Он и сам, случалось, говорил: «помойка», но он не мог без этой помойки жить. А она, приблизясь, остановилась и не могла двигаться дальше. Будто вошла в зоомагазин: сотни птиц кричат, поют, мечутся, кто во что горазд, какой-нибудь попугайчик висит из оригинальности головой вниз, другой бьется неистово о прутья клетки, третий разливается себе, ни на что не обращая внимания. Но понять их язык, понять, о чем крик и драка, как они живут, уму непостижимо. И вот это было вторым ее мученьем: вдруг оказаться среди птичьего базара, ничего не понимать, быть бесполезным и малодоброжелательным наблюдателем, но поневоле подглядывать, подслушивать и еще судить о том, чего не понимаешь. И это вместо того, чтобы быть внутри, рядом, где он, распевать на том же языке. Конечно, костер не виноват, что горит, но что ж делать бедным мотылькам, которые летят и сгорают? В чем их-то вина? Что летят? Но не лететь на огонь они тоже не могут.
Она и не подозревала: начни интересоваться каким-нибудь человеком, и информация сама потечет тебе в руки. Понемногу она узнала о нем, кажется, все. Ей и в голову не приходило, что тем самым она попадает в число поклонниц, «сыри́х», как у них говорится, которые пишут, звонят, караулят, бросают букеты или втираются в дом и жарят своим кумирам картошку. Гордая и умная, она ничего не могла поделать с собой: все равно все знала. Но, правда, она никогда не попадалась на его пути, даже никогда ему не звонила (ну, было, было раза два-три, и она слышала его голос в трубке) – ведь он был женат, у него дом, семья. На что она надеялась? Тогда, при Нэле, ни на что. И любовь ее и отчаяние были тем не менее в ту пору, кажется, светлее, легче, чем позже. Да нет, все одно, у всех людей 365 дней в году, а у нее в году, считай, только пять, или три, или семь: сколько раз удавалось его увидеть, столько и было живых дней в году, остальные – мертвые, пустые, и она их не помнила.
Ботанический сад был местом их первой встречи. Это вышло случайно. Однажды, когда совсем стало невмочь и Лора в самом деле испугалась смерти или помешательства, она написала ему. На крошечном листке из крошечного блокнота, мелко-мелко несколько крошечных фраз. Так и написала: что боится умереть, просит помощи, краткого разговора – может быть, высказавшись, успокоится, облегчит душу. Нэли уже не было, а ее долгая и мучительная любовь вроде бы давала право на такую попытку. Художественная литература и кино были богаты и не такими примерами. Она верила: бог поймет, бог услышит. Не бросит письма, не посмеется, почувствует: это не шутка – да, сама смерть и сама любовь, более невыносимая, глядит с этого маленького листочка.
И он услышал. Надо отдать ему должное, он тут же понял: да, это не шутка. Повертел, покрутил странное это письмецо, перечитал бисеринки-буквы, которые боялись отнять собою у него лишнюю секунду и, кажется, если бы могли, вообще превратились бы в точки, в стенографические крючки от смущения и вынужденности быть написанными, – он покрутил письмецо, – там стояли еще телефон и адрес, – и тут же позвонил. Услышал слабый и милый женский голос, сказал браво: «Вы мне писали, не отпирайтесь» – и по тому, как там надолго замолкли, сообразил, что надо извиниться, переменить тон, тут хорошо бы без пошлости. Тогда он глянул на часы и спросил, не может ли она тут же выйти из дому: судя по адресу, они друг от друга неподалеку, сейчас у него есть немного времени, а потом, пожалуй, долго не будет. И вот она вышла. И увидела, что он уже здесь, его синяя иностранная машина и он сам, его мальчишеская фигура, усики, непокрытая голова, сигарета во рту. Он неторопливо протирая ветровое стекло, забрызганное весенней грязью: после яркой и жаркой погоды шла полоса холода, дождя, по лужам проносилась порывами рябь. Она увидела его, а он ее, выходящую из подъезда: в светлом коротком плаще, в черном берете и шарфе, в черных сапогах, с черной через плечо сумкой – нормальная вышла женщина, молодая, милая, с хорошей фигурой и ногами, среднего роста, черноглазая, – никак не скажешь, что вот-вот, сию минуту возьмет и умрет. И на лице его появилась было ирония, но Лора приблизилась, едва выдавила «здрас…», боясь смотреть, и не составляло труда угадать и потерянность, и долгое измождение, и неестественный румянец у самых глаз, и отчаяние поступка с этим маленьким письмецом – бедное, неопытное, отставшее от века существо, ударенное нездешней и ненынешней любовью. Он-то был и опытен, и искушен, и его дегустаторская способность отличить настоящее от фальшивого, и его человеческая и профессиональная потребность в подлинном тут же сказали ему, кто и какая она. И никакой стереотип поведения здесь не годился. Хотя (сказал он себе сразу) тратиться на этот вариант, в общем-то тоже известный, просто некогда. И дело действительно не должно было занять более часа.
Они поехали по прямой, куда глаза глядят, он понимал: ей надо обвыкнуться и собраться, прежде чем говорить. Ветер швырял брызги на стекло, тучи неслись, и сквозь них прорывалось светлое, но это светлое тоже было тучами, только другими, что повыше. Широкие «дворники» ходили по стеклу. Она с каждой минутой чувствовала увеличение своей вины: что ж ты его вызвала, вроде объясниться, а сама катаешься в мягкой машине и молчишь. Но чем дальше ехали, тем шире распирало сердце теплом и покоем: вот и все, вот так бы ехать и ехать. И нечего говорить. И он, бог, все понимал. Не торопил, не отпускал шуток, не навязывался. «Ого, куда мы заехали!» Это было сказано лишь тогда, когда замелькала справа решетка Ботанического сада – за нею толпились кусты и деревья, их трепал мокрый ветер. Они проехали, может быть, всего минут пятнадцать, но ей показалось – полжизни. Он предложил выйти и погулять. Сто лет, мол, не бывал в Ботаническом. Она не догадывалась, а его кинодуша уже изнывала от однолинейности, требовалась хоть какая-то смена плана, действие, действие! Ведь уже все ясно. Дальше!
Ее чувство вины усиливалось, она не знала, как поглядеть на него, как говорить. «Вы извините, я должна…» Он закивал понимающе, успокаивал ее. Тут она испугалась, догадываясь чутко, что ему и без того все понятно и, возможно, уже становится скучно. Что ей было делать, впору повернуться и убежать. Но нет, он как будто оживился, несмотря на резкую погоду, взял из машины и надел замшевую кепочку с ремешком сзади. Он вспоминал студенчество, смеялся. Они бегали из института на ВДНХ, в ресторан «Ташкент», и сроду не могли дойти до Ботанического, хотя тут рукой подать. Впрочем, иногда доходили, бывало. Да-да, бывало. Свет какого-то воспоминания осветил его, и она тут же ощутила ревность: наверняка это связано с женщиной, с девушкой. Он усмехался, он точно отлетел от нее в эту минуту. Оживившись, он еще поговорил с теткой в кассе, – та закуталась, будто зимой, в теплый платок и удивлялась, что люди идут в сад в такую погоду. Оживился он также и засмеялся, разглядывая план парка – при дороге стоял двуногий щит – и найдя там слова «сад непрерывного цветения». Он повторял на все лады: «Непрерывного цветения… как это – непрерывного?.. непрерывно цветет?.. все или по отдельности?.. Вы слышали когда-нибудь?» Она не слышала. Но она сразу поняла, как это может быть. Она сама в эти минуты, кажется, цвела и благоухала, не замечая холода и ветра, несмотря на всю неловкость ситуации, ею же созданной. Ботанический сад, если приглядеться, сиял молодой и умытой зеленью, его мотало порывами ветра, как водоросли мотает течением воды. Ни души не встретилось на мокрых дорожках, где прилипли листья, лепестки роз, лежали обломки веточек и старые кофейные желуди. Вдруг в небесах светлело, и опять не солнце, но только свет его через верхний слой облаков озарял частями парк, и тогда словно теплело, и ветер стихал, и пруд из серого на глазах готов был засинеть, и два лебедя, как 2+2, ярко белея на сером, выплывали вдали из осоки.
Они свернули к розарию, и здесь тоже не оказалось ни одного человека. Розы цвели сами по себе и для себя, хотя их выставочный порядок и таблички требовали публики. Они качались – свежие, весенние, мелкие, крупные, всех цветов и оттенков, в каплях и бисере влаги. Режиссера П. увлекли не сами цветы, а их названия: «Пандероза», «Эрмелия Касас», «Джон Кеннеди», «Эропеана», «Бонн», «Ла Франс», «Чайнетаун». Он восхищался: «Ну, цветоводы! Они решили собрать на этом пятачке весь мир, молодцы!» Потом, когда они еще бывали в Ботаническом, он обязательно шел в розарий читать и даже записывать торжественные имена роз, и в эти минуты (она уже знала) его уносило в дальние дали, он летел надо всею землей, он вдохновлялся. Этот вчерашний тульский крестьянский мальчишка уже раза три побывал в Японии, в Лондоне, сколько-то в Германии, даже в Австралии и Рио-де-Жанейро. Лоре никогда не дано было понять, что за жажда, что за жадность гонит таких, как он, по всей земле. Он привез, – кажется, из той же Японии – маленький голубой глобус, в ладонь, искусно выделанный. От тепла руки глобус начинал светиться насквозь, сиял фосфоресцирующими океанами и материками, посверкивал точечками всех столиц мира. Режиссер П. любил играть этим глобусом, без конца катал на ладони, глаза его при этом хищно суживались, он уходил в себя, – да, он держал в этот миг в руке всю землю, что тут такого, подумаешь, в наше-то время, когда даже препустой песенкой можно в сутки охватить весь мир, когда имя звучит у всех на устах, – о супермены XX века, покорители сердец и умов, киномужчины, творцы, экстремисты, пламенные патриоты и холодные космополиты сразу. Послушать режиссера П., как он со слезами на глазах рассказывает о своих Липках, о деревенском детстве, о Ясной Поляне, до которой рукой подать, о прадеде, о бабке, послушать о его заветном замысле – снять ленту по «Слову о полку Игореве», послушать, – и уверишься, что, кроме родного угла, Липок и старой избы, ему ничего на свете и не надо. Но ему надо, все надо, от «паркера» до мировой славы, и его кумиры, разумеется, были Феллини и Висконти, только они; и в свои сорок почти лет в своей тайной гордыне он все еще надеялся если и не заткнуть за пояс великих мира сего, то, во всяком случае, стать с ними в один ряд.








