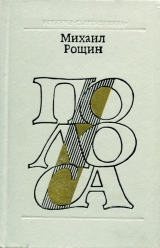
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
Сушкин пробирался по камням и дощечкам, где пробирались все и натопталась тропинка, и отсюда, поверх заборчика, видел улицу, дома за деревьями. Треск мотоцикла и синий его дым еще стояли в улице, на остановке медлил ранний пустой автобус. Солнце светило прямо на дома, на фасады (хотя не понять было, где у новых домов перед или зад), и Сушкин с радостью глядел, как сверкают стекла, как весело горят малиновые стены. Таких домов Сушкин нигде и никогда не видел прежде: совсем новой архитектуры, с малиновыми стенами (но не кирпичными), с выступами в целый этаж. Дома странно и причудливо соединялись между собой, они больше всего походили на строение из детских кубиков, но если бы убрать окна, все множество широких внушительных окон, то дома, все вместе, образовали бы огромную красную стену. Что за дома? Откуда?..
За ними, дальше, тоже шла стройка, возводились другие такие же дома, но первые два-три ряда уже жили на полный ход: вечерами горели окна, играла музыка, бегали дети. Понизу в каждом доме работали магазины, сберкассы, парикмахерские, подальше была почта. Микрорайон.
Сушкин сам жил в микрорайоне, но такого не видывал. Старое, первое чувство, с которым он когда-то приехал в эту больницу, вернулось к нему, и теперь он втайне считал, что попал все-таки куда-то не туда, как это кажется на первый взгляд, в какое-то место особое, странное. Он ощущал, что ничего прежнего давно нет, утекло много-много времени с тех пор, как он очутился здесь, и сейчас он живет в иной жизни и, может быть, даже в ином городе. Только сказать этого никто ему не может, поскольку они сами этого не знают: что Сушкин не ихний.
Даже люди были словно бы позабыты Сушкиным, и его удивляли их непокрытые головы, разноцветные куртки, светлые плащи. Они казались ему чересчур высокими, молодыми, подозрительно нездешними. И он ловил на себе их насмешливые и снисходительные взгляды, хотя многие уже и на улице узнавали его и говорили: «А, Шушкин, приветик!» или «О, Шушкин пришел!» Он их любил, но они были незнакомы ему, мирны, молоды, да, мирны и молоды; а он привык к другим лицам и эти видел издалека. Чудно, но ему порою опять казалось, что они вроде бы и нерусские, он туда попал, где только притворяются русскими и нарочно по-русски сделаны надписи. Вот до чего.
Он семенил помаленьку в затрапезном своем ватнике чуть не до колен, в шапке, сползающей на глаза: то ли голова усохла, то ли от шажка такого сваливается шапка наперед, – и чувствовал, что сам тоже не больно-то вписывается в новенькую улицу. Но он лишь тепла ждал, погоды, чтобы приодеться, он готов был уважить их – лишь бы не прогоняли отсюда, лишь бы оставили. Почему-то он был уверен, что его района, где он жил, и квартиры, где они коротали свои деньки с Лямочкой, давно нет на свете. И он хотел туда, это уж точно, или боялся убедиться, что их нет.
Зачем? Ему хорошо здесь. Он любит тут каждый дом, вывеску, остановку. Мужчина в полосатых трусах делает на балконе зарядку. Заспанная девочка-подросток вывела из подъезда белую собачку, и та принялась прыгать на задних лапах вокруг девочки и носиться туда-сюда. Стая воробьев как бы стекла с деревца на землю, на молодую травку, и тут же затеяла драку и возню. Вон молодая женщина с ребенком на руках ждет, чтобы перейти улицу, на ребенке сияет голубая вязаная шапочка. «В голубом мальчики, в розовом девочки», – почему-то и откуда-то вспомнилось Сушкину.
К газетному киоску подъехал фургончик, молодой длинноволосый парень-шофер разгружает его, кидает кипы газет в оконце киоска. А тут уже пристроилась недлинная утренняя очередь стариков, кому не спится, и молодых мужчин, рано едущих на работу. Вот эта компания Сушкину близка и понятна, хоть он вроде бы тут и не свой: больничная роба его выдает. Вот тут постоять приятно.
Впереди всех стоит Генерал – старик пенсионер, толстый, как груша, с палкой, в полувоенном картузе. Он смолит папиросу и заходится трескучим кашлем. Он хотел сказать и рукой сделал: мол, здорово, Шушкин, явился? Но кашель не дал ему, и он лишь глазами поприветствовал Сушкина. И Сушкин торопливо и радостно покивал.
Сушкин уже успевает пристроиться в хвост очереди, а Генерал – его здесь все так зовут – все кашляет, а потом сразу принимается распекать длинноволосого паренька – что-то тот неверно сделал – и киоскершу, которая слишком долго, на его взгляд, копается, принимает товар.
Люди торопятся, а Сушкину в радость поторчать здесь, поглазеть, послушать. За газетами он встает не для себя, людям. Еще с вечера он обходит палаты, и лежачие просят: кто газетку, кто журнал, кто лимончик в овощном взять, если есть, кто мармеладу в булочной. Только минеральную, извиняется Сушкин, носить тяжело. А так набирается немало, в сумочку и по карманам. На обратном пути он уже будет занят подсчетами, кому сколько сдавать сдачи. Иные стараются махнуть рукой или даже сунуть ему обратно копейки, вроде за работу, вроде на чай, но Сушкин никогда не берет, он чаще всего свои приплачивает: денег ему не надо, пенсия у него неплохая, а сейчас они и вовсе не нужны. И от этого, кстати, Сушкину неудобно перед больницей, перед Львом Михайловичем и Сагидой, что он так долго у них лежит. Их за это тоже не хвалят.
Сказочным радостным теремом сиял перед Сушкиным обычный газетный киоск. Как это люди не видят его красоты и волшебства. Хоть весь день можно разглядывать прилепленные с той стороны к стеклу обложки, открытки, портреты артистов, марки, значки. И мылом киоск торгует, и пастой, и бритвами – утренние товары! Целый пестрый остров среди улицы, Африка с чудесами! И чего они торопят киоскершу – она и без того проворно, ловким вывертом раскладывает газеты, шустро считает их по уголкам, как кассир деньги, – раз-раз, все готово, и вот уж Генерал отваливает, разворачивая на ходу газету «Красную звезду», и охает, и горько матерится, увидав чей-то некролог.
Речь Генерала напоминает Сушкину Люкина. Повар выписался давно, вдруг закапризничал, не долечившись, поссорился со Львом Михайловичем, нехорошо обозвал безответную Сагиду. Он заставил жену побегать по другим клиникам и институтам, чтобы показали его светилам. Грозился Люкин да и начал потихоньку опять пить да курить, пока «кондратий, дрянь, не хватит без всяких врачей», чтобы все само собой вышло. И ушел, сорвался, обложив всех еще напоследок вместо «спасибо» и разных букетов и подарков, как другие подносят врачам и сестрам, – обещал заехать, навестить Сушкина, принести гостинцев, но, конечно, не объявлялся больше, сгинул. Хотя не умер, жив где-нибудь, Сушкин чувствовал.
Генерал отошел, очередь быстро текла, и Сушкину жаль стало: так хорошо стоялось ему здесь с мужиками: отворачивался вместе со всеми от порыва ветра, взметающего пыль и еще прошлогодний, зимний сор, ловил табачный дымок впереди стоящего парня в кожаной куртке, от которой тоже попахивало заводом ли, машиной, чем-то родным.
Но вот и газеты, пойдем вперед.
Так совершал Сушкин свой утренний обход, тянул время, ожидая открытия магазинов. Незаметно, но быстро поднималось солнце, и так же незаметно изменялась, наполняясь, улица. Отвлекся, постоял у киоска, возвратился – и уж все по-иному. Солнце перешагнуло, захватив новый кусок земли, отогнав тени, а по улице бойко побежали машины, скопился на автобусной остановке народ, откуда-то заговорило и запело радио.
Задравши голову, Сушкин глядел, как невидимый самолет быстро кладет в небе снежный след, и, пока он глядел, солнышко успело припечь, согреть ему лицо.
Опустил голову, а там, где минуту назад ничего не было, старуха вытаскивает из подъезда детскую коляску, на лавке сидит, умывается войлочный кот, а женщина в красных брюках принесла ведро и моет такую же красную, как брюки, машину прямо у малиновой стены.
Заворачивал Сушкин и в лесопарк. Здесь под ногами было сухо и пыльно, неслышно шелестел прах убитых зимой листьев, земля уже хотела дождя, омовения. Кое-где, еще невысоко вылезши из земли, кучно зацветали, выглядывали желтеньким из зелени одуванчики. В осиннике неправдоподобно белые стояли березы, будто их выкрасили по стволам известкой, как яблони в саду. Лес точно растопыривало, распирало, деревья не зазеленели, но вот-вот должны были проклюнуться почки, кора ветвей цвела проступившей зеленью, и еще голый и сквозной лес, уже весь, в массе, особенно в осиннике, отдавал зеленым, жил, скрипел упруго и весело, сок играл, и каждая жилка наливалась силой, Лесу нравилось стойко мотаться под налетающим ветром, он лишь веселел и крепчал от его ударов, как парнишка-спортсмен на тренировке.
Что ж, и отсюда Сушкину было уходить? И это покинуть?
Сушкин возвращался грустнее прежнего, но новые перемены на улице опять захватывали и развлекали его. И машин и пешеходов становилось больше, отворялись балконы и окна, малиновые дома были неиссякаемы, как ульи, из них вылетали и вылетали работящие, как пчелы, люди. Отчего прежде, у себя, и вообще никогда до сих пор Сушкин не обращал на подобные картины внимания, не ощущал, какая разница между городом шести часов и семи, семи и половины восьмого? Отчего не испытывал при этом никакой такой любви и понимания, как хорош этот мир, каждая его частица, ребенок, мужчина, женщина? Конечно, бывало, еле успеешь ополоснуть ряху, жуя на ходу, потом в автобусе такую тебе лечебную физкультуру покажут, да еще с женой с утра полаешься, а в гараже тоже – гав, гав, то не так, это не так, – мать-перемать, да будьте вы все!.. Где ж эта его жизнь? Куда подевалась? И как это он очутился здесь, ничего не понимая?
Но ведь и там, должно быть, красиво было? Что-то должно было быть и там, как же он не видел? А теперь спохватился, да поздно?.. Эх, Шушкин! Жаль, всего жаль!
Булочная и овощной открывались в восемь, оба магазина находились рядом, в одном доме, и возле них уже стояли, дожидались старухи, но не сгрудясь в очередь, а вразнобой, на солнышке. И та девочка с белой собачкой опять была здесь. Собачка неутомимо сновала туда-сюда, но не любящие собак старухи сегодня глядели мирно: погода брала свое.
Сушкин не знал, стоять ему тоже или нет: к восьми пойдут на работу врачи, обычно он встречал внизу и Льва Михайловича, и Сагиду, и Лечебную Физкультуру, а также других, которых знал или, вернее, которые его знали и мимоходом говорили: «Шушкин, привет!» Но сегодня ему боязно показалось явиться им на глаза: вдруг вот так, с ходу, тот же Лев Михайлович скажет: «Ну, Сушкин, гуляешь? Все хорошо? Давай выписывайся!» Ну куда ему выписываться, ну зачем?..
Если отойти от булочной шагов десять, то с этого места, глядя вдоль улицы, увидишь как раз вдали, налево, въезд в больницу, два белых столба с железными воротами – правда, ворота теперь валяются на земле, оторванные тракторами. Но далековато, не увидеть, кто входит. Тем более ветер и время от времени крутится пыль. Сушкин решил не ходить, остаться в магазинах да завернуть еще потом в табачный киоск – было ему поручение и насчет сигарет, но все-таки он тут же стал представлять, как бегут на работу врачи, как нетерпеливо они перебирают ногами в лифте, пока неповоротливый Михайло Потапыч, ленясь ехать лишний раз, дожидается, когда еще подбегут и набьется побольше народу. Кое-кто, не выдержав, выскакивает и – по лестнице, а другие стонут: «Михайло Потапыч! Ну ты что?.. Дядя Миша, давай!» Но дядя Миша тянет: сейчас его минута, его власть, он пуп земли, и он затворяет наконец двери лифта, как апостол Петр врата рая.
Потом, после врачей, приезжает столовка: молодая Галка или важная Раиса Петровна привозят на машине из главного корпуса завтрак в больших серых кастрюлях и бидонах с черными буквами – их будничный вид и будничный запах каши или винегрета, а также и очередь ходячих больных в буфете в одинаковых робах, каждый со своей вилкой-ложкой, всегда напоминают Сушкину всю его прошлую жизнь: от пионерского лагеря до той столовой в его районе, куда он изредка заходил, когда надоест стряпать самому на своем подоконнике.
Но Сушкин всегда в последнее время живо участвовал, помогал, чем мог, держал двери, суетился, хотя главную помощь брал на себя Михайло Потапыч: он хозяйски брался и нес неподъемные кастрюли, наволочки с больничными черными наклейками, набитые батонами, – с буфетчицами у Михаилы держался крепкий контакт на почве еды для поросенка.
Девушка-кассирша в булочной самообслуживания и толстая заведующая в овощном – тоже самообслуживания, – обе поприветствовали Сушкина, и он пошутил с ними, но без радости. Чем ближе к возвращению в больницу, тем тяжелее становилось. Вот сейчас придешь, а тебе скажут… К тому же он не любил это самообслуживание, прямо с души воротило! Как из преисподней, пихают тебе по наклону черствые батоны чьи-то руки почему-то невидимых тебе людей, и оттого кажется, что люди эти скрыты нарочно, будто они там грязные, как черти, либо рожи у них такие, что и показать нельзя. И для чего сделано?
Сушкин купил себе булочку и на обратном пути, в огорчении, незаметно съел ее. Издалека белели, приближались ворота. Он не приглядывался, как обычно, к каждому встречному, но видел, что теперь ему то и дело попадаются школьники: бантики, портфели, красные галстуки. Школа, тоже новая, осталась позади, Сушкин туда сегодня не дошел, как и до почты.
Но вот и схлынули дети, пропали. Сушкин понял, что стоит на месте, почти напротив ворот, задумался, осталось только перейти дорогу. Во дворе больницы уже грохотал трактор, стреляя синим дымом, а из ворот задом пятился самосвал с желтыми от глины колесами.
И вдруг опять кто-то побежал. Так резко, опасно. Мальчик бежал в школьной форме. Без шапки, лет десяти. Только не в школу, а назад. Как ветер бежал, с перепуганными глазами (потом уже выяснили: всего-навсего тетрадь какую-то дома забыл, с домашними заданиями). Промчался мимо Сушкина, обдал тревогой и тут же остановился как вкопанный, покачнулся на чистом тротуаре и упал, сломался, точно подрезали. Шагах в шести. Сушкин стоял и смотрел, не веря. Выстрела, что ли, он не услышал? Так в бою падали, убитые в лоб. Сушкин стоял, а на той стороне, как на другом берегу, через лежащего неподвижно и свернутого мальчика, стал, тоже замерев, мужчина с портфелем, в плаще, галстуке. И он оттуда поглядел на Сушкина, будто тоже спрашивая: кто это, как? Но тут же он недовольно окинул ненадежную фигуру Сушкина. И еще глянул вокруг – никого подходящего не было – и на часы на руке: опаздывал. А мальчик лежал, и Сушкин боялся сделать шаг к нему, думая, что умер.
Но вот и он и мужчина подошли вместе, у Сушкина выпала из уха головка, и он ничего не слышал, что говорил ворчливо мужчина, пытаясь поставить мальчика на ноги. Но руки и ноги ребенка падали безжизненно, голова болталась, мальчик был без сознания.
Тогда мужчина испугался, положил мальчика плашмя, как мягкую куклу, и стал оглядываться, ища помощи, а Сушкин прикованно глядел на белое детское лицо с четким носиком, нервное, детское лицо с синеющими губами, и ужас охватывал его от этой синевы. Он заставлял мужчину и сам пытался расстегнуть пуговицы на куртке мальчика. «Сердце, сердце…» – повторял Сушкин. Но мужчина ничего не понимал и не мог, наверное, понять: при чем тут сердце, у мальчишки?
Но слава богу, через полминуты рядом уже был кто-то, потом еще, мужчина все с таким же недовольным лицом, с досадой, нес мальчика на руках через дорогу, а у того ноги висели как плети, а Сушкин бежал впереди, указывая, куда идти, где вход в больницу. Человек пять-шесть женщин, облепив их и подгоняя, шли тоже, выставляя ладонями «стоп» перед идущими машинами.
У Сушкина был с собой нитроглицерин, но вложить таблетку мальчику под язык не удалось. Сердце его стучало, но в сознание он не приходил, странно.
Самосвал, оказывается, пятился из ворот, уступая место «скорой». Слава богу! Кто-то из женщин побежал вперед, и, когда вся группа с мальчиком перешла дорогу, из «скорой» уже выпрыгивали белые халаты.
Неужели от напряжения, от страха за какую-то тетрадку, от слишком сильного бега можно вот так упасть без сознания? Сердце у мальчика оказалось как раз здоровое, и, едва придя в себя, он нервно стал проситься в школу. Допекли его, видать, в этой школе. Как же так: мчаться, как ветер, и на глазах остановиться и упасть? Или это от весны, от долгой зимы? Отчего?
У Сушкина плыло перед глазами, он плохо соображал. Мальчика уложили прямо в вестибюле, на деревянной скамье, приводили в чувство. А потом Сушкин поднимался в лифте с Михайло Потапычем, тот что-то гудел, Сушкин не слышал.
А еще через час веселая, только что заступившая на дежурство сестра Зина делала Сушкину укол, уложив его на койку за пальмой. В ординаторской шла пятиминутка, затянувшаяся сегодня на полчаса. Но Зина осмелилась открыть дверь, заглянула бойко со словами: «Извините, Сагида Максудовна, Шушкин вроде замерцал!» И пауза короткая повисла, и встала Сагида, а Лев Михайлович, оторвавшись от бумаг, взглянул резко. «Что? Сушкин? Не может быть!» Но Зина кивала головой и вертела ясными глазами, вызывая Сагиду. Лев Михайлович посмотрел на Сагиду и, поджав губы, кивнул, разрешая ей выйти и посмотреть самой, в чем там дело. Но нахмурился, – его все равно перебили, – и встал тоже, и вышел следом за Сагидой.
Зина не ошиблась: Сушкин «мерцал», началась аритмия, сердце его прыгало, пульс уходил за сто сорок. Лев Михайлович выругался и ушел, предоставив Сагиде делать все, что было нужно, что она и без него могла.
Сушкина посадили повыше, опустили ноги, поставили капельницу. Сагида уговаривала не волноваться, рассказывала, что мальчика уже забрали домой, он жив-здоров. Сушкин кивал, улыбался, плакал, и Сагида отводила глаза от его абсолютно счастливого лица. Отводила и снова возвращалась прикованно. Сквозь счастливое, уходящее лицо Сушкина глядела его добрая душа, и жаль было, так жаль маленького этого человека. Сагида знала все, что будет дальше. Но существо ее билось и кричало против этого знания и жаждало чуда. Она же не знала, что чудо было: Сушкин уходил, она оставалась.
Июль
«Татьяна, Татьяна, опомнись, что с тобой! – выговаривала она себе. – Ты замужняя женщина, у тебя семья, дочь, ты что!» И она старалась посмеяться над своей одурью.
Город, казалось, с ума сошел. Мужчины с ума сошли, женщины с ума сошли. Так и несло отовсюду, расширяя ноздри, грехом и соблазном. Жара текла восточная, день за днем, сутки тянулись, словно караваны в песках или плоты по медленной воде. (Только если бы на медленном плоту все метались, охваченные пожаром.) Странный созрел месяц июль на городском размякшем асфальте: после свирепой зимы, после пышной весны.
Город отправил половину людей в отпуск, на дачи, вывез автобусными колоннами детей. По выходным вовсе все вымирало. Подобно эпидемии или эвакуации, летний отдых затронул каждую семью: кого лишил кормильца, кого хозяйки. Из двух комнат одна стояла теперь нежилою, с зашторенным окном. Обеды на кухне не готовились, да и есть не хотелось, только пить. Фотографии мужа и дочери глядели со стен, как лица давным-давно пропавших куда-то людей. Явились холостяцкая свобода, праздность, и вместо привычных забот о других непривычная забота о себе: куда деть себя, чем занять?
Служба кончалась уже в половине дня, солнце стояло еще высоко, Татьяна шла пешком от Маяковской до Смоленской, покупала у метро себе цветы. Если ничего не придумать, сидеть дома, вечер будет тянуться, как смола, до тошноты, и захочется в конце концов пустить тяжелой пепельницей в телевизор. Короткая ночь прошмыгивала, как белая мышь, выспаться можно было за четыре-пять часов, словно в деревне.
Город отправил своих, но принял чужих, приезжих, наших и иноземных. Гости вели себя шумно, свободно, от них заразительно веяло любопытством, запретным, вольницей ночных праздношатаний. Парни и девушки шли на рассвете в обнимку, сидели на парапетах набережных, целовались на широких мостах. У них была своя жизнь как у птиц, и хотелось, как про птиц, узнать: что это за жизнь?
Зацвела ко всему липа. Ее дурман долетал вдруг среди ночи до восьмого этажа – подирало по коже, хотелось сесть и заплакать или исцарапать себе щеки, горло. Букетики липы стояли в стаканах на столике у маникюрши, в булочной у кассирши, по всем бесчисленным отделам мастерских «Моспроекта». Сорвешь на ходу веточку, сунешь в уголок губ, спеша через площадь на работу, – ну, просто девушка, абитуриентка, где мои семнадцать лет!..
Еще, по моде того лета, носили все свободное, открытое, кто во что горазд: и короткое, и длинное (ситцевые пестрые юбки до пят), кому как удобнее (будто это и не есть самое трудное: п р и д у м а т ь, как тебе удобно!). Жара еще прибавила свободы. Иногда такое входило на общее обозрение в вагон, или впархивало в отдел, или самоизвлекалось из такси – оторопь брала.
Кругом одно и то же: женские ноги, руки, бедра, женские глаза, мужские глаза, потные шеи, спины, запах дезодоранта. Три минуты в тесноте троллейбуса или метро, и атмосфера недвусмысленно накаляется: взгляды, притягивания, мимолетные, якобы случайные прикосновения, – такое создается электрическое поле, что, кажется, этой энергии хватило бы на перегон поезда от Преображении до Юго-Запада.
Впрочем, странно было бы, если бы мужчины не замечали того, что демонстрировали женщины, а женщины не фиксировали бы впечатление, которое производят их демонстрации. Все пули летели в цель, все мишени висели клочьями.
Придя домой, стоя под душем, Татьяна всякий раз думала, что вот вместе с потом и пылью смывает с тебя все грешные взгляды, липкие прикосновения. Но тут же возникало: лицо паренька, глядевшего на нее из заднего окна троллейбуса; веселый летчик в пельменной, где она перекусила: летчик проиграл глазами целый воздушный бой.
Эти маленькие победы хочешь не хочешь вызывали самодовольную усмешку.
Она ходила голая по дому. Она лежала голая поперек тахты и смотрела телевизор, свесив с тахты голову. Достаточно здоровая и дебелая, она принимала дурацкие позы, стоя в прихожей перед зеркалом. Корчила рожи. Или от нечего делать без конца стригла волоски на своем теле, ногти, давила, мазала. И конечно, бедные волосы то собирались в пучок, то распускались патлами, завивались, развивались.
Стыдно сказать, но она прислушивалась к бурной жизни Таськи с седьмого этажа: из ее раскрытого окна, снизу, неслись то песни, то вопли, то слезы, то стоны. Одинокая Таська работала продавщицей в продовольственном на Плющихе.
До того дошло, что безвинный и тишайший сосед по лестничной клетке, библиограф Володя из иностранной библиотеки, который и «здравствуйте» произносит еле слышно, и тот повадился: спички просить, хлеб и мялся в дверях, не уходя. У него тоже все уехали. А то вдруг явился однажды в шортах, предложил выпить вина, сверкнув очками.
«Мужики совсем с ума посходили!» – сказала Татьяна утром на работе своей подруге и соседке по столам Астре. Татьяна открывала окно, из которого сразу ударило грохотом города, а Астра прикуривала, как обычно, одну «беломорину» от другой.
Толстая, некрасивая, с выпученными от базедки глазами, умная и начитанная Астра глядела иронически, пыхтела в дыму, как паровоз. «Не мужики», – сказала она, – а у тебя самой, посмотри, вакантность на морде написана. Вакантность. Понимэ?»
Они посмеялись, но, пожалуй, слово было найдено правильно: вакантность.
Надо было что-то придумать, как-то перебить это тяжкое и в конце концов унизительное состояние. Она и без того никуда не ходила, никому не звонила, спасалась телевизором, отсчитывала время до родительского дня в лагере, скучая по дочке. Чуть ли не через день бросала открытки мужу Жоре в Мисхор, где он отдыхал, и даже написала (вот он удивится), что очень его любит и скучает.
Он время от времени звонил по автомату, веселый, ласковый, но отчужденный, явно не один, с компанией вокруг, кричал, что все в порядке, загорел, плавает с маской, кормят прекрасно, погода прекрасная, компания прекрасная, все о’кэй! «А ты там не это самое? – спрашивала она. – Смотри!» Он легко смеялся, подозрительно быстро понимая, о чем идет речь, и кричал: «Хотел бы даже – здесь страшила на страшиле, клянусь тебе!» И тут же у него кончались пятнадцатикопеечные монеты, его явно вытягивали из будки, все прерывалось. «Клянусь тебе! Целую!» – еще какое-то время звучало в ушах.
Но она не верила. То есть нельзя сказать: не верила. Так даже не стоял вопрос: верить или не верить? Она верила. И не верила. Об этом не следовало думать. Жоре тридцать четыре года, худой, спортивный, длинный, с черными веселыми глазами, он все остается мальчишкой, он душа любой компании, и женщины пялят на него глаза. Он никогда не был бабником, по-мужски, по-мальчишески любит спорт, маски, подводные ружья, футбол и хоккей, мотоциклы и всегда предпочитает мужские сборища. Тем не менее три года назад они пережили свою драму: Татьяна узнала, что Жора ей изменил. Пусть нечаянно, глупо, но изменил. Она хотела уйти, то есть даже ушла к матери, еще на старую квартиру, забрав четырехлетнюю дочку, и со зла изменила ему сама. То есть что значит изменила? Отдалась одному сослуживцу, Малыхину, по-дурацки, противно, сознательно, – они и теперь встречаются часто в коридорах или в столовой, как добрые знакомые, – это произошло лишь однажды, ночью, в его доме. Потом как-то быстро с Жорой все наладилось, исправилось, через три недели она вернулась домой, жизнь пошла по-старому. Или вернее, по-новому, потому что если прежде они жили еще как влюбленные, возлюбленные, то после этой истории стали жить успокоенно и упорядоченно, без прежнего задыха, остроты и безумства.
Дело не в том, верила она или не верила: она д о п у с к а л а, что все может быть. Она не ревновала, вот в чем дело. Курортный романчик? Ну и что? Теперь она знала, что сплошь и рядом так случается, и люди относятся к этому снисходительно. Приходит приятель, говорит смущенно (но игриво и победоносно): мол, вот так-то, братцы, такое вот тру-ля-ля, и все острят, хихикают, мужчины и женщины, хотя эти мужчины и женщины сами мужья и жены, и, коснись их, они будут страдать.
Совсем недавно, перед тем как Жоре уехать, приходил его товарищ, еще в армии вместе служили парнями, Петя Белопольский: перекусил на ходу, выпил водки, спешил: «Ну, я врезался, ребятки, ну, врезался!» И Жора хлопал его по загривку и благословлял: «Давай, Питэр, давай! Как говорил Саади, на каждую весну надо выбирать новую любовь!» И Татьяна тоже подыгрывала: «Влюбился? Ну, это же прекрасно! Мечта просто!» И ей не приходило в голову, что, может быть, так же Жора явится однажды к другу Пете (или являлся) с теми же словами, и Петя одобрительно похлопывал его, и Петина Оля тоже, и лишь вскользь советовала: «Только ты уж поосторожней, чтобы Таня не узнала». Ах, какие мы все свободные, легкие, ироничные, всепонимающие и всепрощающие! Какие мы современные, сложные, простые, честно-бесчестные, как смешон нам максимализм, и как мы все без труда выносим чужие беды…
Ну а что делать? Что вот делать ей, Татьяне, жене своего мужа, если, допустим, у мужа что-то там происходит? Что она может изменить? Ее устроило бы одно: ничего не знать. Вот и все. Умные люди так и поступают. Тогда, три года назад, она узнала насчет Жоры случайно. А могла бы и не узнать. И не было бы ни страданий, ни перемены их отношений. Так что же лучше? Ведь они не расстались совсем, все хорошо теперь, их семью ставят в пример. Прекрасно! – как говорит Жора. Прекрасно, да, но куда деть обман? Куда деть все наши высокие слова, мораль, возвышенные представления о том, как должно быть на самом деле?.. Но кстати, а как должно быть на самом деле? Может, так и должно, как н а с а м о м д е л е? Петя Белопольский приходил ведь на самом деле? Застенчивый Володя зовет выпить вина на самом деле? Она лежит здесь и мается от животного бабского вожделения на самом деле?..
Да, конечно, мы люди, а не животные, мы должны уметь управлять своими чувствами, что ж, вот, в частности, она лежит тут одна, на рассвете, на своей тахте – лишнее пространство которой, кстати, почти физически дразнит ее – и управляет собой. Она управляет собой, а в это время вакантность управляет ею. И выходит, что с е й ч а с она никакая не жена, не мать, а просто одуревшая баба. Самой стыдно.
Но с другой стороны, отчего же стыдно? Ведь это есть, это пришло помимо ее воли, это н о р м а л ь н о е человеческое желание, она не выдумала его или не вызвала нарочно, она не психопатка. И как знать, не честнее ли сдаться, кинуть кость этой собаке, которая жрет ее изнутри, согрешить? Ради очищения! Точно! Согрешить и покаяться…
«Жди мужа, дура, жди, змея, – говорила она себе, – не бесись с жиру, будь честной женщиной, не бери ты примеры с каждой…» – тут она грубо называла вещи своими именами, как это сделала бы Астра, – чтоб крепче было самобичеванье.
Но – «будь честной женщиной» – что это значит?.. А куда мысли-то деть? «А в мыслях мы не вольны» – как говорит та же Астра, повторяя чью-то цитату.
Было около пяти утра, а она уже долго не спала. Ее окно на восьмом этаже выходит на улицу, из него широкий вид на Москву-реку, на мосты, на Киевский вокзал (всю ночь сквозь сон она слышала бой вокзальных часов), на набережные. Улицы проснулись, умытые поливалками. Кроны лип набиты орущими птицами, как огромные круглые клетки. Солнце блестит на дальнем шпиле университета, напоминая Ленинград. Шумит первая электричка, и одинокая машина оголтело мчит через мост, одурев от простора. Слышны – подумать только – чьи-то четкие шаги.
Не пройдет и часа – грохот уличного конвейера сожрет все звуки, синяя гарь – запахи реки и липы, утренняя идиллия растает, город засучит рукава и пойдет греметь, делая свое дело.
Татьяна положила подушку на подоконник, подперла голову двумя ладонями, как скучающая тамбовская казначейша. Рассветный ветерок приятно обвевал плечи. По реке шла баржа, на которой не было видно ни души, и казалось, эта махина движется сама, как живая, что-то соображает. Уплыть бы куда-нибудь, что ли?..
Она незаметно склонила голову на подушку и незаметно крепко заснула, как провалилась. А проснулась – внизу уже все неслось, грохотало, желтый кран на стройке напротив нес, разворачиваясь, пакет панелей, и солнце ярко и жарко освещало стройплощадку. Соседка Тася внизу вытряхивала в окно простыни, плескала белым, у нее орало бодрой утренней музыкой радио, и сама она пела.
Город тут же сообщил Татьяне свой знакомый и спасительный ритм пятницы, последнего дня недели, и она бросилась, точно в воду, убирать, пылесосить (ради зарядки) и через полчаса уже все ненужно сияло, блестело, пахло по дому кофе и сама она, как всегда, была чиста, свежа, легка на ногу.








