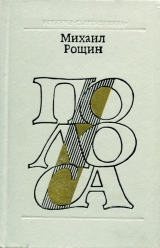
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
Пока он размышлял, Нижегородов уже распорядился, и стройбатовский шофер, все это время проспавший в машине в ожидании капитана, был отправлен доедать петухов и спать на койке для гостей. Капитана же и разомлевшего Райхеля Нижегородов усаживал в свою машину.
– Задумка есть, капитан! – кричал Нижегородов. – Сейчас такое тебе покажу, нигде не увидишь! У Нижегородова все есть! Сейчас к Бурцеву двинем! Ты скажешь тогда!.. Виктор Михайлыч, а ты что? Садись тоже, брось своего «козла», погуляй! Бурцева ему покажу, пусть знает! Виктор Михайлыч!..
– Да нет, Сергей Степаныч, спасибо, дела еще есть. В Кувалдино надо проехать…
– Так, милый ты человек, через Замурзаевку с нами и проедешь! Там, ве́рхом-то, лучше, посуше будет, а крюку-то километров десять всего и есть! Бурцев коня тебе нового своего изобразит. Поехали!
Нижегородов звал так хорошо, что и в самом деле захотелось с ним ехать. Правда, через Замурзаевку – там и проскочить верхом, правильно он говорит. А то до Кувалдина еще раза три где-нибудь станешь, мимо людей не проедешь, а тут до Замурзаевки голо все. Опять же чудака этого поглядеть лишний раз, Бурцева.
– Ну ладно, что ли, Виктор Михайлыч? – упрашивал Нижегородов. Все старику нынче удавалось, теперь и Карельникова не хотелось от себя отпускать. – Ну ладно, что ль?
– Ну ладно, – сказал Карельников, – езжайте, я следом.
– Ну вот и замечательно!
Как ни увлечен был Нижегородов гостями, однако, отойдя в последний момент от машины, поманил к себе Винограденко, который занес уже ногу через мотоцикл, и сказал:
– На выдринское завернем, может, сеют. Смотри, растелешилось небушко-то.
– К вечеру обратно нагонит, – ответил бригадир, – а все ж завернем, Иван Яклича проведаем.
– Вот, – совсем деловито и трезво сказал Нижегородов, – вот то-то и оно…
Мотоцикл быстро и резко ушел вперед, за ним, пробрызнув грязью из-под колес, поехала «Волга», а следом – Карельников.
И первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он остался один, была о том, что если Купцов узнает об этом завтраке – а он узнает, потому что в районе все и про всех рано или поздно узнается, – то ревниво покривит лицо и выговорит, что пить и панибратничать с подчиненными – самое последнее дело. И ему не объяснишь, что Карельников никак не числит Нижегородова и его бригадиров подчиненными себе людьми и что замыкаться от людей и важничать – куда хуже.
Вспомнив Купцова, он снова представил себе домик с занавесками и свой пустой дом, из которого он даже кота выманил утром, и подумал: не опоздать бы домой к ночи, когда Надя будет звонить. Хоть и некогда скучать, а надоело без Нади и Витюшки – он, может, потому и про воскресенье забыл, и по дорогам шастает, потому что пусто и неуютно в доме. То ли дело у Инны Ивановны! Как ни учится Надя, как ни старается, уж и мебель купили, и занавески тоже, коврики, а до Инны Ивановны далеко.
Инна Ивановна – это жена Купцова, добрая женщина. Если бы не она, то вообще неизвестно, как бы сложились отношения у Карельникова с Купцовым. Карельников вспомнил тот вечер, примерно с год назад, когда он, сильно поддавшись влиянию Ляха, просто-таки влюбившись в Ляха и носясь с ним, как курица с яйцом, привез Ляха к Купцову, познакомить их.
У Инны Ивановны чистота в доме, словно в хорошей больнице. Так заведено, что, когда приходишь к ним, надо обувь снимать. Везде ковры, ни пылинки. Дают мягкие тапочки, как в музее. Алексею Егорычу самому бывает неловко, что его гостей заставляют сапоги и ботинки разувать, и он, обычно загодя, как бы шутя, старается предупредить об этом, а то не дай бог, если на ногах портянки или носки не в порядке. Лях, собираясь к первому и зная от Карельникова об этом домашнем правиле Купцовых, надел яркие новенькие носки. И костюм надел, и галстук повязал. Правда, он потом говорил, что потому, может, так разозлился, что все время по-дурацки себя чувствовал при галстуке и босиком.
Когда они пришли, Алексей Егорыч с женой смотрели телевизор – московскую программу. И между прочим, телевизор не выключили, а только убрали звук, и во время разговора, пока разговор не дошел до последнего накала, Алексей Егорыч нет-нет, а прикованно оборачивался к экрану.
Как говорили (да это и заметно), Купцов без памяти любит свою жену: она у него вторая и трудно ему досталась, – любит свой чистый дом и в домашней обстановке делается куда мягче и добрее, чем на людях.
Положение тогда было хуже некуда: район получил очередной втык за кукурузу, хлеба почти не сдали, мясопоставки не выполнили. Начались перебои с продуктами, за хлебом стояли в очередях с пяти утра, как в войну. Однажды на дороге Карельников остановил свой «газик» возле севшего в грязь автобуса. Это был рейсовый автобус из облцентра. Он был битком набит бабами. Они материли шофера и вытаскивали в грязь мешки. У всех одинаковые мешки, по пуду примерно. Карельников увидел и сразу сообразил: пшено из города везут. Ему бы дать газ и уехать от греха подальше, но он захотел помочь шоферу, вступил в разговор. Кто-то из женщин его узнал. И тут началось! Как они кричали! Что они кричали! Как они еще не избили его! А избили бы, тоже были бы правы. А он стоял в грязи, слушал и ничего не смел сказать. Что скажешь, когда колхозницы в деревню из города пшено везут?..
Они работали много тогда: заседали, заседали, обивали пороги в области. Настроение было самое мрачное. На облактиве сообщили, что принято решение закупать хлеб за границей.
Купцов тоже был не в себе. Но, переступая порог дома, он умел отключаться, хоть на два-три часа. Смотрел телевизор. Или Инна Ивановна читала ему вслух.
Неуемный Лях составил тогда письмо в ЦК с копиями в «Правду» и в обком. Там было много дельного, но резко сказано. Карельников посчитал, что колхозный агроном, член партии, безусловно, вправе обращаться в самые высокие инстанции со своими предложениями. Тем более что не один, наверное, Лях такой умный и такой смелый: пусть накапливаются, где надо, мнения рядовых работников.
Более того, у самого Карельникова тогда-то и явилась мысль предложить обкому в виде эксперимента составить хотя бы почвенную карту Михайловского района и по-новому решить вопрос с животноводством. Он понимал, что трудно осуществить, почти невозможно, но то ли Лях его заразил своей горячностью и верой, то ли у самого накипело, но Карельников решил рискнуть. Надо было только, разумеется, посоветоваться с Купцовым и, дай-то бог, заручиться его поддержкой.
И вот они приехали тогда для первого разговора.
Инна Ивановна, гладко причесанная, с милым, застенчивым лицом, не то чтобы полная, но плотная, крепкая, в аккуратном домашнем фартучке, накрыла на стол. Угощение было самое скромное: дешевая с толстыми кусками жира колбаса, бычки в томате, картошка, помидоры своей засолки. В графинчике – неразведенный спирт. Разговор шел сначала о том, о сем. Алексей Егорыч поглядывал на телевизор и сел так, чтобы легче поворачиваться к нему. Молодой, длинный, городского вида, рыжий, как огонь, Лях сразу, видимо, произвел хорошее впечатление на Инну Ивановну.
– Вы уж не обращайте внимания на меня, – говорила она с милой улыбкой, – я ничего этого не умею, – она кивала на стол, – вон Виктор Михайлович знает. Теперь все как-то по-новому, вы, молодые, лучше знаете. А я и не бываю нигде…
– Да ну, будет вам, Инна Ивановна, – возражал Карельников.
Лях смело ходил по комнате, шлепал тапочками, все рассматривал: цветную пленку, прикрывающую экран телевизора, узор висевшего на стене ковра и несколько акварельных картинок на другой стене. На них было сплошь море – с парусом, чайками, с силуэтом крейсера.
– Это все сын рисует, он у нас в Севастополе, в училище, – Инна Ивановна поглядела на мужа и вздохнула.
Карельников знал, что младшему Купцову не нравится служба, что он хочет уйти в университет, но отец уперся, настаивает, чтобы сын стал офицером: военная специальность в руках, обеспеченность, основательность, строгость – можно не бояться, что лоботрясом вырастет. А Инна Ивановна держала сторону сына, жалела его и мучилась отцовской непримиримостью.
– Ничего картинки, симпатичные, – сказал Лях, – а что-то книжек я у вас не вижу?
– Да вот все не перенесем после ремонта из сарая, – ответила Инна Ивановна, – стеллаж все хочет Алексей Егорыч, а руки не доходят…
Купцов, не отводя взгляда от телевизора, сказал:
– Сколько говорю, ты бы хоть Ленина мне перенесла, поставила.
Купцов сидел в кресле, добрый, размякший, в пижаме поверх белой рубашки с галстуком, очень спокойный, – и не поверишь, что еще утром, днем у него было угрюмое, отчаянное выражение, что шло долгое бюро, на которое из-за распутицы половина народа опоздала, а три человека вовсе не приехали. К Ляху обращался он грубовато-милостиво, несколько раз подчеркнул, что Лях, мол, молодой совсем.
– Из молодых, да ранний, – смело, со смехом отвечал Лях.
Он был местный, кувалдинский, восемнадцати лет стал работать учителем, потом уехал в Москву, в Тимирязевскую академию. Проучился почти четыре года, вернулся без диплома и с партийным выговором: поссорился с профессорами. Злой, как тысяча чертей. Книг навез два чемодана, да еще багажом потом пришел ящик. Хоть диплома не получил, но в Кувалдине взяли его агрономом, и к моменту этого разговора с Купцовым Лях работал уже третий год. Прославился сразу тем, что не хотел кукурузу сеять, а когда заставили все-таки, посеял вполовину меньше того, что велели. И состоялся тогда у них с Карельниковым памятный разговор (Карельников только еще приехал в Михайловск).
– Что ж, – говорил Лях, сидя один на один с Карельниковым в кабинете и вызывая у Карельникова чуть ли не ярость своим развязным городским видом, манерой прямо говорить о том, о чем никто в открытую не говорит, и, главное, открытой насмешкой и неприязнью к нему, Карельникову, секретарю райкома. – Что ж, – говорил он, – завтра вас заставят медведей в Выдринском лесу разводить, вы и будете разводить?
– Да, будем! – со злостью отвечал Карельников.
– Вон что! – Лях посмеивался, но узкое лицо его, усыпанное рыжими веснушками, подрагивало от злости. – Если будете, то нам и говорить тогда нечего.
– А не будем, – сказал в запале Карельников, перегибаясь через свой стол и почти ложась на него грудью, чтобы приблизить лицо к Ляху, – а не будем, то нас уберут, а вместо нас других поставят, которые будут. Ясно?
– Ясно, – Лях продолжал усмехаться, – своя рубашка ближе к телу. А кто поставит-то?
– А тот поставит, кто интересы государства соблюдает, а не интересы одного колхозишка!
– Колхозишка! – Лях встал со стула, огляделся, проверяя, одни ли они в кабинете, и, тоже наклонясь к Карельникову поближе и глядя прямо в глаза, сказал: – Пошел бы ты тогда к такой-то матери, понял?..
С той поры прошло много времени, с Ляхом друзьями стали, по ночам то у него в Кувалдине, то дома у Карельникова все дела и мысли обсудили, самое главное выяснили: не хочется и Карельникову «медведей разводить». Вспоминали не раз и тот, первый, разговор, смеялись. «Я тебя из партии собирался выгонять, в тюрьму мог бы запичужить», – говорил Карельников. «Я и ждал, – смеялся Лях, – приехал от тебя, чемодан стал складывать, да одумался: ни черта он мне не сделает, не те времена». – «Те не те, сделал бы». – «А шут с тобой, – отвечал Лях, – я не боюсь. Это что – стоять за правду, ты за правду посиди, как говорится…»
Он и в самом деле не боялся ничего, рубил сплеча, и Карельников не раз учил его быть потише, поосмотрительнее. Но без толку. Теперь, у Купцова, тихий домашний разговор быстро перешел тоже в перепалку и сдвинулся на политику, на положение дел в районе и вообще в стране. Удивительное дело. Карельников давно заметил такую штуку: где бы и какие люди ни собрались – в чайной ли, в поезде, в гостинице, в гостях ли друг у друга, – о чем бы ни завели сначала разговор – о выпивке, о бабах, о ребятишках, – все равно в конце концов перейдут на спор и крик насчет того, что ж это у нас делается да когда же это будет порядок. Врачи толкуют о своем, инженеры о своем, учителя, рабочие, журналисты, даже военные, кого ни возьми, – каждый расскажет какую-нибудь нелепицу, и у каждого душа болит, каждый видит и понимает беспорядок, видит, как сделать лучше. Видит, а сделать может мало, и оттого тот, кто посильнее, кипит злостью, а кто послабее, вовсе машет рукой: «Да ну его все к черту, бесполезно, плетью обуха не перешибешь!» Как будто какой-то бог надо всем витает, право слово, и всех по рукам связывает – витает, и все тут, хоть тресни!..
Как ни старалась Инна Ивановна смягчить разговор, перевести в шутку, как ни останавливала то Ляха, то мужа, но они перешли на крик, а потом и на оскорбления. Выслушав поначалу Ляха, Алексей Егорыч прямо сказал:
– Это все глупости! Это значит, крути назад, так, что ли?
– Ну, если ошиблись, то ошибку лучше исправлять, а не углублять.
– Да почему это ошиблись? Кто сказал?
– Зачем же ждать, пока кто-то скажет, так, что ли, не видно?
– Кому видно-то? – В этом месте разговора Алексей Егорыч еще не упускал из внимания телевизор и чувствовал себя правым.
– Да хоть мне! – говорил Лях.
– Ну, это… – Купцов смеялся. – Это… извини, конечно, агроном, но это еще не велика колокольня-то… Повыше есть.
– А не очень ли высоко-то будет? От земли-то? – спрашивал Лях. Он тоже пока держался спокойно, усмехался, его привычка спорить помогала ему.
Карельников не вмешивался, не поддакивал ни тому, ни другому, но Купцов, видно, понял, что Карельников оставляет его одного против Ляха, и не обращался к Карельникову. Инна Ивановна, как почувствовал Карельников, тоже осталась на стороне Ляха. В каком-то месте она даже сказала: «Вот и я Алексею Егорычу говорю…»
Разговор длился долго, стали кричать.
– Медведей прикажут разводить, – вспомнил Лях, – тоже станете?
– И станем! – кричал Купцов. – Станем, если надо! А вы иждивенцы, вас работать надо заставить, как мы работали! Рассуждать много научились, а работать – дядя! Молодые! Смена растет, надежда! Да на такую смену глаза не глядят! Работать надо, ра-бо-тать, а не языком трепать! И без ваших планов работы хватит, успевай только!
– Да зачем же волоком тащить, пуп надрывать? Вот это-то нам зачем дадено? – Лях стучал себя кулаком в лоб.
– Во-от! – со злорадством отвечал Купцов. – Вам бы только ручек не замарать! Смене-то нашей! – Он победно обводил всех взглядом, но Карельников смотрел в пол, а Инна Ивановна не смотрела на мужа тоже.
– Думаете, только вы болеете за страну, за свой народ, а нам наплевать, да? – Лях уже понимал, что Купцова не убедить, и ему стало все равно, он тоже перешел на крик. – А не кажется вам, что вы уже больше за себя болеете, за свой престиж?..
Потом пошли вообще невообразимые слова, и кончилось дело почти скандалом.
– Мальчишка! Всякий сопляк, понимаешь!.. – кричал Купцов в комнате, когда Лях уже яростно натягивал ботинки в прихожей. – Мы жизнь прожили!..
Инна Ивановна его увещевала.
Лях, открыв дверь (Карельников решил остаться, чтобы успокоить немного Купцова: он чувствовал себя виноватым перед ним), закричал напоследок через коридор:
– Вы бы лучше Ленина достали да почитали!
– Мальчишка! – крикнул в последний раз Купцов, уже сдерживаясь, уже оценивая то, что произошло, и то, что сам кричал в запале и как вел себя.
Словом, все вышло так, что хуже не придумаешь. Карельников еще посидел молча, глядел, как наливает Инна Ивановна мужу лекарство, – по комнате запахло валокордином.
– Деятели, понимаешь… Стиляги, понимаешь. – Купцов должен был еще выпустить, выговорить последние слова, Инна Ивановна показала Карельникову глазами, чтобы он больше не спорил.
Карельников посидел, помолчал и незаметно ушел. Ушел, думая, что ему больше не работать с Купцовым: уж очень он расписал ему накануне Ляха.
Но на другое утро, когда встретились в райкоме, Купцов не вспомнил вчерашнего, только вид у него был угрюм и обращение официальное. Потом постепенно, за делами, скандал с Ляхом забылся. Только однажды при случае Алексей Егорыч сказал:
– Неужели своих дел у нас каждый день мало? Что ты еще-то себе на шею вешаешь?.. И в людях надо разбираться получше: не заметишь, как под монастырь подведут.
Карельников долго не напоминал о Ляхе, но потом, месяцев через пять, дела стали поворачиваться так, что все заговорили о том, о чем толковал раньше Лях. А теперь вот, спустя год, все настолько изменилось, что они с Купцовым решились посылать в обком записку. А ведь в записку попала не одна мысль непутевого кувалдинского агронома.
И именно к нему ехал теперь Карельников, чтобы рассказать о постигшей записку судьбе.
Он мог спокойно предаться своим мыслям, потому что впереди, метрах в двухстах, ровно шла «Волга» Нижегородова. Карельникову оставалось лишь машинально повторять ее ход, снижать или прибавлять скорость, вслед за ней объезжать лужи, держаться в ее колее. Дорога поднималась все выше, слева густел лес – это был тот самый Выдринский лес, о котором любил упомянуть Лях и который почти как свой, колхозный, пользовал Нижегородов, имевший, разумеется, «своих людей» в лесничестве. Справа отлого вниз уходили поля, весело зеленевшие молодой светлой озимью. А ниже опять луга, луга, а за ними снова лес. Солнышко продолжало светить, просторно было и светло, и Карельников подумал: «Красивая земля…». Ему стало совсем тепло, он давно ехал без куртки, а теперь снял и кепку. Он снова вспомнил дом с занавесками и нынешнее утро, как он собирался и выехал, – показалось, это было давно, вчера или позавчера, а прошло всего полдня.
Они проехали примерно полпути до Замурзаевки, и Карельников, отвлекшись, стал думать про Замурзаевку и про то, как и во сколько приедет он в Кувалдино. Но тут (дорога забирала влево, к лесу, и поля справа ровнялись, делались просторнее) он увидел, что «Волга» впереди приблизилась, стоит, и там, возле нее, и мотоцикл Винограденко, и еще грузовик, лошадь, а издали, из-за загиба поля, напрямик к этому месту движется трактор с сеялкой.
Через полминуты и Карельников подъехал сюда. Он глянул на свое раскрасневшееся лицо в машинное зеркало, надел кепку и вышел, оправляя рубаху под ремень солдатским, спереди назад, жестом.
Нижегородов, его бригадиры, капитан (Карельников как-то позабыл о нем, пока ехал) уже вышли и стояли группой с другими людьми, колхозниками, среди которых Карельников узнал знакомого старика Ивана Яковлевича. Собственно, не такой он и старик, лет шестидесяти, но носит бороду, усы короткие, побитые сединой. Сам сухощав, невысок, но крепок, молчалив и имеет привычку, держа руку возле рта, мелким, обезьяньим жестом, щепотью потрагивать, пощипывать бороду подо ртом и усы. Думает, молчит и пощипывает.
– Сею-д, – отвечал он теперь Нижегородову, – два-д гона-д прошел пока-д, а там-д хрен-д его-д знат…
На старике были доверху извоженные в грязи сапоги, такой же, как сапоги, грязный и мокрый ватник и зимняя шапка. Прищурясь от солнца и потрагивая бороду и усы, он глядел на медленно приближающийся трактор.
«Сеет, черт эдакий», – Карельникову весело стало от вида работающих людей, от крепкого, напряженного звука трактора и особого запаха «посевной земли» – запаха плотного, полного, густого, извнутреннего – так и кажется, что земля дышит и обдает тебя, как изо рта, живым и теплым дыханием. Самые это лучшие дни – сев и жатва.
Карельников поздоровался со всеми за руку: с парнем-шофером, с бабой-возницей, которая стояла возле телеги, нагруженной мешками с зерном, с Иваном Яковлевичем.
– Сеете, значит? – тоже спросил он старика.
– Сею-д, – отвечал Иван Яковлевич, – маленько-д хоть взять, а то беда-д…
Трактор приближался, все умолкли и ждали его. В стороне разговаривали капитан с Райхелем, видно подружившиеся за дорогу. Райхель сказал громко:
– Да это что! Это уж известно! Народ больно шерудированный стал, все превзошли!..
Нижегородов поманил Карельникова, чтобы тот наклонил к нему ухо.
– Слышь-ка, Виктор Михайлыч, майор рассказывает… в Америке-то…
– Ну?
– Вот сидит, значит, на взгорочке человек в шляпе, в кресле, значит, складном. А рядом – вездеход, под рукой, значит. А над ним зонтик, от жары чтоб. И еще у этого человека на груди бинокль, на машине рация, и он сидит и из холодильника пиво достает и хлещет…
– Ну? – Карельников усмехался.
– Ну вот. Кто такой, думаешь? Сидит себе и в бинокль осматривается?
– Ну и кто же?
– Не угадаешь? А пастух это ихний, вот кто!
– Ну и что?
– Арригинально!
– Да ну тебя, Сергей Степаныч!
– Чего? Врет, думаешь?
– Может, и не врет. Ну, а что тебе-то?
– Да ничего, конечно, но арригинально! В бинокль и пиво жрет…
Трактор был совсем близко. Тракторист, высунувшись из кабины, кричал назад прицепщику и севцам. А еще через минуту, не дойдя до края поля, стал разворачивать трактор сеялками к дороге. Возница потянула вожжи, Иван Яковлевич, а за ним вся группа перешли к месту разворота трактора. На ходу Карельников еще сказал Нижегородову:
– Возьми да и ты своим пастухам по биноклю купи, пусть глядят.
Когда трактор остановился, севцы и прицепщик спрыгнули со своих мест, поспешили к подводе с мешками. На левой сеялке севцом стояла молоденькая девчонка в распахнутом ватнике и резиновых сапогах. Карельников ее узнал, это была Любаша Мошкова, солистка районного самодеятельного хора. Хорошенькое ее личико густо покрыла пыль, ватник тоже был в красноватой – от протравы – пыли. Она подбежала к подводе, вместе с другими стала вытягивать тяжелый мешок с зерном. Карельников подошел помочь.
– Здравствуй, Любаш! – сказал он.
– Здрасте, Виктор Михайлыч, здрасте! – Лицо разгоряченное, глаза веселые. – Да что вы, спасибо, мы сами!
– Ладно, ладно. Ты чего тут?
Любаша работала у Нижегородова в детских яслях; в поле или на ферме Карельников никогда ее не встречал.
– А я люблю! – сказала Любаша. – Я на сев всегда прошусь, весело!
– А не тяжело?
– Да ну!
Карельников взбросил на плечи тяжелый мешок, пошел, глубоко, увязая в сырой, жирной земле. Любаша бежала рядом, и они вместе ссыпали красное, сухо зазвеневшее зерно в бункер красной, еще свежей после ремонта сеялки.
– Спела бы, что ли! – весело сказал Карельников.
– А я там пою! – в тон ему ответила Любаша и кивнула в поле. – Сегодня как пошли в первый гон, так я запела. Володька смеялся вон!
Она показала глазами на второго севца – низенького, крепкого парня, который тоже принес мешок на свою сеялку и поглядывал оттуда на них.
– Мы нынче всю ночь ждали, – говорила Любаша. – Иван Яклич говорил: утром начнем. А утром опять дождик. Вот только и начали.
Сеялки загрузили быстро. Карельникову досталось отнести только два мешка. Нижегородов поговорил с трактористом, и тракторист снова пошел к машине и занял свое место в кабине. Невыключенный, ровно стучавший мотор взревел, и весь агрегат – трактор и три сеялки – двинулся и сразу ходко пошел вперед. Любаша помахала рукой и засмеялась.
– Хоть бы до вечеру-д походил, – сказал рядом с Карельниковым Иван Яковлевич. Он ощипывал бородку и глядел не на трактор, а вверх, на восток, где опять по голубому небу натягивалась белая марля.
– Ну ладно, – сказал Нижегородов, – айдате, а то соскучил у нас майор. Соскучил, товарищ майор?
– Нет, ничего, – скачал капитан, – интересно. На полях страны, как говорится.
– Это что! – Нижегородов опять засуетился. – Сейчас не то увидишь! Сейчас мы тебе Бурцева представим… Ну ладно, Иван Яклич, так ты ночь-то сей, если что.
– Знамо-д, – сказал старик.
Все распрощались, сели по машинам. Только Карельников постоял еще, глядя на удаляющийся трактор.
Винограденко возвращался, чтобы объехать другие поля, посмотреть, как там дела, и распорядиться насчет семян. Грузовик пошел следом за ним.
Райхель с капитаном и Нижегородов опять сели в «Волгу». Тут, на краю поля, остались Иван Яковлевич да баба-возница, которая прилегла на землю, на пустых мешках, как только отъехало начальство.
Карельников наклонился очистить сухой веточкой сапоги и близко перед глазами увидел гладкий, перевернутый лемехом, не попавший под борону пласт земли – в прожилках белых корешков, старой травы. Землю вокруг осыпало светлое красноватое зерно, и пахла она опять сырым сильным запахом – духом весны, сева, работы. И Карельников сказал себе: «Нет, ничего. Ничего, ничего…»
Минут через двадцать, догнав «Волгу», которая легко, на хорошей скорости, шла по подсохшей дороге через сосняк, Карельников вслед за нею въехал в Замурзаевку. Лесная эта деревня, несмотря на название, была маленькая и аккуратная, с чистыми домами, половина крыта железом. Промчались по пустой почти улице, пугая кур и маленьких ребятишек, выползших на солнышко, – дом Бурцева находился на том краю, немного на отшибе.
Дом был старый, но с переделанной, непривычно для этих мест приподнятой шатровой крышей – там, на широком чердаке, Бурцев оборудовал себе комнату для работы. Еще отличался дом пышно вырезанными кружевными наличниками, выкрашенными в голубое, и знаменитыми водосточными трубами, о которых далеко шла молва. Когда Карельников подъехал, Нижегородов, приобняв капитана за талию, уже показывал ему эти трубы.
Бурцев, самоучка-скульптор, в некотором роде достопримечательность Михайловского района, сделал водосточные трубы в виде русалок: от деревянных, по полметра примерно, баб с зелеными волосами и коричневыми круглыми, как яблоки, грудями шли трубы и внизу заканчивались зелеными рыбьими хвостами. Поднятыми руками русалки поддерживали карниз и смотрели на прохожих круглыми глазами. Говорили, что ни одна старуха не пройдет мимо, чтобы не плюнуть в сторону деревянных баб.
В следующую минуту Карельников увидел и самого Бурцева. В желтой майке и надетом поверх пиджаке, в солдатских выцветших штанах, он выскочил на крыльцо, а следом за ним его домашние: дети, тетушки, сестра или племянница с младенцем на руках – человек восемь или десять. Лицо у Бурцева круглое, щекастое, оживленное, маленькие глазки так и сияют – он всегда рад гостям. Происходил он из чувашей. Несмотря на полноту, двигался быстро, живо, суетливо. Лет пять или шесть назад, когда над Бурцевым только смеялись, когда он жил впроголодь с многочисленным семейством в развалившемся доме, какой-то путешествующий столичный корреспондент явился в Замурзаевку и написал о Бурцеве в газете. Затем к Бурцеву приехали из областного управления культуры и взяли у него в областной музей деревянного коня с всадником – Карельников своими глазами видел этого коня в музее. Толстый богатырский конь с длинной гривой вылетал, как из волны, из куска дерева, слившийся с ним всадник в буденовском шлеме держал пику наперевес. Карельников мало понимал в таких вещах, но конь ему понравился. Да и многим он нравился, так что Бурцев с тех пор по сей день делал небольшие копии своего коня, и их можно было встретить у областного и местного начальства. Был такой конь и у Карельникова. Правда, Бурцев иногда вместо буденовца изображал на коне монгола, или пугачевца, или русского богатыря, и тогда скульптура соответственно называлась «Добрыня Никитич» или «Салават Юлаев». Но конь оставался неизменным. И еще то было интересно, что каждый конь и каждый всадник чем-то смахивали на самого Бурцева. Впрочем, и в других бурцевских работах можно было заметить это сходство.
С тех пор Бурцев прославился. Нижегородов взял его под свою опеку, всем хвастал, что у него в колхозе свой; скульптор, ни в чем Бурцеву не отказывал. И Бурцев расцвел.
Теперь Нижегородов решил поразить Бурцевым «майора».
– Ну, Ваня, – кричал он громко, – покажь-ка! Покажь, чего у нас есть!
Бурцев, сияя круглым хитрым лицом, радостно пожал всем руки, глазки его не столько глядели на капитана, сколько на Карельникова, и суетился он больше возле Карельникова, и Карельников тотчас вспомнил: кто-то говорил, что Бурцев обещал – и аванс взял – сделать для пионерлагеря пионерку со знаменем и пионера-трубача, но до сих пор заказа не выполнил. И Карельников похмурился, готовясь напомнить об этом в удобную минуту.
Вошли в дом, чтобы все осмотреть и оценить. Дети, тетушки, собаки по знаку Бурцева остались во дворе, но потом все время кто-нибудь из них прорывался в комнаты и на чердак и молча присутствовал, дышал за спиной. Капитан протирал золотые очки и посмеивался, как человек, которому пообещали чудо, но который в чудо не верит. Нижегородов ступал впереди, обгоняя самого хозяина, и часто прерывал его, объясняя, чем замечательна та или иная вещь.
В первой обширной горнице рассматривали живописные картины Бурцева и расписанные им деревянные подносы, висевшие по стенам, – сказочные букеты самых ярких цветов – какие именно тут изображены цветы, Карельников, например, не мог бы сказать, пожалуй, Бурцев их сам выдумал. Какая такая в них красота, Карельников тоже понять не мог. Но капитан заинтересовался, оживился и стал быстро говорить с Бурцевым, часто упоминая слово «примитивизм». Чего-то, видно, капитан понимал, как в шампанском, и Бурцев оживился тоже и потом, объясняя и показывая, обращался уже больше к капитану.
Поднялись наверх – здесь на полу, на длинном столе, на полках, стояло с десяток начатых, небольших и покрупнее, бурцевских изделий, валялись куски дерева, разных размеров стамески и деревянные молотки. Внимание всех привлек выкрашенный в серебристую краску большой бюст старухи с печально опущенным лицом. Она совершенно походила на Бурцева, и все по очереди, поглядев на портрет, переводили взгляд на автора, чтобы удостовериться в сходстве. Оказалось, это портрет умершей бабушки. Бурцев начал было объяснять – так же оживленно, как про подносы, но Нижегородов перебил:
– Да это что! Ты покажи-ка, покажи-ка секрет!
Бурцев засмущался, но Нижегородов сам оборотился к кому-то из домочадцев, сгрудившихся в дверях, и тут же был принесен ковш воды.
Секрет в том заключался, что воду выливали в дырочку на макушке и из-под опущенных век бабушки медленно выплывали на серебряные щеки слезы.
Все примолкли и загрустили на минуту, один капитан несколько опешил и не знал, что сказать. Карельников, поскольку сам понимал мало и потому уже приноровился слушать капитана и как бы его глазами глядеть и оценивать, тоже подождал высказать мнение, хотя «секрет» его поразил, – надо же такое придумать!
– Странно, странно, – сказал капитан, – вот уж никогда не думал!
Карельников понял, о чем капитан говорит, и ему самому пришло в голову, что это действительно странно: сидит в лесу, в какой-то Замурзаевке, человек, семейный, в летах, никому не ведомый, и занимается, как помешанный, вот эдакими штуками. Что это? Почему? Зачем?.. В самом деле странно.








