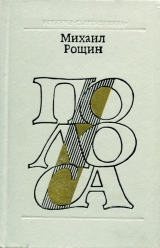
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Но просто так убила, ради любовника? Одни говорят так, другие говорят, отомстила за дочь Ифигению, – помните, которую Агамемнон принес в жертву, дабы ветры надули греческие военные паруса? А может, Агамемнон поплатился за Кассандру, которую привез из Трои как трофей и награду, доставшуюся ему при дележе добычи? Не так-то все просто, и, скорее всего, все, вместе взятое, погубило царя и полководца.
Стоя под стенами Микен, мы с Якобосом Камбанеллисом не спеша распутываем легенду. Я запоздало выступаю с осуждением Троянской войны, видя в ней причины начала упадка, Якобос же вежливо упирает на «человеческий фактор». Убийца Эгисф захватил власть и трон, но через семь лет был сам убит Орестом и Электрой. Дети Агамемнона, мстя за отца, убили и Эгисфа, и родную мать. В результате последовал знаменитый суд над Орестом, в котором отразился переход человечества от матриархата к патриархату, от материнского, кровного права к отцовскому (об этом написал Ф. Энгельс). Голоса на суде разделились поровну: р а н ь ш е самым страшным преступлением, не имеющим оправдания, считалось матереубийство, и, по-старому, вина Ореста была выше вины Клитемнестры: она не состояла с убитым мужем в кровном родстве, а Орест с нею состоял. Но т е п е р ь, в н о в о е время, когда вершился этот суд, супруг уже был господином в семье, а узы брака священны. И сама Афина, как вы помните, подала свой решающий голос в оправдание Ореста.
Да, вот так мы стоим в тени фургона, торгующего соками и разной мелочью, сувенирами и открытками, под изъеденными вечностью стенами Микен, держим в руках бумажные стаканчики и перебираем подробности старого, как мир, но странно волнующего мифа. Не зря Эсхил в «Орестее», трилогии, и Софокл и Еврипид написали на его основе великие пьесы. Агамемнона убил Эгисф, а кто он сам был такой? Я, разумеется, не помнил. Якобос стал продолжать свой рассказ. И вот вам судьба Эгисфа: мама родила его от своего (ее же) отца Фиеста. Так что уже от рождения он был и сыном и внуком своему отцу. Пелопия (мама) подкинула младенца пастухам, как и водится в хорошей сказке, а пастухи отдали его потом в царский дом, где он и стал воспитываться. А кто тогда царствовал? Атрей. А кто был Атрей? Брат Фиеста. Да-да. Но братья страшно враждовали, потому что Фиест в свое время успел соблазнить жену брата Аэропу, за что Атрей утопил Аэропу в море. А Фиесту отомстил так: заколол его детей, изжарил и их мясом накормил Фиеста. Вот такие дела. Боги прокляли за это Атрея и весь его род, велели ему идти искать брата и вымаливать пощады, но, пока Атрей скитался, он встретил бедную Пелопию. А Пелопия только-только успела зачать от незнакомца, который тоже встретился ей в пути. И она, разумеется, не знала, что этот незнакомец ее отец Фиест. Словом, Атрей женится на Пелопии, она рожает тайно мальчика и вот тут и подбрасывает его пастухам, чтобы Атрей не узнал. А обратно мальчик попадает в этот дом уже подросшим. А когда вырастает совсем, Атрей именно ему велит убить Фиеста. И Эгисф готов. Но тут Фиест узнает сына, и все тайны раскрываются. Пелопия в ужасе закалывается. Эгисф этим же мечом убивает не папу, а дядю Атрея, а папу (он же дедушка) выводит на трон. И тем самым сам становится наследником микенского трона.
Но… между прочим, у Атрея тоже были дети, тоже сыновья. Кто? А как раз Агамемнон и Менелай, Атриды! Вот как ниточка-то вьется. И вот кто будет отвечать за зверства отца. После смерти Атрея они вынуждены были бежать из Микен. Но когда Фиест был изгнан – вернулись. (Какой сериал можно было бы сделать на телевидении – иным современным сто очков даст!)
А как сухи и мертвы микенские осыпающиеся камни, как пусто окрест, и господствуют над местностью природные вершины, а не белоснежная и разрисованная терракотовыми и голубыми красками крепость. И ход к морю, и вид словно сузились и заросли от времени. Две с половиной тысячи лет назад откипели здесь страсти, сникла родовая кровосмесительная и кровопролитная схватка, пахнувшая звериной шкурой и копотью пещеры. Какие страсти правили людьми, раздували им ноздри, какие неистовые влечения! Желание жгло – хоть умри, сила ломила силу, брат рвал горло брату, матери душили чужеродных младенцев, и царицы дрались, словно деревенские бабы. Самцы бились за самку и, победив, прыгали на нее с еще кипящим кровью соперника ртом… Какая тишь над Микенами и вокруг, какой все растворяющий зной. Пелопоннесский зной, пелопический, пелопский… «А кто такой Пелоп, Якобос?» – «Пелоп? Сын Тантала, основатель Пелопоннеса». – «А-а. Родственник Пелопии?» – «Родственник? Гм. Он был отцом Атрея и Фиеста. Они все родственники. Когда Тантал пригласил богов на пир, он разрубил своего сына Пелопа на куски, чтобы угостить их». – «Ну-ну, Якобос, спасибо, хватит…» – «Здесь есть перекличка с библейским мифом об Аврааме. Боги отказались от жертвы Тантала и велели Гермесу собрать и оживить Пелопа…» – «Так Исида собирала в Древнем Египте Осириса». – «Да-да, просто удивительно, как древние народы, которые никак не могли общаться между собой, сочиняли почти во всем схожие мифы…»
Пока мы стояли и разговаривали, подкатил, нарушая однообразие выжженного пейзажа, шикарный туристический западногерманский автобус: двухэтажный, разрисованный яркими пальмами, волнами и парусами, с темными противосолнечными окнами, с откидными спальными креслами – не автобус, а корабль, дитя 1986 года. Не распахнулась, не открылась, а о т о ш л а сверкающая дверь из правой его скулы, и стали выползать наружу голоногие, в шортах, панамах, шейных косынках белотелые и красно-обгорелые мюнхенские парнишки и девчонки, очкарики, старшеклассники, вялые и пресыщенные от впечатлений.
И нельзя было не подумать, глядя на их небрежные походки, как комфортна и бесстрастна их жизнь, регламентированы чувства, убоги страсти, отмерена температура желаний. Не зря две с половиной тысячи лет причесывали дикого человека. Впрочем, разве не случается и им укокошить родного дядю, а то и маму? И разве не бывает, что очкарик с компьютером не имеет понятия о том, что мама родила его не от папы, а от дедушки, что живет он не у папы, а у дяди, а дядина жена, оказывается, на самом деле ему мать, а отомстить он должен врагу, а враг – это его родной отец плюс дедушка… Юные акселераты вполне равнодушно скользят полусонными глазами по останкам древнего царства, но нет, все-таки в конце концов собираются, разминают длинные конечности и топают к развалинам.
А мы отправляемся еще к могиле Агамемнона, сидим в прохладном сумраке удивительного сооружения: тяжелые камни сведены древними мастерами в купол поразительной соразмерности, подобный полускорлупе яйца. И как всегда при виде подобной конструкции, лезут в голову всякие фантазии: да могила ли это? да они ли это построили? да как смогли?
Они, они, кто же еще! Люди не только рвали друг другу глотки – они изучали геометрию, тесали камни, выращивали виноград, ловили рыбу, ковали оружие и умели найти под землей воду, железо и золото. Но вдруг кто-то похищал жену, и тут все начиналось. Самый древний историк, Геродот, и тот так рассказывал о том, от «каких причин пошло кровопролитие»: мол, эллины, «внесли оружие в Азию прежде, нежели персы в Европу. Ибо персы думают, что похищать жен пристало несправедливцам, стараться мстить за похищенных – безумцам, благоразумные же люди оставляют сие без внимания, ибо ясно, что если бы женщины сами не хотели, их бы не похитили. Посему-то персы о похищенных своих азийских женщинах никакой заботы не имеют: эллины же из-за своей лакедемонянки собрали великий поход».
Разумеется, теперь мы знаем, что причины даже самых первобытных войн бывали все же другие, но поводы вполне могли быть такими. Когда все готово к войне, когда настоящие причины начинают сталкиваться и наползать друг на друга, словно льдины, повод всегда отыщется, и благоразумие одних уже не остановит безумия других.
Еще два слова о Пелопоннесе, земле Микен, Спарты и Элиды. Наш путь привел нас в конце концов в Навплион, первую столицу новой Греции, которую борцы за ее освобождение, «капитаны», провозгласили в 1822 году. Маленький городок теперь ничем не примечателен, кроме этой исторической даты, но над ним, на горе, стоит гигантская крепость, выстроенная здесь в XVII веке венецианцами. Она создана по всем правилам позднего фортификационного искусства, продуманно, мощно и изысканно, с учетом уже существующей корабельной артиллерии, – ее не взять было ни с суши, ни с моря. Виды с ее стен открываются невероятные, впечатление она производит грандиозное. Но все-таки это нечто чуждое Греции, – от крепости веет холодом и рационализмом, грекам, как мне кажется, несвойственным. Чужая крепость, выстроенная наемниками по заказу захватчиков. Красивая, в абсолютной сохранности, господствующая над целым заливом, но все же какая-то не греческая. Ее выстроили, когда она уже, в сущности, была не нужна, не могла ничего изменить. Так тоже бывает: линкор еще строят, а он уже не нужен.
От выспренности хочется поскорее спуститься опять к земле, пусть сухой и колючей, но мирной и плодонасыщенной, жаркой и пряной, и к морю, украшенному белыми дальними парусами. «Так что ж мы медлим в море отважиться. / Как будто зимней скованы спячкою? / Скорее встанем, весла в руки, / Крепким напором на шест наляжем, / И оттолкнемся, в море открытое. / Направив парус, реей расправленный…» Так писал поэт Терпандр всего-навсего в седьмом веке до нашей эры. Этот Терпандр, уроженец Лесбоса, между прочим, был музыкантом и певцом в Спарте, поющим поэтом, бардом, как теперь говорится, и прославился тем, что изобрел семиструнную лиру вместо четырехструнной. Вот вам и седьмой век до нашей эры! Господи, как связаны между собою времена. И хотя еще Шекспир восклицал, что эта связь распалась, но нет, она жива – жива, пока живы люди, – барды, вспомните Терпандра!..
ЭПИДАВР
Была Москва, зима, сидели в хорошей московской квартире, с красной мебелью, картинами по стенам, синей скатертью и синими салфетками, большой компанией, и среди всех своих были греки, тоже актеры, а значит, тоже вроде свои, – она, Джени, запомнилась широкоскулой, в чем-то шелковом, фиолетовом, золотые цепи с камнями на шее, рука не выпускает сигареты, голос хрипит, умные глаза, а он – белозубый, все время смеющийся, лохматый, высокий и мощный, очень похожий на русского мужика, простоватого и веселого, и зовут почти что Костей – Костас. Да, с ними была пышная, полная, с красивой головой на античной шее, с античной же прической – волосы вверх и схвачены нарядной лентой, – гречанка! богиня! – оказалась нашей переводчицей. Смеялись, шутили, произносили слово «Эпидавр», я не придал ему значения…
Сейчас с заднего сиденья машины милая маленькая женщина Марина читает по путеводителю про Эпидавр, я тоже плохо слушаю, отвлекаюсь дорожными видами, – я ведь уже знаю, что Эпидавр не просто местечко на берегу, но и знаменитый древний театр, который буквально из-под земли раскопали археологи, и там с тридцатых годов снова стали играть, давать спектакли, главным образом, древние трагедии. Но я все еще не видел Эпидавра и теперь, задним числом, могу сказать, если бы не увидел, а только слышал, читал или даже посмотрел фильм, все бы не знал, не имел представления, потому что Эпидавр – это Нечто, Совокупность, не просто театр или представление, но много большее.
Сейчас я попытаюсь рассказать.
Дорога бежит внизу, среди склонов лесистых мягких гор, вокруг одна природа, при чем тут театр? Но вот маленькая гостиница, первые упреждающие «кирпичи», – но мы гости, нам можно, едем чуть дальше, идем потом вверх пешком, – горы кругом, лес, все открыто, и вот – театр. Серокаменная чаша его, почти полусфера, вправлена прямо в склон горы. Пятьдесят или больше каменных ступеней-рядов, оставленных точно такими, как их раскопали, без реставрации, поднимаются вверх раскрытым веером. Их режут на секции лучи-дорожки сверху донизу. Внизу абсолютно круглая и ровная двадцатиметровая арена-сцена. Ну, вроде кусок стадиона под открытым небом. Гиды, показывая древний театр и демонстрируя его акустическое чудо, обычно загоняют туристов на самый верх и, ставши в центре сцены, шуршат листом бумаги. И звук повсюду слышен.
Прежний портал театра и вход разрушены, сейчас день, солнце, пусто – и сам театр и эти декоративные развалины глядят на нас слепым старческим безразличным взором. Гремят цикады, летают дикие голуби, ничто не предвещает того, что будет вечером.
А вечером Джени и Костас, знаменитые актеры, любимцы греческой публики, создатели и владельцы своего театра, который находится в центре Афин, почти рядом с парламентом, будут играть в Эпидавре «Медею». Пока что мы сидим с ними за деревянным столом летнего ресторанчика, под зеленой крышей, сплетенной виноградом, смеемся, радуемся нашей встрече, – они обожают Олега, который работал с ними над спектаклем в прошлом году Костас отпустил двухнедельную бороду-щетину, в его руках административные дела театра, и сейчас вокруг несколько помощников, разговоры, распоряжения, ищут сценографа, – Костас в распахнутой куртке на голое тело, на пузе царапина, командует, но все равно то и дело озаряется улыбкой. Джени все так же горбится над столом, та же сигарета в руке, голос хрипит, одета в какой-то развевающийся, до пят, балахон… Лучше нет этих актерских вольных посиделок, когда вдруг соберутся, есть время поболтать, посплетничать, перемыть косточки всем, от Москвы до Нью-Йорка, собрать на себя внимание или, наоборот, уж в такой-то компании великодушно дать выступить другому, но быть готовым и легко вступить, сострить, подыграть, рассказать к месту байку, так вдруг показать, скопировать кого-то из знакомых или даже из присутствующих, чтобы все покатилось со смеху. Но впрочем, времени нет, все понимают, что вечером им играть, да еще здесь, не шутка. Так что настоящая встреча и застолье переносятся на потом, на послеспектакля, то есть, считай, на ночь, поскольку спектакль начинают в 9.15, когда садится солнце. (Хотя древние играли днем, и иногда просто с момента восхода солнца, когда оно выходило из-за соседних гор. «О, не медли, не медли, заря встает…» – с этими словами выходит на сцену Электра Еврипида, а Электра Софокла вторит: «Солнца свет непорочный! Ты, о землю объемлющий воздух!»)
…Я сел на теплый камень неподалеку от входа, обозначенного двупроемным мраморным порталом, усадил с собою рядом другого греческого писателя – Манолиса Корреса, чтобы задавать ему вопросы, и стал смотреть, как народ идет в театр. Замечательное зрелище! Я часто в таких случаях говорю, что лучший театр – это публика. Дело в том, что каменный амфитеатр вмещает двенадцать – тринадцать тысяч человек, а сегодня, как мне сказали, продано пятнадцать тысяч билетов. 15 000! И вот примерно около восьми часов эти пятнадцать тысяч начинают подниматься снизу, от сотен своих машин и автобусов, которые они пригнали сюда, к театру, в основном из Афин (это три часа езды через Коринфский перешеек и узкий, как нож, Коринфский канал). И я словно увидел всех греков, всю нацию, темноволосую и темноглазую, смуглую и простолицую, крестьянски-неторопливую и вместе по-городскому экспансивную. Я видел уже однажды подобное шествие: в Нью-Йорке, в Центральном парке, люди тоже шли в открытый театр, на Шекспировский фестиваль, который организовал продюсер Джо Папп, привлекая зрителей бесплатными билетами. Но там был пестрый и многоликий люд Нью-Йорка, а здесь… впрочем, похоже, похоже. Цепочка синих полицейских направляет все густеющий поток, много детей, которых греки любят всюду таскать за собою, даже вечером на «Медею» и даже ночью в таверну, – девочки в нарядных платьях, чулочках и бантах, а один мальчишка в полной светлой тройке, с огненной бабочкой-галстуком, держится джентльменом. Идут причесанные и нарядные женщины с пузатенькими мужьями в летних пиджаках, идут девушки в мини-юбках или белых хлопковых длинных платьях, сквозь которые просвечивают истончившиеся уже почти до ленточек трусики и лифчики. А еще чаще нет лифчиков. Идут белоснежной группой молодые морские офицеры, стройные, с болтающимися золотыми кортиками. (Греки или американцы? Ведь прямо в самих Афинах торчит крупная американская натовская база, электронные уши и глаза Средиземноморья. Нет, офицеры греческие.) Идут туристы, в одиночку и группами, немцы, французы, и опять – множество молодых людей, иные прямо с мотоциклетными шлемами в руках или салазками-рюкзаками за плечами, с пыльными ногами и лицами, – видно, шли пешком. А греки в основном семьями, парами, и если сделать выборку, вычислить средний возраст тех, кто заполняет сейчас потемневший на закате каменный амфитеатр, то цифра, думаю, не перейдет далеко за тридцать. У мужчин хорошие лица, у женщин добрые глаза. Юная актриса с голыми плечами и руками, знакомая Манолиса, подбегает и обнимает его. Хорошенькая, накрашенная, как кукла. Сегодня она играет в хоре. А вот красавица, вся в обтяжку: зеленая майка с длинным вырезом, ослепительно белые штаны до колен, клипсы величиной с блюдца, сама загорелая, почти до цвета кофе. Стоит и красуется, делает вид, что кого-то ждет. Я оглядываюсь на театр – о, он уже почти заполнен, стал цветным и живым, он еще озарен последними красными лучами, – как все стало нарядно! Белые чистые канаты отделяют сегмент от сегмента, люди движутся вверх по проходам. Неужели будет пятнадцать тысяч? Нам тоже машут, пора занять места. На камнях постелены поролоновые узкие матрасики в белых чехлах. Теплые рябые старые камни. 2300 лет этому партеру. Кто здесь сиживал? Какие люди это начали? Кто они были? Как они ездили сюда из Афин, если ездили?.. Да, ездили, – рассказывает Манолис, – и шли пешком, и путь сюда от Афин занимал две педели. Шли тоже семьями, ночевали в поле под открытым небом, разводили костры… Как началось? Это место связано с именем Асклепия (Эскулапа), оно считалось древними самым целебным в Греции, здесь особый воздух и микроклимат. Потом нам показали останки храма Асклепия, стадиона, бань, гимнасии, водолечебницы и здания, подобного больнице или поликлинике, где были, вероятно, общие спальни для больных. Великий врач, причисленный к богам, учился врачеванию у кентавра Хирона и, по мифу, способен был даже оживлять умерших. За это нарушение установленного порядка Зевс поразил первого реаниматора молнией, и у них вышел целый скандал с Аполлоном, поскольку не кто иной, как Аполлон, был Асклепию отцом, – не зря в древние времена врачевание имело эпитет искусства: «искусство врачевания». Увы, увы!.. Надо думать, больные не жалели средств жрецам Асклепия, и Эпидаврское медицинское управление могло позволить себе построить даже театр. Вероятно, здешние представления носили и религиозный, и целительный, и мистерийный характер, а может быть, и элитарный, изысканный, специально для богатых граждан, удрученных возрастом и болезнями. Но вряд ли. Для этого театр великоват. Приятней думать, что люди, как и сегодня, прослышав задолго о конкурсе драматургов в Эпидавре, собирались и шли сюда издалека, чтобы с утра, целый день, а то и не один день, смотреть новинки своих знаменитых и любимых авторов, принимать участие в оценке пьес и актеров, волноваться и спорить, плакать и смеяться, освежать душу могучим искусством.
Уходит за темную вершину горы солнце. Является опять тут же юный месяц. Люди все идут и идут, заполняют верхние ряды, а здесь, внизу, уже спорят о занятых местах, просят подвинуться, ведут под руки инвалида. Какие-то почетные места оставлены, охраняются синими молодыми полицейскими. Я оказываюсь рядом с маленькой Мариной, которая тоже приоделась сравнительно с дневным ее еле-нарядом, покачивает ножкой в синей лодочке-туфле, глядит синим умным загадочным взглядом. И курит. Кажется, все курят. Огоньки вспыхивают повсюду, как на стадионе во время футбола, дым пластается под загоревшимися фонарями, распугивает птиц. Чаша гудит человеческим гудом. Атмосфера нача́ла, уже редкие хлопки. Неужели пятнадцать тысяч? Да, да. И всех это возбуждает: люди, нас здесь пятнадцать тысяч, в театре, это же не шутка! На оставленные места приходит министр с пышными усами, его весело приветствуют. Другие занимают молодая женщина – член парламента и известная актриса и еще кто-то, вызывающий у публики оживление и интерес. Но все сидят тесно, плечо в плечо, и, если отклонишь спину, упрешься в колени сидящих позади. Сегодняшний спектакль в рамках большого афинского театрального фестиваля, мы, собственно, тоже его гости, и Олег, который один, кажется, изо всех в галстуке, – вдруг взял и надел! – раскланивается со знакомыми.
Но все, начало, начало. И гул стихает. И ярче горят прожектора, начинает светиться декорация: некое чрево, круглая красная дыра посредине, пятнадцать тысяч стихают, стихают. А оттуда, откуда пришли мы все, из аллей парка, движется процессия – идут актеры: в длинных одеждах, с знаменами, сверкая шлемами, копьями. Аплодисменты, потом артисты скрываются, и тут наступает тишина.
А между тем небо успело стемнеть и выпустить первые звезды, месяц засверкал ярче, цикады, как ни странно, смолкли. Сгасли прожектора над зрителями, «зал» погрузился во тьму. Удар гонга. И – миг поразительной тишины, когда все соединилось в одно: небо, горы, месяц, купы олив и сосен, выхваченных у ночи театральным огнем, единое множество людей, их желание и готовность к зрелищу, чувство и мысль, воспоминание, – полная тишина, замерли. Внезапный короткий плач ребенка откуда-то сверху – словно нарочно, как «подсадка» в цирке, и огромный зал, чаша подернулась, будто зыбью, единым же смешком – на секунду, впрочем, и все: начало! На сцену выбежала босая кормилица, рабыня Медеи, и полился первый монолог – рассказ о брошенной мужем Медее.
Современная режиссура (мы познакомились потом с Миносом Волонакисом), сценография, прекрасные костюмы, замечательный хор из пятнадцати актрис, страдающих и страждущих вместе с Медеей то со «своими» открытыми лицами, то в белых масках горя, смерти и безумия, мощная игра героини и Ясона – Костаса – весь спектакль был, разумеется, не реконструкцией древней постановки, как это могло бы быть в Эпидавре, а сегодняшним, страстным и бурным прочтением древней трагедии. Сказать правду, сама история о том, как Медея отомстила мужу за измену, убив его невесту, ее отца – царя Креона, а потом и своих детей от Ясона, меня так за весь спектакль и не увлекла и не взволновала, но я не в счет: я думал столь о многом, что спектаклю трудно было «войти» в меня, – так случается в консерватории, когда человек бежит туда после работы, едет – толкается в автобусе или метро, в голове его сумбур дня и планы на завтра, и нужно по крайней мере почти все первое отделение, чтобы хоть как-то настроиться и услышать, что хотят от тебя композитор, дирижер, солист и стоглавый оркестр. Кроме того, очень мешает незнание языка, и, как ни старались мне помочь переводчик Дима и маленькая Марина, одними глазами стараясь передать смысл особенно напряженных мест, я ощутил нехватку слова, как нехватку воздуха: пьеса все же «состоит» из слов.
Я думал об Еврипиде, о драматурге и писателе, и судьбе пьесы, которая впервые была поставлена в 431 году до нашей эры, то есть 2417 лет тому назад! Но мир помнит об этом, знает об этом, – разве не поразительно? Я сам, бывает, жалуюсь: ах, мою пьесу не ставили пять лет, ах, она пролежала три года. Смешно. Первую пьесу Еврипида в России показали лишь в конце XIX века. (Велика заслуга Иннокентия Анненского, переводчика Эврипидовых пьес на русский, энтузиаста, замечательного поэта и подлинного деятеля культуры.) Но все равно греческую классику ставили у нас мало, и, к сожалению, нет такой традиции, такого умения, чтобы ставить. Но впрочем, речь теперь не о нас. Это мы обедняем себя, а Еврипиду-то, как видим, все равно.
Говорят, за «Медею» на состязаниях драматургов Еврипид получил только третий приз: греческая публика не поняла и не приняла «выпада» Еврипида. У него вообще была нелегкая судьба. Не зря, например, Аристофан в своих комедиях часто впрямую высмеивал товарища по перу, клеймя его «философом», «софистом», «женоненавистником». Он одним из первых стал писать о рабах как о людях, о детях как о людях и о женщинах как о людях и женщинах. Он на самом деле дружил с философами, и хотя прямо не участвовал в политических делах своего времени, но всегда отстаивал свободу личности против подчинения ее тирании государства, защищал демократию и осуждал войну. Его неистовая Медея, «варварка», пришелица из чужих земель и колдунья, выступала, вопреки греческому закону, который позволял мужу все, а жене оставлял послушание и покорность, – за свое право быть человеком, мстить за обиду, идти на все за поруганную честь… Здесь, сейчас, на сцене Эпидавра, опухшая от слез, с растрепанными волосами, в черном платье Медея то проклинала, то умоляла своего мужа Ясона. А тот выходил в золотых одеждах, роскошной бороде, длиннокудрый, скрытый золотой полумаской, торжественный и счастливый, – он уже далеко от родного очага, в царских покоях, уже приходит от невесты, царской дочери Главки, он – новоиспеченный жених. Наряд его роскошен, вид величав, но и две тысячи четыреста лет назад драматург пишет его лицемером, легкодумом, уверенным в охранительном праве мужчины наносить боль и в бесправной доле женщины терпеть ее. Медея из любви к Ясону предала родных, убила брата, покинула родину – ну что ж, Ясон признает это, хотя тут же ссылается на волю богов. На стороне Ясона религия, закон, мораль – все доспехи, которыми и защищен, и отягощен член общества, член семейного сообщества – ячейки государства. На стороне Медеи – личное чувство: унижения, оскорбления, обиды, горя, непоправимости, страха (ее еще и изгоняют из Коринфа) и, кроме того, – возмутительное требование свободы, права на это личное чувство человека свободного, а не раба. Медея – это восстание женщины, ее заявление, – может быть, первое в нашей культуре (отчего и бессмертна «Медея») – о том, что она любой ценой готова отомстить за поругание, то есть за покушение на ее личность. Кажется, уж у кого может вызвать сочувствие или оправдание детоубийца, злая мстительница, злодейка, но мы, зрители, сострадаем Медее, это несомненно. (Так сострадаем мы «грешнице» Анне Карениной.) Да и автор устами предводительницы хора говорит: «Да, много зол, з а с л у ж е н н ы х, увы! Бог наложил сегодня на Ясона».
В отличие от меня, многотысячный зал реагирует на спектакль непосредственно и горячо: слушают, замерев, переживают, смеются, когда Ясон заявляет, как бы это рождаться детям без участья женщины, – люди, мол, избавились бы от многих зол. Аплодируют актерам, которые особенно хорошо играют: той же кормилице, вестнику, хору. Джени и Костасу устраивают в конце овацию, которую способны устроить лишь пятнадцать тысяч зрителей сразу. Страдают о Медее, о ее несчастных, красивых, царственно одетых мальчиках, да и о Ясоне в конце концов, который, содрав маску и золотой парик, с человеческим измученным лицом, небритый и взлохмаченный, остается на кровавом своем пепелище, когда Медею уносит колесница, посланная Гелиосом, – Медея внучка бога Солнца, как ни странно. Кстати, этот театральный эффект тоже вызывает восхищение: во тьме, почти среди деревьев, уже за сценической площадкой медленно поднимается (большим невидимым автокраном) золотой вогнутый щит, сверкающий, точно диск солнца, и в нем – кукла – Медея, которая уже оттуда, как бы улетая, ведет последний беспощадный диалог с мужем. Он обвиняет ее в дикости и варварстве, говорит, что никакая гречанка так бы не поступила, – «из ревности малюток заколоть!», на что Медея почти тупо отвечает: «Ты думаешь, для женщин это мало?»… Будь Еврипид на стороне Ясона, он уж, наверное, нашел бы, как осудить Медею: скажем, намекнул бы, что Медея полетела в соседнее царство и скоро вышла там замуж за «местного» царя; Ясон же, бедняга, кончил тем, что заснул однажды на берегу, под старой своей полуразвалившейся посудиной, которая носила гордое имя «Арго» и принесла ему великую славу, а теперь догнивала на песке, – он заснул, как бродяга, а старый корабль рухнул и задавил Ясона обломками. Какой был бы эффектный финал! Но не в пользу Медеи… Так что женщины должны быть благодарны Еврипиду, да и вообще всем поэтам и писателям, – кто, как не они, всегда понимали, что женщина и м е е т п р а в о, д о л ж н а иметь право, что закон и женская душа вечно не в ладу (закон жесток, а женщина добра) и женская душа наиболее чувствительна, человечна, отзывчива и – чутка к свободе.
Конец, театр гасит софиты, публика начинает расходиться, течь сверху по ступеням, словно шелковое пестрое полотнище, сгущаться в продольных проходах, вытекать наружу. Продолжают вспыхивать вспышки туристских камер: амфитеатр все еще представляет собою редкое зрелище. Но мне не хочется смотреть на театральный разъезд, – меня не покидает видение идущего в театр народа, его живой массы, заполнившей каменную чашу, ощущение праздника, события, воплощения мечты драматурга, режиссера, актера: вот это театр!.. Разумеется, сегодняшние греки совсем иной народ, нежели греки древние, но несомненно, что в самосознании нации, в ее целостности и жизнестойкости ее собственная культура и история играли и играют великую роль. Сберегая культуру, понимая ее значение в мировом культурном процессе, греки тем самым сберегли самих себя. Выжили под пятисотлетним иноземным ярмом, возродились, стали на ноги, преодолели собственные недостатки (тоже исторические), когда каждая деревня считала себя независимым государством и билась с соседними за свои обычаи (грека и теперь – хлебом не корми, но дай вступить в политическую борьбу, полемику и драку). Все-таки не может пройти бесследно высокое и благородное искусство древности, легко уподоблявшее человека богу, а богов наделявшее чертами и чувствами человеческими, – это входит, должно быть, в плоть и кровь. И воспитывает, и учит сохранять свою самобытность, уважать ее. Пожалуй, лучше оставаться чуть провинциальным и наивным, нежели космополитизироваться, рядиться в чужое и быть, как все. Провинциализм тоже бывает разный: один спокойный, с мирным чувством собственного достоинства и своего достатка, другой претенциозный, завистливый, злой, с суетной страстью доказывать, что он не хуже столиц (других столиц). Афины сознают, что им не надо быть ни Парижем, ни Лондоном, ни Москвой: Афинам достаточно, что они Афины. И они спокойны. Такое, по крайней мере, производят они впечатление. И если это так – это великий дар: уметь оставаться самим собою.








