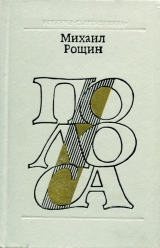
Текст книги "Полоса"
Автор книги: Михаил Рощин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Человек с бенгальским огнем
Он вошел с этим огнем, сыпавшимся на стороны, прямо в вагон, крутя им и вертя, и за огнем не разглядеть было его самого: что еще за игрунчик? Народ сидел в одежде и шапках, отдувался, заняв с бегу ненумерованные места, боясь, что не хватит. Распихали сумки, обсиживали нахолодавшие кресла самолетного вида, с высокими спинками – соседа не видать, ожидали скорого отправления. Каждый со своими мыслями. А тут прямо перед лицом – с игрушками, с огнями. И Новый год давно прошел, и Старый новый минул, и детишек вроде нету, а он забавляется. Не иначе – пьяный. А этого только и не хватало: набегавшись по делам да магазинам, усевшись в дневной скорый поезд, чтобы передохнуть да к ночи быть дома, вязаться теперь в дороге с пьянью – хуже нет. И народ сурово сидел в шапках, не реагировал.
Впрочем, огонь тут же и сгас, пшикнул – и все, и открылся с черной обгорелой палочкой в руке тощий, в лыжной шапке, и такой же шарф длинно с шеи висел – синий с красным, навьюченный (рюкзак, мешок, сумка на молниях), куртка синяя на молниях – вроде туриста, только лет под сорок, и сияет, как копеечный пряник, по-старинному говоря.
– Привет народу! – помахал он рукой (а в руке приемник), заглядывая в ближайшие лица, но и высматривая себе тоже свободное место на задах, вроде трезвый, спасибо. Но народ все равно не реагировал, сидел в шапках, в платках, возя варежками по запотевшим стеклам, куда, как в картинные рамы, вставлена была серая, промозглая зима, грязный перрон.
Один девический писк раздался машинально:
– Здрасс… – но тут же сам себя оборвал: мол, чего это я?
Девушка у окошка сидела, тоже была в шапке, уши опущены.
Человек приветливо сиял лицом, волокся по проходу, стукаясь поклажей о кресла, приговаривал разные прощения-извинения, но народ как сидел в шапках, так и сидел, без лиц и глаз, уже осудя тощего: во-первых, за пугание и баловство с огнями, во-вторых, за лыжную шапочку на седоватой уже небось башке, в-третьих, за «привет народу!» – это-то еще зачем ни с того ни с сего, «народу!» – мы тебе кто: кумовья, сваты-браты? Этих вольностей мы не любим, ведите себя в общественном месте как положено. А то если каждый начнет жечь чего захочет, здоровкаться как хочет, – может, еще за ручки подержимся? – это что будет? Нет, в таком стиле нам не надо.
Человек волокся к хвосту, оказалось, там еще мест десять свободных (вот те на!), и народ только вкось вслед оглядывал его поклажу.
Так и поехали: народ в шапках сидел, глядя прямо вперед, а этот сзади, за спинами остался, шебаршил, раскинулся с пожитками сразу на три места, музыка раз-другой взорвалась, слышался разговор и уже смешок женский. Ну да ладно, хоть не на глазах.
Покачался, поперестукался колесами на выездных стрелках и перепутьях поезд, прополз мимо белокирпичных окраинных массивов, под городскими еще мостами и по мостам, а там помчал, кинулся в белые поля, от которых и в окошках побелело, в голые снежные леса, под простор ватинного зимнего неба – ходко пошел, понесся, хорошо! И отлегло маленько: во-первых, вовремя, по расписанию, отъехали; во-вторых, зря давились, всем места хватило; в-третьих, лихо погнал, значит, в срок доедем, без приключений. Так что отлегло. Потеплело. Хоть и сидели еще так же, в шапках, мысли свои не кончались: все ли взято? не забыто ль то-то? сколько того-то? Кое-кто лишь маленько рассупонился, девушка в шапке с опущенными ушами вытянулась к полке, книжку из сумки выкопала, уткнулась читать. И тут же первый колбасный душок прошел: тетка в трех платках на голове, один из-под другого, в одну горсть полбатона белого ужала, в другую – довесок колбасный граммов на двести, – и только хвать-хвать стальными зубами, а сама вперед глядит, никого не видит.
Тут, конечно, сразу пошло шевеление, жизнь, кто-то еще свою колбасу размотал, блеснула фольга творожных сырков, зашуршало, забелело, «дайте вашего ножичка, пожалста», – шапка склоняется к шапке, яблочко похрустывает, кефирная белая бутылка встает торчком, запрокидываясь над спинкой, как подзорная труба, глядящая в небо, и отмякает народ, отмякает, голоса различимы средь железного биения поезда, и проводник по имени Иван Михалыч, похрамывая, является на дух яств, заглядывая в каждые колени: у кого чего разложено, и потягивает, как хомячок, ноздрями, будто у него аллергия на еду. И молодой моряк в черной форменной шапке, в нашивках, первым поднимается среди кресел – в тамбур покурить.
Он идет назад, и потому первым видит, как раскинулся тот, что с огнем, на три места: сам в одном, а вещи еще в двух, и уже без шапочки, с коротко стриженной и впрямь серой от седины головой, и тоже уже с бутербродиком у рта, а другой просовывает между передними креслами двум соседкам молодого еще вида – одна в белом шерстяном платке, а другая в заячьей белой мохнатой шапке. И чего-то им стрекочет, веселит, а они тоже развеселились, и одна – губки подкрашены, ноготки-маникюр – красными этими ноготками банан облупливает, а другая в бумажный стаканчик «пепси» наливает, и очень ей смешно, как коричневая пена вылезает из стаканчика.
А еще в этом же ряду, но через проход сидит молодая толстуха с красными щеками, пошевелиться не может: до того своими сумками да авоськами себя заложила. Голова наглухо серым платком замотана, а поверх платка тоже шапка, как у боярышни, – да только, видать, шапку с мужика, что ли, своего сняла, с мастерового: присаленная какая-то шапка, с проплешиной, да и маловата. Может, с сына? Пожалуй, лет двенадцати вполне у нее парнишка может быть. Но не больше. Вообще, приглядеться – красивая толстуха, бровь тонкая, нос точеный, сама кровь с молоком, но взгляд! Не то что не подходи, а лучше и не гляди! Но и то: во-первых, устала, во-вторых, уж всех больше, кажется, в вагон вволокла, до стыда, и толкалась, лезла, спешила – тьфу, пропади оно все пропадом! – а в-третьих, – «пепси» их возьми! – что ж он им бананы скармливает, где они только эти бананы берут, ребятам бы привезти, самый лучший гостинец. И косит она злым, лошадиного выреза глазом на новую вспышку их елочного огня и придурошные «ах» да «ой».
Сверкает поставленный прямо в проход кассетник «Сони», подлетает к потолку женский смех. Но мнение сейчас у вагона мирное: ладно, мол, там, назади, маленько можно, пусть. А даже любопытство разбирает: свеситься в проход да глянуть, чего там у нас за клуб такой открылся с музыкой и, кажется, опять сверканием индийского огня?..
Девушка с опущенными ушами поднимается из кресел: вроде ей хочется просто так поразмяться или выйти подышать. И она останавливается вопросительно перед «магом», а хозяин говорит: «О мадемуазель, момент!» – и галантно его подхватывает. И ушанка, потупив глазки, позволяет себе маленькую улыбку.
В вагоне не теплело, но немного уже надышали. Иван Михалыч, похрамывая, проходил с гаечным ключом, пошмыгивал и бормотал: «Краны́ энто позавинтють…» – из чего можно было заключить, что тепла не жди. Но скоростной поезд летел, стучал, веселя своим ходом, стекла мокли, начиналась за ним ранняя зимняя синь. Неслись хвойные лапы с подушками, подушицами и даже целыми перинами на́снежи, и телеграфные столбы стояли строем в белых стрелецких шапках на макушках, а другие перины обнимали приземистую крышу, откуда вился старинный дымок из трубы, как на детском рисунке. И даже мелькнула где-то под насыпью «лошадка, везущая хворосту воз».
Народ отходил от своих мыслей, накрученных городом, и, как бывает в полпути, еще не озаботился мыслями домашними: как приеду, да как встретят, да чего там без меня? И малый этот промежуток годился для любопытства и передыха.
А в «клубе» шло одно за другим: карточные фокусы; музыка: гав, лав, гоу, лоу, оу!; стихи из маленькой книжечки; закусочка. Что хочешь. Возвращавшейся из тамбура ушанке и морячку было предложено: ей – послушать из книжечки стихи, а ему – пива «сенатор» и кусок разделанной на пластиковом пакете копченой скумбрии, отливающей на срезе синим перламутром, словно нефть на воде.
Опять было обращено внимание и на красивую молодуху с мучительным ее и упрямым терпением сидеть теперь так, как сидит, до конца, и хоть подступиться уже можно было, но завлечь – никак: ни индийскими огнями, ни русскими завлекательными словами, – нет, она сидела прямо и гордо в своем платке по щекам и торчащей шапке и отворачивалась к окну, сама чуть не плача от злости на всех и на себя: что бы засмеяться, вздохнуть грудью и расслабить сердце. Но нет, уперлась. Одно и бросила в конце концов про «Соню»:
– Уж прикрыли бы свою волынку, надоела!
Что касается ушанки, то она остановилась послушать из вежливости один стишок, но тут же дальше пошла: во-первых, не поняла; во-вторых, от слова «уста» начала краснеть, в-третьих, тощий, хоть, видно, и добрый дядька, но оказался староват, голова седая, а в-четвертых, морячок, наоборот, был млад-младешенек, с лицом пушистым и румяным, как у ребенка, которого ведут из детсада, над пухлым ртом темнели первые усики, и весь он был чист, ладен, понятен, в нарядных нашивках. И пива не стал пить, и скумбрию не взял, а только говорил баском: «Спасибо большое».
Соседки, что спереди, в платке и зайчике, хоть и смеялись дружно, хоть и известны уже были по именам (Люда и Мила), и куда ехали, и откуда, но отвинтили тоже шеи, оглядываясь, и устали передавать в щель между креслами туда и оттуда тузов и валетов, заграничный журнал с картинками артисток и артистов с голыми пузами, и бумажки с вопросами, из которых узнается ваш характер. Развлекательный человек, уж не зная, чем позабавить, снимал с пальца кольцо, и они, склонясь головами, разбирали буквы внутри кольца. Там было написано красивой вязью: «Не жди». Вот до чего распахнулся тощий. И они поглядывали на него, сконфузясь, и спросила Люда с сочувствием:
– Это кто ж вам так написал?
А он засмеялся и, навинчивая назад кольцо на палец, ответил, что это он сам себе написал. А этого они не поняли, переглянулись.
А он еще достал псалтырь – вот даже что у него оказалось! – и стал вычитывать оттуда разные слова о жизни и смерти, но тут уж они совсем устали, и, пока Люда в платке вежливо слушала, выставив ухо в щель, Мила в зайчике задремала. И пушистая шапка наползла ей на самый нос. А там и розовое ушко Люды отклонилось и пропало за тьмою кресла, как солнце за горой.
Но это уже попозже было, когда быстро темнело, замелькали среди дальней природы первые огоньки, и проносящиеся станции озарялись ранним электричеством; народ, сидя в шапках, дремал, мотаясь головами и неумело раскидываясь хоть и в располагающих к лежанию, но все же каких-то не наших креслах.
А человека с бенгальским огнем угомон не брал. Иван Михалыч проходил с топором, приговаривая: «Сейчас энтот крант у меня!» И тощий, конечно, остановил его. Иван Михалыч, часто пошмыгивая носом, выцедил стакан «сенатора», рыбкой зажевал, но тут же топором указал: это, мол, прибрать, не положено, и вещички лучше бы под креслице или на полочку. А огонь зажигать вообще боже упаси, а то сразу придут кому надо и «оформють».
И пришлось с вещичками сократиться.
И «волынку» сунуть в сумку.
Совсем хотел пересесть к молодухе, но она, хоть и поуспокоилась, как только он в ее сторону глянул, глазом сверкнула: не подходи! И улыбочка тощего сгасла, скисла, и сам он будто ужался, еще потощел. Молодуха, отворотясь, видела в черном теперь зеркале окна его отражение, которое точно дрожало и таяло.
Молодуха и не заметила, как заснула тоже, – только спинки коснулась головой, и все. Платок и шапка так же туго держали ее щеки, румяный рот раскрылся трубочкой, блестела по крыльям иконописного носа испарина, брови и во сне сердились, и глубокое дыхание, облегчая усталое тело, поднимало закованную в сто одежек грудь.
А потом она проснулась с испугом, хвать тут же руками по сумкам – все здесь, будьте вы неладны, – глянула через проход. А там нет никого. Пусто. Как так?.. И поезд летит и летит среди ночи, и не останавливался, и все на местах – вон шерстяной платок как белел, так и белеет, и заячья шапка как спала, так и спит. Ушанка с морячком идут опять по проходу к тамбуру, морячок даму перед собой пропускает. Все на местах, а этого тощего нет. И ничего нет – ни вещей его, ни «волынки», ни обгорелой палочки от елочного огня.
И ясно без всякого: он не сошел, не выпрыгнул, ничего такого с ним не случилось, и в другой вагон не перешел – вот хоть голову на отсек! – а просто растаял, пропал – мол, кому ты нужен?!
И чего-то вроде защемило, и чего-то не стало в вагоне, и жаль. Был – не надобно, нету – и пусто.
Морячок с ушанкой тоже поглядели удивленными глазами, поозирались, даже подняли головы к потолку: нет ли там люка какого? И молодуху спросили взглядом: мол, где же? Но она свои глаза отвела: не хватало еще – под расспросы. И в окошко опять отвернулась. А там тьма летела, одна тьма, безо всякого огонька.
Алина
Я проснулся и сразу подумал: а волосы? волосы какие?.. Было три часа ночи, голова работала, как автомат, я ясно видел: Алина, стоя ко мне спиной, в кухне, у столика, рядом с газовой плитой (или с электрической?), трет на терке морковку.
Стоп, сказал я, стоп, и заставил себя приглядеться. Лямочки фартука крестом сходились на ее узкой спине, шея клонилась чуть влево, и талия кривилась, потому что Алина на одну ногу опиралась, а другую ослабила. На ногах у нее были разношенные домашние сабо, желтые махровые носки, а брюки черные, вельветовые. Кажется, она тихо напевала про себя. (Не кажется, а точно, и я даже знаю что: вот это – та, та-ри-ра, та, та-та и так далее.)
Ее синий пуловер, тоненький, который она любит носить дома, надевая его на голое тело, не был заправлен в брюки, а облегал ее бедра. Пуловер был темно-синего, густого тона, а лямки фартука светло-синие, почти васильковые. Терка, на которой Алина терла морковь, – четырехгранник, как башня, пластмассовая, с разнокалиберными дырками на каждой из сторон, – стояла в глубокой тарелке, чтобы не скользить. И между прочим, цвет у терки тоже был морковный, оранжевый. Алина поднимала терку и смотрела, напевая, насколько увеличилась в тарелке мягкая горка моркови.
Так, так, дальше, – привычно гнал я себя, проверяя все подряд: плечи, шею, глаза, улыбку (подспудно я не забывал про волосы). Ее милые, ласковые глаза, карие и не карие, ореховые, как я их называл, глядели весело. Кожа ее, слишком нежная, бледно-голубоватая, всегда смущала меня, – откуда взялась эта аристократическая, почти вырожденческая кожа? Но это была ее кожа, она ей шла, это уж точно. Ее бедра светились ночью, как мрамор, а лоб и виски по утрам – как теперь – отдавали светом горной вершины, не белой белизной льда.
Так, так, – повторял я себе с наслаждением, щелкая среди своей бессонницы, как компьютер (бесшумно, как компьютер, неподвижно, как компьютер, и бушуя тем не менее, как компьютер), все так, но волосы?.. И я тут же увидел кое-какие наброски: темные волосы на руках и ногах, на этой белой коже, и аккуратные колечки в подмышках, и темные легкие усики над самыми уголками губ.
Но это были именно наброски, попытки, – мне не терпелось проверить пока то, что было безусловно, что я уже имел… Алина! Я знал про нее все. Где она родилась, кто был у нее дед с материнской стороны и кто с отцовской, какою она была в три года и в семь, когда пошла в школу. Я привычно мчался в Тушино, входил в знакомый дом, легко и, как всегда, с волнением вбегал на третий этаж… Стоп! Ну почему Тушино? Неужели так уж обязательно это Тушино?.. Да потому что она должна жить далеко, недоступно для чужих глаз, там нас никто не знает. Я люблю этот простой дом, обыкновенный подъезд: как входишь – внизу синие почтовые ящики, и среди них цифра 11, как родная. Я вхожу, квартирка маленькая, но каждая мелочь здесь… Минутку! Ну, а не пресно это все-таки, не пресновато? Тушино? Почему не Беляево, не Люблино – тоже далеко! Или, пожалуйста, Юго-Запад, Вернадского или Вавилова, где иностранцы живут? Кстати, может, она вообще… датчанка? или француженка? Или турчанка? Отчего у нее кожа такая?.. Да потому, что у нее дедушка был грузин, князь, ты забыл? – в Грузии все дедушки князья, при чем тут иностранка?..
Я отметил эту идею, но у меня на глазах крошечная квартирка Алины в Тушине расширялась, раздвигалась, и вот уже на белой стене большой гостиной висело старинное английское ружье и гравюра Московского Кремля XVI века, а на низком мягком диване полулежала некая гостья, поигрывая туфелькой на ноге и попивая банановый джюс. Алина в платье с голой спиной сидела рядом и улыбалась роскошными тефлоновыми зубами, вставленными прошлым летом в Англии по сто фунтов за зуб!..
Нет, нет! К черту!.. Тем более что в этой атмосфере Алина тотчас обрела совсем несвойственный ей жесткий облик самостоятельной женщины, этакой дамы за рулем, которая ни в ком не нуждается, все умеет сама. Не надо, рыбка. Мы славно жили в нашем Тушине, в этой квартирке, о которой не знала ни одна душа в городе. Всем моим друзьям, тому же Федьке, известно только одно: Тушино. Даже имя твое я им редко говорю. «Ну, как там в Тушине?» – спрашивают они. Так что лучше нам оставаться самими собой. Будь, пожалуйста, такой же мягкой, как всегда, женственной, спокойной. Что нам иностранцы, в твоих жилах течет княжеская кровь. Посмотрите, какая изящная у нас походка. А ресницы, глаза, кожа, шея, эти лермонтовские усики! Боже, а как она умеет ждать! Она ждет меня неделями, безропотно, без единой слезинки, как ждут моряка, она целует меня тихо и благодарно, когда я врываюсь, вру, бормочу оправдания. «Ты же знаешь», – говорит она. То есть она ничего не говорит, она вообще никогда не говорит на эти темы, кто прав, кто виноват, – мол, ты это ты, мой любимый, и если ты так поступаешь, значит, так нужно.
Удивительная женщина, самой ей не нужно ничего никогда. Я могу забыть, не купить ей цветы – она же не забывает ни о чем, и передо мной, когда я ухожу, всегда лежит то, что мне нужно: зажигалка, носки, симпатичный брелок, если я накануне потерял свой.
Хорошо, хорошо, – говорю я себе сейчас, ночью, понимая, что уже часа четыре, что оттого, что не сплю я, сейчас проснется рядом или уже проснулась моя жена. Хорошо, хватит, говорю я себе, а сам помню про волосы.
Не зажигая света, я протягиваю руку за часами. Странно, не четыре, а только четверть четвертого. Конечно, реальный мир неподвижен, черен и мертв, его время и мое время сейчас не совпадают, ничего удивительного. Моя любимая женщина тоже проснулась сейчас. А может быть, она вообще не спала – я вижу, она сидит, поджав под себя ноги, в уголке дивана, настольная лампа освещает ее укутанные вязаным платком колени и раскрытую книгу на коленях. Спи, радость моя, до завтра!..
Нет, вот еще что: что я скажу на работе толстому Федору? Где мы были, что делали? В кино ходили? Телевизор смотрели? Или никуда не ходили?.. Вот лодка закачалась на Измайловском пруду… Нет, это примитивно, кто поверит!.. Кажется, я уже устал, а ведь еще волосы… Какие у тебя волосы, Алина?.. Стоп! Стоп, я знаю, что мы вчера делали: мы поехали на велосипедах вдоль канала. «На каких еще велосипедах? – спрашивает Федор. – У тебя сроду велосипеда не было!» – «Что ты знаешь, дядя! На обыкновенных велосипедах, на новеньких складных велосипедах, видал такие? Один желтый, другой красный, Алина их сама купила, еще зимой, у себя в Тушине, в «Спорттоварах». – «Где это в Тушине «Спорттовары»?» – «Да что ты прицепился! Говорю, по каналу ездили. Мы всегда с ней в хорошую погоду на велосипедах… Там, за шлюзами, одно местечко есть, полянка… мы уже на закате туда приехали – красотища! Легли в траву, руки за голову, самолеты небо чертят, стрижи снуют, кузнечики с ума сходят, а Алина поет потихоньку старую грузинскую песню. Честное слово! Потом месяц вышел, в канале отражался: молодой, белый, прозрачный, как ломтик дыни…»
Я почти засыпал, но еще думал про волосы. Хотя я устал и боялся, что волосы не выйдут. Черт, как же так!.. Хотя… ну конечно! Ведь раньше у нее была коса. Потом она ее обрезала. Потом опять у нее были длинные волосы. А теперь – господи, что я за дурак! – теперь же у нее короткая стрижка, такой шлем из волос, челка, как у Мирей Матье. Точно, как у Мирей! И цвет такой, темноватый, но не совсем черный. Правда, мне не нравится. Да, точно, мне не нравится, я говорил: Алина, извини, но, по-моему, это не твой стиль. Она ничего не ответила, но я уверен: я приду в следующий раз, и прическа будет другая. Конечно, ей это не идет, это не ее волосы, я устал…
Тут я заснул и спал, как убитый. А утром в автобусе, вернее, на автобусной остановке, увидел женщину… словом, это была Алина.
Я в одну секунду, издали, узнал ее узкую спину, желтый плащ, туго схваченный поясом, походку. Сумка знакомо висела на сгибе локтя, хотя именно эту сумку я видел впервые. Меня обняло жаром, когда я понял, что угадал ее прическу: темные волосы облегали ее голову, как шлем, и из-под челки взглянули на меня ореховые глаза. Я мелко дрожал внутри и твердил одно: алина-алина-алина-алина, – будто мигалка вращалась. Я узнавал ее шаг, ее щиколотку, ее малиновые туфли на тонком каблуке, с тонкой перепонкой… Уже в автобусе, стоя за нею, я выдохнул наконец: А-ли-на!.. Сердце мое замерло и не билось, как у йога.
Она обернулась так просто, как оборачивается человек на звук своего имени. Так просто, как я и ожидал. На остановке ее выражение и глаза из-под челки показались мне непроницаемо чужими, я бы сказал, что это было ее уличное лицо. Теперь же я видел знакомый мягкий взгляд, милый, открытый. С какой жадностью, с каким счастьем глядел я на этот лик, который раскрывался передо мной, как цветок в замедленной киносъемке. Как будто это было лицо родной, но выросшей сестры или одноклассницы, с которой не виделся десять лет. Боже, эти добрые губы, и пушок над ними, и рисунок бровей, и ресницы!.. Кофейная, в белый горошек косынка охватывала ее шею, воротничок плаща стоял, как всегда, у Алины, виски светились благородной голубизной, а глаза глядели на меня со знакомой радостью.
Ах, черт, это была она, моя Алина, моя Галатея, которую я сам придумал по ночам, по частям, которой я хвастался перед друзьями и о которой даже намекал слегка жене – вот до чего она была хороша! – да, я это делал, чтобы они не подумали, что у меня нет никого, ведь у каждого была своя Алина, а у меня не было. И вот она стояла передо мной, моя мечта, моя женщина, совершенная, какою может быть только твое собственное нерукотворное создание. Я готов был расплакаться, стать перед нею на колени, на глазах у всех, на этот автобусный, грязный пол. Алина! Ты ли это?
Я видел: она все поняла, глаза ее тоже полны любви, и лишь отблеск боли, невозможности, непереносимой дальше тоски плещется в глубине, и чудится – предупреждение? предостережение? Почему? Я чего-то не знаю? Почему, Алина?.. Я беру ее руку в свои. Знакомая теплая, живая, теплая и холодная, такая знакомая рука. Я не хотел бы отпустить ее больше никогда…
И тут… тут я замираю. И бросаю эту руку. Боль в глазах Алины из намека превращается в крик, и я слышу дальний и страшный хохот. Я будто в лоб ударен прикладом: рука без ногтей. Совсем. Как и не было. Понимаете? Пальцы, кольца, руки – все есть, а ногтей нет. Пусто. Разве не жуть? Я бросил ее руку, как трус, в страхе и панике.
Идиот, я совершенно забыл про ногти! «Волосы, волосы!», а про ногти – забыл…








