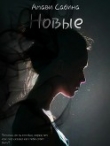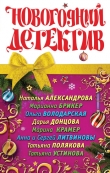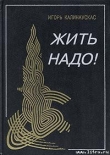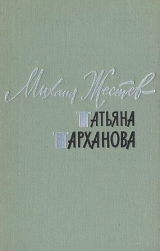
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Они не были близки друг другу, и тем естественнее произошло их отчуждение. Началось оно после того, как Федор отказался помочь Белке. Он уже не представлялся ей воплощением силы, да и само представление об этой силе у нее изменилось. Сила не в том, чтобы уметь защитить самого себя. Ее настоящее проявление – в защите другого человека, независимо от того, угрожает ли опасность твоим близким или постороннему человеку. Вообще между ними установились какие-то странные отношения. Федор при каждом удобном случае разъяснял ей, что она не просто Татьяна Тарханова, а невеста завторготделом Федора Ефремова, и, как невесте видного работника глинского исполкома, ей полагается соответственно вести себя и всегда помнить о достоинстве своего будущего мужа. Это был какой-то особый домострой, соединявший в себе традиции старой деревни с правилами хорошего тона, вычитанными Федором из какого-то старого романа. И по этим правилам она должна была жить. Теперь она уже не могла одна пойти в летний сад или по пути с работы забежать в кино. Для всех таких общественных посещений Федор установил твердое правило: в сад, кино, театр они ходят только вдвоем. В связи с этим у него была даже своя философия, согласно которой в жизни семьи нужна дисциплина, как и на работе. По его глубокому убеждению, все семейные неурядицы происходят от нарушения дисциплины, и высшую мудрость семейного благополучия он видел в том, чтобы не давать спуска и не делать поблажек.
Все эти сложные, необычные, а потому и непонятные отношения с Федором резко делили жизнь Татьяны на две половины: на свою, личную, и жизнь на заводе. Уже давно прошло то время, когда ее считали ученицей. Теперь она была такой же формовщицей, какой была Уля, имела разряд и в работе не отставала от других. Правда, ночью, во сне подушка казалась ей большим куском глины, из которого она никак не может сделать нужное изделие, правда, случалось и наяву, что мягкая, податливая глина еще сопротивлялась ей, но Татьяна уже достигла того совершенства, когда со стороны могло показаться, что в ее движениях нет никакой напряженности и что работает она как бы играючи. И хоть в действительности работа формовщицы была нелегка и утомительна, она полюбила ее за то, что вместе с этой работой пришло к ней чувство, которого она раньше не знала и которое сделало смешными и наивными все ее горестные думы, когда она ушла из театра.
Ну что особого было в том, что она стояла у длинного стола, бросала в форму кусок глины, уплотняла его, потом освобождала от заусениц и ставила на стеллаж уже готовое изделие, чтобы через некоторое время его отправили в сушку, а потом на обжиг. Все это она повторяла тысячи и тысячи раз, изо дня в день, и все же именно эта работа ей полюбилась.
Татьяна пыталась разобраться в своих чувствах и мыслях, она хотела понять, что же произошло с ней на комбинате. За самой простой работой как будто скрывалась одна из величайших тайн и загадок человеческой души. Ну что ей дает вот это прикосновение рук к куску глины? Как будто ничего. Оно не вызывает особых размышлений и никаких чувств. Конечно, приятно видеть, что у тебя все получается хорошо. Бывало, Улька похвалит, мастер подойдет, улыбнется: «Нынче формовщицы не те пошли, с хода все понимают, за год мастерами становятся». Ничего особого она не совершает. Ничего решительно. Все просто, несложно, обычно. Эти мысли волновали ее, и она не могла понять, откуда приходит к ней это удовлетворение, которого она не знала раньше. Странно, но у нее такое чувство, что без нее земля не обойдется. И это ощущение своей необходимости особенно сильно потому, что она делает одну и ту же работу каждый час, каждый день, каждый месяц. И даже нетрудно подсчитать, сколько изделий за год. Тысячи, десятки тысяч. Все раскрылось, когда она вдруг представила себе, что значит – десятки тысяч этих огнеупорных изделий. Воображению представились огромные доменные печи, вагранки, мартены. Неужели без нее все это не может существовать? Значит, она задувает домны, плавит чугун в вагранках, не дает топочным огням паровозов прожечь сталь котлов? Ну, ну, Татьяна, не думай о себе слишком много. Ты известная выдумщица. Не ты одна это делаешь. И тот, кто в шахте добывает глину, и кто ее смешивает с шамотом, и кто ее подготовляет для тебя, и кто сушит и обжигает после тебя, все – славный род огнеупорщиков. Но от этой мысли она совсем не показалась себе маленькой, слабой и ничтожной. Наоборот, сознание того, что рядом сотни других людей, которые важны для нее и для которых она не менее важна, еще больше подняло в ее глазах собственную значимость. Она видела себя частицей и в то же время центром большой и чудесной жизни. Она уже понимала всю значимость коллектива в ее судьбе, но теперь она старалась проникнуть в его сущность и характер. Человек может быть хорошим или плохим. В нем часто соседствует и хорошее и плохое. Но в коллектив он прежде всего несет все свое лучшее. Там как бы плюсуется все положительное и достойное его души. Настоящее, большое может не быть в отдельном человеке, но оно всегда присутствует в коллективе. Только в нем человек познает всю свою человеческую ценность. И если даже зло проникает в коллектив, то оно должно маскироваться под добро.
Татьяна была счастлива какой-то новой, неведомой ей полнотой жизни, ясным видением среди людей своего места и внутренним сознанием, что, кем бы ей ни суждено стать, то, чему ее научил комбинат, она никогда не забудет, как самый мудрый урок жизни. Как это в школе она не подумала о том, что жизнь, требуя рабочих, совсем не обрекает их быть мелкими винтиками. Она раскрывает перед каждым человеком возможность творить, создавать и переделывать окружающее, где бы и кем бы он ни работал. Прежних, кажущихся Татьяне неразрешимыми, противоречий не было. Необходимость работать на комбинате и ее желания не совпадали, они творчески разрешались. Это не означало, что не могли возникнуть новые противоречия. Они уже были, но их Татьяна не замечала. Новое, что вошло в ее жизнь, прежде всего требовало сделать ясными ее взаимоотношения с Федором.
До отъезда Ули Федор не торопился со свадьбой, выжидая, когда будет закончен новый дом, где ему обещали небольшую квартиру. Но теперь он стал полновластным хозяином в доме своего отца и посчитал нужным до свадьбы урегулировать вопрос о месте работы своей будущей жены. Однажды он спросил ее:
– Ты куда хочешь поступить?
– Никуда.
– Но тебе же не нравилось на производстве.
– Вспомнил. Это было давно. – И рассмеялась.
– Ладно, после увидим, – отступился Федор.
Она опять рассмеялась. Разве может Федор оторвать ее от комбината? Но в то же время она считала решенным свое предстоящее замужество. Она свыклась с этой мыслью, и чем лучше шли ее дела на работе, тем меньше она беспокоилась о том, как-то сложится ее жизнь с Федором.
И еще меньше она думала о чувствах Федора к ней. Любит, не любит – какое это имеет значение. Лучше даже, если не любит. Ведь что может быть хуже: не любить и быть любимой. Что-то внутри нее спорило с ней, укоряло, стыдило. Все у тебя наигранное, не настоящее. Но Татьяна упрямо убеждала себя в своей правоте. Настоящая любовь приходит в жизни человека только однажды. Наверное, Федор тоже кого-нибудь любил. А теперь вот хочет жениться не на той, которую любил. Татьяна пыталась ответить – для чего она нужна Федору, и ничего не могла придумать. И даже спросила:
– Федор, ну зачем тебе я?
– Зачем, зачем. Не маленькая, сама должна понимать.
– Может быть, вернешься к Тоне?
– Нет.
– Но ведь ты меня не любишь?
– Я тебе верю.
– Вера заменяет любовь?
– Как тебе сказать. Любовь проходит. Верность нечто более реальное. Она может быть на всю жизнь. Что, разве я не прав? Уж лучше быть нелюбимым, чем посмешищем на весь Глинск.
Татьяна слушала, улыбалась и думала о том, что она обязательно выложит всю эту философию в письме к Ульке. Да, да, верность выше любви! Что осталось у Сергея от его любви? Ничего. А верность привела бы его к ней.
Татьяна по-прежнему жила вместе с дедом Игнатом и Лизаветой на Буераках. Как-то перед Новым годом к ней зашел Федор и сказал, что завтра вечером они пойдут на открытие зимнего сезона в глинском театре. Сезон явно запаздывал. Но в этом никто не был виноват, если не считать вины какого-то там Центрального гастрольного бюро, которое заслало глинский театр куда-то в Сибирь, а в Глинск прислало труппу областной филармонии, которая начала гореть уже в конце сентября и окончательно прогорела в начале октября. Теперь глинский театр Дроботова наконец вернулся, и по случаю начала зимнего сезона билеты на первый спектакль были проданы по организациям. Таким образом, на открытии театра присутствовал весь цвет города.
Татьяна взяла Федора под руку и прошла с ним в фойе, на одном конце которого, в бывшей церковной кладовке, разместился буфет, где можно было получить чай и бисквит местного производства, а на другом конце был буфет, в котором торговали вином и пивом. Конечно, на этом винно-пивном конце было куда многолюднее, чем на чае-бисквитном. Надо еще сказать, что в обоих буфетах подавали к столу бутылки местного лимонада под странной этикеткой «Глинситро», который действительно попахивал глиною, так как делался на воде какого-то местного источника, пробивающегося через мощные пласты огнеупорных глин. Федор, конечно, не замедлил угостить Татьяну «Глинситро» и прошелся с ней через все фойе, показав, как он думал, всему городу свою невесту, а невесте – то, что он считал заслуживающим в городе.
Вот этот высокий, немного седоватый в висках, с мягкой походкой человек, который совсем не старается быть заметным, – секретарь горкома Асмолов Иван Евдокимович. Федор говорил о нем с уважением, но сдержанно и не считал необходимым высказывать свое личное отношение к секретарю. Это должно было показать Татьяне, что он начальство уважает, но и себя достаточно высоко ценит. В противоположность Асмолову, председатель горсовета Чижов был подвижен, говорил громко, он не ходил в общем потоке гуляющих, а стоял в окружении весело смеющихся людей и всем своим видом как бы говорил: я в этом городе хозяин всем домам и скверам, баням и транспорту и даже вот этому театру. О председателе горсовета Федор сказал коротко: «Хозяин города, но не хозяин своего слова». Что касается других, то в своих характеристиках Федор был еще более лаконичен: «Видишь, черный – горсобес. А этот хромой – образование. А вот в бурках – что кот в сапогах – лесосплав. Любит говорить: лес – дело темное, но выгодное». Но когда он увидел стоящего у окна низкорослого, тщедушного человечка, близоруко разглядывающего гуляющих по фойе, то заметил:
– Смотри, дока!
– Кто? – не поняла Татьяна.
– Плюгин Сидор Сидорович.
– Ты сказал – дока.
– Ну да, директор деревообделочного комбината, сокращенно – дока. Этот многих держит в своих руках. Пришлют из другого района проштрафившегося работника, так Плюгин туда съездит и все про него узнает. А потом встретит и намекнет: был-де там-то и там-то, велели вам кланяться... Этот далеко пойдет.
– Не Плюгин, а Подлюгин, – сказал Татьяна.
– Тише, услышит еще.
Они вышли из круга и остановились у огромного зеркала, поставленного в задней части фойе. Рядом какой-то толстый веселый человек, смеясь, рассказывал своим знакомым:
– Вот я вызываю этого цыгана и спрашиваю: «А ну, расскажи, как совершил кражу зерна из амбара?» А он мне отвечает: «Вот так, как вы сидите, гражданин судья, стоял амбар, вот там, где сидит прокурор, была привязана цепная собака, а где адвокат – стояла ветреная мельница».
Федор тихо сказал:
– Пойдем. Эти разговорчики до добра судью не доведут. И так уже раз его предупредили.
Они вошли в зрительный зал. В третьем ряду, в самой середине, были их места. И тут Татьяна обратила внимание, что Федор почти ни с кем не здоровается первым. Он лишь отвечает на поклоны и, видимо, считает себя не менее важной персоной в Глинске, чем сам секретарь горкома. Это были последние годы царствования послевоенной бедности, и королями в этом царстве считали себя те, кто знал, сколько прибыло в город сукна и штапеля, бумажных свитеров и брезентовых туфель на кожимитной подошве. Словом, короли управляли торговым распределением детских клеенчатых тапочек, шапок с заячьим верхом, брюк из чертовой кожи и прочих вещей, которые, если они случайно оказались тогда не проданными, и поныне лежат на складах в напоминание о царствовании последнего горторготдельского властелина Федора Ефремова.
Татьяна села на свое место и оглядела зал, знакомый, близкий и так много говорящий ее сердцу. И в спектакле выступит Дроботов. Что он думает о ней, что рассказал ему Сергей? И вот большой бархатный занавес раздвинулся.
Татьяна следила за действием на сцене и ждала выхода Дроботова. Он появился. Он произносил хорошо известные ей слова, он двигался на сцене, держал себя гордым человеком. Все было так же, как и раньше, когда он выступал в этой роли, и в то же время все его мастерство приобрело новую глубину и задушевность, и каждое его слово было таким проникновенным, что она потеряла ощущение грани между сценой и жизнью. Дроботов словно овладел какой-то необыкновенной естественностью, нашел свою правду чувств, ту правду, которая так волнует ее. Татьяне казалось, что глубина восприятия, ее волнение вызваны лишь мастерством Дроботова, его вдохновенной игрой. Но ее внутреннее волнение рождалось не только талантом актера и мастерством писателя, оно возникало также из глубины ее нового жизненного опыта. Если Дроботов стал лучше играть, то, бесспорно, Татьяна стала глубже воспринимать, тоньше чувствовать, и то, к чему раньше она оставалась равнодушной, теперь ее волновало. Есть мастерство сценическое и писательское. Но есть мастерство и зрительское. Оно также порождается жизнью. И Татьяна смотрела спектакль, волнуясь, наслаждаясь и чувствуя себя счастливой.
Занавес опустился. Забыв о Федоре, Татьяна бросилась за кулисы к Дроботову. Она столкнулась с ним у декорации балкона, где он только что играл. И снова между жизнью и сценой как бы исчезла грань.
– Танечка, вы? – Он поцеловал ее, обрадованный, не скрывая своей радости.
– Иннокентий Константинович, большое спасибо вам. Как вы играли!
– Нет, вам спасибо. Вы даже не подозреваете, чем я вам обязан. Ну, а вы, Таня? Как вы? Я знаю, работаете на комбинате. Скажите, счастливы?
– Да.
– Любите?
– Нет.
– Но я слышал, выходите замуж.
– Да.
– Не любя? И вы пришли сказать, что я хорошо играл?
Татьяна не помнила, как вернулась в зрительный зал. Она почувствовала, что кто-то взял ее за руку. Ах, это Федор!
– Выйдем.
– Но уже второй звонок.
– Я должна с гобой поговорить.
– Неужели не успеешь после?
Татьяна не ответила. Она прошла в гардероб, надела пальто и, не оглядываясь, словно ей было безразлично, идет ли за ней Федор, вышла на улицу. Федор догнал ее уже в сквере.
– Случилось что-нибудь, Таня?
– Я знаю, я виновата. Но больше я не могу.
– Это эмоции, а по существу? Что именно – не могу?
– Я за тебя не пойду. Слышишь, не пойду!
– Ты в себе?
– Ведь это же мерзко, не любить и выйти замуж.
– Но в какое положение ты ставишь меня?
– Тебе это важно? А то, что мы изуродуем жизнь друг другу?
– Я тебе этого не прощу.
– Это не страшно, только уходи. Как я противна сама себе!
С Федором все было кончено, хотя, в сущности говоря, ничего у них и не было. Нет счастья, потому что нет Сергея. Но нет уже и несчастья, потому что нет Федора.
Через несколько дней, когда Татьяна вернулась с работы домой, Игнат сказал ей:
– Не раздевайся. Пойдем с нами.
– Куда, деда?
– Там узнаешь.
Втроем – Лизавета, дед Игнат и Татьяна – вышли на улицу и направились к главному проспекту заводской стороны. В конце проспекта Игнат остановился около нового, недавно построенного многоэтажного дома и, достав из кармана ключ, подал его Лизавете.
– Принимай квартиру.
Они вошли в широкий подъезд, поднялись на четвертый этаж и открыли дверь. На них пахнуло масляной краской и свежестью новой, еще не знавшей жильцов квартиры. Передняя и две двери в комнаты. Коридор, кухня, ванная... Игнат сказал:
– Согласно решению дирекции, квартира на имя Игната Тарханова. Соквартирант – его внучка Татьяна Тарханова.
– А меня забыли? – сказала Лизавета.
– Я сказал, что квартира на имя Игната Тарханова. А хозяйствовать в ней и управлять Лизавете Тархановой, жене Игната Тарханова. Ну, давай, мать, поцелую я тебя на радостях.
И он вспомнил ее халупу, сбитую из березовых поленьев. Но то было жилье беглеца, а сюда, в новый многоэтажный дом, он входил как хозяин жизни.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Конечно, проданный тархановский дом не мог идти ни в какое сравнение с их новой квартирой. Большие окна, паркетный пол. Водопровод, ванная, обещали газ. И все рядом: комбинат, кинотеатры, магазины. А вокруг чистота! Ни хлевов, ни навозных куч, ни помоек. Только одно плохо – по воскресеньям хоть уходи из дому. В воскресенье, да и вообще по праздникам все пять этажей – от первой до двухсотой квартиры, – весь этот огромный домина ходит ходуном. Все в нем пляшет, танцует, поет и играет. Частушка перекликается с оперной арией, топот «Барыни» заглушает шарканье па бостона, то взвизгивает гармонь, то тренькает балалайка, и все это покрывают всесильные радиолы. Нет в них жалости, и нет от них спасения. Да и не приспособлены эти новые дома для всеобщего праздничного веселья. Слишком тонки для этого межквартирные стены. Правда, деревня к шуму нечувствительна. Но пройдут годы, и как сейчас мы осветляем старые мрачные дома, так, видимо, что-то придется нам предпринять, чтобы сделать тихими новые дома. А впрочем, не решит ли многое человеческая уважительность?
Однако был в новом доме один изъян, который не замечал ни Игнат, ни Татьяна, но сразу же обнаружила Лизавета. И, что хуже всего, никто не в силах был его устранить. В новом доме Игнат и Лизавета как бы поменялись своими домашними ролями. Игнату очень нравилась квартира с большими светлыми комнатами, и каждый день он вносил в нее что-то свое, стараясь сделать жизнь удобней и даже красивое. То покупал какой-нибудь коврик, то мастерил для кухни полку, то дарил Лизавете на комод новую безделушку. И никому не давал натирать полы. Ни Лизавете, ни Татьяне. Полы натирал он сам, считая это дело не бабьим, требующим силы и уменья. Каждая полоска блестела у него, как зеркало. Лизавета не восторгалась Игнатом, она равнодушно взирала на его неугомонную деятельность и лишь по старой привычке поддерживала чистоту в квартире. Этого Игнат не мог не заметить.
– Ты что такая невеселая? – как-то спросил он ее. – Не больна ли? Иль, может, трудно тебе? Ты скажи. Я помогу.
– Чего помогать-то. И так делать нечего.
– Вот так нечего! Завтрак, обед, ужин. Весь день в хлопотах.
– Забыл ты, Игнат, про настоящие хлопоты. Вспомни-ка! Дом, огород, куры.
И вдруг он все понял. Новый дом лишил Лизавету своего огорода, своего маленького клочка земли, того, чем она жила много лет, что составляло весь смысл ее жизни. И понял еще, что бессилен ей помочь, потому что новые большие дома несовместимы с огородиками, курятниками, хлевами. Одно время он даже пытался переубедить ее: ну что тебе огород, иль мало на базаре картошки, капусты, луку? Но его слова не доходили до ее сердца, она как будто соглашалась с ним, и в то же время все больше и больше тосковала по своим грядкам, даже по базарному прилавку, вокруг которого на разные голоса шумела толпа. Когда серьезные уговоры не помогли, Игнат пытался хотя бы шуткой повлиять на настроение Лизаветы.
– Вот погоди, Танюшка выйдет замуж, народит внучат, они тебе покажут, что значит настоящие хлопоты. И огород забудешь, и живность. Без петухов среди ночи вскочишь!
Но, видно, ничто не могло помочь Лизавете. Ей нужна была своя усадьба, то, чем она жила все эти последние двадцать пять лет, если не считать, что один год в войну она заведовала подсобным хозяйством комбината. Война человека проверяет. Это верно. Но ведь война – стечение особых обстоятельств. А в мирное время жизнь складывается из обстоятельств обычных. Без героизма и самопожертвования. По старой привычке и характеру, по тому, что впитал в себя человек вместе с молоком матери. И когда Игнат увидел, что ничто не может помочь Лизавете, он понял всю глубину ее несчастья, понял так, как не могла осознать даже она сама. Ей мстила жизнь. Жизнь, прожитая для себя, знающая лишь свой узкий предел – забор или плетень, не поднявшаяся выше грядок. Жизнь была неосновательной, она зиждилась на любви к клочку земли, и стоило потерять его, как потерялся сам собой и смысл жизни. И когда? Когда уже нельзя себя изменить и тобой управляет сила привычки. Пустота жизни, – не дай бог ее почувствовать на старости! Когда осталось мало жить – нет ужасней сознания, что уже нечем жить.
Игнат понимал горе Лизаветы, но помочь ей был бессилен. Однажды он предложил ей организовать жильцов и устроить внутри двора цветник. Она даже не ответила ему. Зачем ей детские забавы? Сама садик я садила, сама буду поливать... Ей огород нужен для жизни, и в этом его оправдание. А нет этой необходимости – значит, и она никому не нужна. Но ведь нет такого горя, к которому не привык бы человек. Привыкла и Лизавета к своему горю. Нет участка – так нет. Ничего не попишешь. Значительно моложе Игната, она выглядела старше его. Поседела, сгорбилась, постарела. И что-то в ней было от пожухшей ботвы, забытой на грядке и схваченной зимним морозом. А кто виноват? Он, ее муж? Видит бог, он сделал все, что было в его силах. Разве что не вовремя. Но Лизавета не чужая ему, ее горе – его горе.
В новой квартире у Татьяны была своя небольшая комната. Вечером, собираясь в театр, она сидела перед зеркалом и, расчесывая волосы, думала о том, как она изменилась с тех пор, как уехала из Раздолья.
Сколько ей лет? Двадцать один. Ужас! Дед Игнат как-то говорил ей, что раньше в Пухляках таких, как она, называли перестарками. Если и выходили замуж, то за вдовцов. Ну что ж, можешь поздравить себя, Татьяна. Хотя по нынешним временам ты и не ходишь в старых девах, но что-то не видно, чтобы какой-нибудь женишок был на подходе. И, что еще хуже, несмотря на свои устрашающие года, ты совсем не задумывалась над своей жизнью. Ну кто ты, что ты и чего добилась? Улькин брат, небезызвестный твой бывший жених Федор Еремеевич, не дал бы и копейки за все твои достижения. Не достижения, а гибель надежд. Помнишь, ты мечтала стать кем-то вроде естественника. А кем стала? Ах, как ты наивна в жизни. Вместо того чтобы добиваться своего, ты решила, что нет большего строителя, чем формовщица огнеупоров. Даже выдумала в свое оправдание: человек красен не должностью, а тем, как он выполняет свой долг, не тем, что он руководит, а тем, как он работает. Нет, этого Федору не понять. Уехал учиться в торговый институт, получит диплом, займет высокую должность. А что за всем этим? Любовь к знаниям, науке? Нет! Желание быть выше других. А вот она не хочет быть выше других. Зачем ей это? Она хочет работать, все видеть, читать, жить полной жизнью. Взять у жизни все, что можно, и дать ей все, что может. Как самый простой человек. И меньше всего ей нужен диплом. Диплом ради диплома? Да и поздно. За эти годы все перезабыла. Ах, Татьяна Васильевна, что вы говорите! И в какое время говорите. На пороге коммунизма, да еще мечтая быть достойной будущего. А что такое коммунизм? Результат длительного развития человеческого общества. Оно сосредоточит в себе все лучшее, что было до него. Значит, тогда человек вберет в себя все лучшее человеческое. Он будет человечен. В нем будут совершенствоваться лучшие человеческие качества. Таких людей уже сейчас много. А будут все. Это уже из лекции о моральном облике. Но если без шуток, то ведь она права. Начальничек, начальник, начальнище. Диплом, должность, душа. Чем измерить человека? Надо стремиться быть человеком. В сущности, в этом самое большое счастье. Круг счастья так мал и так необозримо велик. Его нет без любви одного человека к другому и без уважения сотен людей. Честолюбие, стяжательство? Все это ложные возбудители человеческих чувств. Их выдумал человек, чтобы усилить ощущение радости и счастья, а в действительности все это рано или поздно умножает его беды. Смотри, какая ты стала умная, Танька! Что дед Игнат. Нет, тебе далеко до него. Что ты знаешь о правде? Где она, в чем она? А он ищет. Ну совсем как толстовский Платон Каратаев! Рассказала о нем. Выслушал и ответил: «Оно конечно, и Платон этот самый правду искал. Только ему правдой казалось одно, а она, эта правда, была совсем другой. Он к правде стремился, хотел ее, а найти не мог. А почему? Не было ее. Понимаешь, не было! Правда, она вокруг нас, в самой жизни. А какая же была правда в тогдашней жизни? Хоть днем с огнем ее ищи, не найдешь. Оно верно, правда горькая бывает. Все равно прими». А то вдруг накинется: «Что дома сидишь? Солнце для кого создано? Для тебя! Думаешь, оно само по себе, а ты сама по себе? Ну, нет. Не будь солнца – тебя бы не было. Значит, тебе оно как мать. Стало быть, для тебя существует». Солнце солнцем, а деду Игнату она многим обязана. Это он ей объяснил, что кроме жизни для себя у человека есть жизнь вместе с другими и для других. В этом смысл нашей жизни. Тот, кто любит лишь себя, в конце концов возненавидит все. Не думающий о себе обретет любовь всех. Кто этого у нас не поймет, разобьет себе голову.
Татьяна снова взглянула в зеркало. Нет уже больше круглолицей, с длинной косой и тоненькой шеей, мятущейся девчонки. Раздалась в плечах, на лице решительность, даже суровая складка меж бровями. Еще бы! Теперь ты мастер участка. А разве мастер может быть легкомысленным, несолидным? Да, она уже мастер! И потому косу пришлось скрутить тугим кренделем, носить прическу и не фыркать, когда что-то не нравится, а спокойно все выслушивать, и если имеешь дело с подчиненными, вразумлять и заставить делать по-своему, а если с начальством, то соглашаться, но тоже делать по-своему. Упрямая, как прежде. Вот только живешь без любви, без чувств. Может быть, ты свое отчувствовала и напрасно чего-то ждешь? Да и есть ли большая, настоящая любовь? Если нет ее, то лучше совсем быть одной, чем размениваться на мелкие увлечения и однодневные чувства. Так недолго докатиться до Верки Князевой. Сегодня с одним, завтра с другим.
У Татьяны не было чувства опустошенности, душевного надлома. Она порой даже забывала о своей неустроенной личной жизни. Но помимо ее воли все, что так интересовало ее сверстниц, все эти откровенные девичьи разговоры в цехе – об увлечениях, ухажерах, молодых парнях и даже о любви – вызывали у нее чувство собственного превосходства, словно она хотела сказать: болтайте, болтайте, девчонки, а меня не обманешь, я знаю, что все это значит и какова всему этому цена. Теперь ее жизнь шла словно по конвейеру – комбинат, дом, кино, театр. И никаких событий.
Но кто знает, может быть, самые важные события – это те, что происходят внутри нас? Незримые для других и порой нами самими плохо осознаваемые. Разве не они чаще всего неожиданно потрясают наши души? Во всяком случае, так было с Татьяной. Чем больше она втягивалась в жизнь цеха, тем все чаще, как это ни странно, у нее возникало чувство неудовлетворенности. Какой-то внутренний голос внушал ей: все это не то, что тебе надо. Подумай, разберись. И однажды ей пришла в голову очень ясная и простая мысль: почему она делает кирпичи, а не вяжет кофточки в трикотажной артели? Неужели все в жизни случайно? Она попала в театр потому, что на ее пути встретился Дроботов, она пришла на комбинат потому, что сюда привела ее Улька, а выйди она за Федора, она, конечно, стала бы бухгалтером или инспектором, чтобы соответствовать служебному положению мужа. А ведь она мечтала быть естественником, микробиологом, генетиком – точно она даже сама не знала кем. Но ей хотелось изучать жизнь земли, понимать, что в ней происходит, и уже не по-детски, как когда-то, а по-серьезному вникнуть в скрытую силу маленьких семян, таящих в себе хлеб и лен, капустные вилки и россыпь мака, гигантские сосны и кусты придорожной ивы... И разве не та же случайность помешала ей осуществить эту мечту? Все спуталось, перемешалось в ее жизни. И эта путаница заслонила собой ее большую мечту. Привязанная к дому болезнью Лизаветы, она была счастлива получить самую маленькую работу в театре, и, принужденная уйти из театра, она нашла новое удовлетворение в работе формовщицы на огнеупорном комбинате. Он принес ей свое счастье. Она не знает – было ли оно больше или меньше, но если там, в театре, она была счастлива каким-то своим маленьким и уютным мирком, то здесь, на комбинате, это счастье было в необыкновенно расширившейся перед ней жизни, в ощущении связи с этой жизнью, в сознании значимости того, что она дала для металлургии. И все-таки пришло неудовлетворение. Пришли раздумья. Почему кирпич? А как же ее давнишняя мечта – жизнь земли? И все это явилось, когда, казалось бы, она нашла свой смысл жизни? Ведь ей даже предлагают поехать учиться в институт, стать инженером-керамиком. Нет, то, что вчера могло быть большим счастьем, сегодня потеряло в ее глазах всякую ценность. Но что же тогда с ней произошло? Отчего не в театре, а именно на комбинате, где перед ней готова была раскрыться широкая дорога жизни, ее потянуло назад, к своей давнишней мечте? Не в том ли заключалась вся тайна совершавшихся в душе Татьяны перемен, что комбинат, приобщая ее к большому творческому труду, тем самым пробуждал в ней желание найти свое настоящее место в жизни? Как три года назад, она снова думала о биологическом. Но прежде ей надо года два готовиться к экзаменам. А потом еще пять лет учиться... Сколько же ей ждать осуществления своей мечты? Да ведь это все равно, что отказаться от нее. Нет, ни за что. Только надо все спокойно обдумать, и выход будет найден. Выход к мечте, которая, как теперь казалось ей, была у нее с детства, с той поры, как дед Игнат выводил ее в поле.
У Татьяны было такое чувство, словно ей предстоит начать заново свою жизнь.
Зимними сумерками после работы Татьяна, не заходя домой, вышла к мосту. Река лежала неподвижная, скованная льдом, посреди, на порогах, тянулась узкая полынья. Казалось, к берегам припаяны причаленные с осени плоты. С речной низины тянуло зимним холодом, и снег под ногами был плотный, белый, не тронутый заводской копотью. Она взглянула на кружевные арки моста, поднимающегося над рекой, и ощутила в ранних сумерках завтрашнее солнце. Как всегда в канун погожего дня, мост через Мсту казался выше, стройнее, и в его железном кружеве появилась прозрачность, словно откуда-то издалека сюда доходил еще невидимый для глаза солнечный свет, который придавал даже темному зимнему небу какую-то едва уловимую голубизну. Татьяна остановилась над кручей речного обрыва и невольно подумала: «Что мне сулит завтрашний день?»