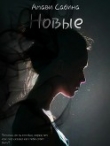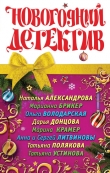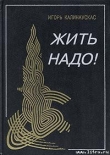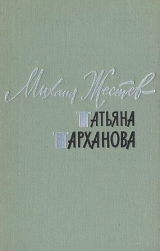
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
И вдруг перрон, отец, дед Игнат – все исчезло, словно укатило куда-то по рельсам. А себя Татьяна увидела в товарном вагоне. Она куда-то едет с отцом. Она дремлет, положив голову на его плечо. Он накинул на нее свою шинель и тихо говорит: «Спи, спи, Танечка, когда надо будет, я тебя разбужу». Ей было уютно, тепло и очень хорошо.
Она очнулась от лязга буферов, гудка паровозов и тихого голоса отца:
– Танечка, посадка началась.
Он снял с нее шинель. И вместе с шинелью исчезло ощущение уюта, тепла и чего-то необыкновенного, что проникло в ее душу.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Татьяна по-своему знала войну. В ночном небе прерывистый гул – словно задыхаясь от злобы, летит фашистский самолет, он несет смерть. Это война. Падает бомба, взрыв, пламя пожарища, стоны людей – это тоже война. Подъезжающие к госпиталю крытые автомашины, на носилках выносят раненых солдат, крутые железные лестницы на чердаки цехов, свалки гипсовых повязок в овражьей низине, противогазы, в которых носят хлеб и бачки с кашей, – все это тоже война. Но стоило войне удалиться на сотни километров, и она уже стала восприниматься как нечто отвлеченное, стала самой обычной географической картой, по которой движется на запад красная, проколотая булавками узкая лента. Но вот она проводила на фронт отца, и красная лента вспыхнула живым пламенем, географическая карта приобрела особый смысл, и сознание вдруг опалила мысль: ведь каждый город, каждое село надо отнять у немцев. И за каждый город, за каждое село надо заплатить жизнью и кровью. На кого падет смертный жребий войны? Может быть, на ее отца? И вот уже война ей кажется великим пламенем, охватившим от края до края всю землю, и сквозь пламя с автоматом на груди идет ее отец. И идет он туда, где вдали виден неведомый город Берлин, город зла и ненависти к людям, который, как говорил дед Игнат, должен в огне очиститься от фашистской скверны.
Война откатывалась все дальше и дальше на запад. Она уже приблизилась к Берлину. И для тех, у кого не было или уже никого не было на войне, она закончилась. Но у Татьяны на войне был отец, и для нее война не окончилась даже после того, как было объявлено о взятии Берлина и полной капитуляции немецко-фашистской армии. Последнее письмо было написано за три дня до конца войны. Войны уже не было, но в сердце девочки она еще шла. Через ее сердце пролегала последняя линия фронта, ее сердце обливалось последней кровью войны. Наконец от отца пришло письмо. Он сообщал, что еще задержится в армии.
Померкло пламя войны, от нее остались лишь старые, угасшие пожарища, ушел из сердца Татьяны страх. В сознании остался навсегда лишь образ человека, идущего сквозь огонь с автоматом на груди. Но это уже был не отец, а все те, кого она встречала в госпиталях и кто вернулся с войны, и те, кто остался там, неведомый ей в жизни и так же неведомо где ушедший из нее.
Прошло более года. Татьяна была уже в девятом классе.
С нетерпением ждала она возвращения отца. Ей даже казалось несправедливым, что ко многим девочкам отцы вернулись, а ее отца, которого она за всю жизнь видела лишь один день, еще держат в армии, не отпускают.
– Деда, а отец нас искал, когда был в Хибинах?
– Боялся искать.
– А мне знаешь что иной раз кажется: а вдруг он нас не хотел искать? Жил, жил, а мы ему совсем не нужны были.
– И тебе не стыдно так думать? – рассердился Игнат.
– Я не думаю, деда, но что я могу сделать, когда так думается.
– Глупости всякие в голову лезут, – проворчал Игнат.
Татьяна согласилась. Верно деда говорит – глупости лезут ей в голову.
Она была для Игната прежней Танюшкой, в которой он не чаял души и которую он любил, не боясь признаться в этом, больше Василия. Возможно, именно поэтому он, к собственному удивлению, обнаружил, что тонкая, звонкая и неугомонная девчонка повзрослела, стала девушкой, и хочет ли он того или не хочет, а надо мириться с тем, что к ней хаживают парни, какой-то там Егорушка Романов и Вася Демидов, что с мальчишками она ходит в театр и приходится иной раз открывать ей дверь поздно ночью. Да, Танюшка стала совсем большая! Она еще в школе, на ней еще школьный передник и косы повязаны смешными бантиками, но теперь он понимает, что живет она уже не школой, а своими мечтами о будущем. Как все просто было раньше, когда подрастал он сам, и даже когда в тех же годах был Василий. Земля отца – земля сына. Отец мужик – сын мужик. И о девках думать много не надо было. Разве что как бы поскорей выдать замуж... Сыну – землю, дочке – мужика – вот и счастье! А как сделаешь счастливой Танюшку? Все выпытывает: «Как ты думаешь, кто из меня лучше получится – инженер или биолог? А может, мне на актрису пойти учиться?» Ишь как загадывает! Вот оно, ее счастье. Думает, выбирает, требует совета. А что ей посоветовать? Ох, беда, коль молодые далеко от стариков уходят. Тогда как знаешь: ищи дорогу сам! Еще, конечно, товарищ может помочь. Вот у Танюшки товарищ – Ульяна Ефремова. Не в отца дочка, с характером. Прямая, людям смело в глаза смотрит. И тоже, видно, по ученой части пойдет. А больше всего обе стихи всякие читать любят. Закроются в комнате и читают. Слушаешь – словно родник бьет... Светлая вода... И сам взял ту книжку. На глаз никак не прочесть... «Разворачивайтесь в марше... Словесной не место кляузе...» Слова ясные, а строчки – словно изгородь неровная... Слово к слову не приставить... А девчонки даже не споткнутся. И о красоте у них свое понятие. Купила Лизавета Танюшке коврик. Повесила над кроватью. Шелковой гладью на нем кошечки вышитые... Красивый коврик. А Танюшка набросилась на Лизавету: «Зачем вы купили этих кошечек?» А потом долго смеялась: «В следующий раз купите с лебедями! А еще лучше – с расписной красавицей...» Он помалкивал. Даже не заступился за Лизавету. Может, и верно, во всех этих кошечках и лебедях нет никакой красоты? Еще с Танюшкой он поспорил бы... Но с Ульяной... Увидев коврик, она улыбнулась:
– А что ж – коврик неплохой. Вот выдадим мы Таньку замуж, у нее народится потомство, и тогда мы этих кошечек повесим у детской кроватки...
Шутка шуткой, но Танюшка уже не прежняя девчонка, если подружка выдает ее замуж и сулит ей потомство.
Но, в общем, Игнат ничего не имел против того, чтобы Танюшка из девчонки превратилась в барышню, и даже сделал для себя кое-какие родительские выводы. Пусть Лизавета поглядывает, что за парни около внучки увиваются. И не надо ли ей новые туфлишки или шляпку купить? А главное, соответственно к ней относиться... Увидит – дед уважает, будет требовать и от других уважения. Назвать ее сопливой – боже упаси! И ни-ни, чтобы выругаться при ней. И требуется блюсти обхождение с Лизаветой... Так сказать, для поддержания женской гордости. Но самому Игнату было в это время совсем не до внучки. Татьяна никогда еще не видела его таким обеспокоенным и хмурым. Сначала даже трудно было понять, что его тревожит и вызывает в нем постоянное раздражение. Он возвращался с работы поздно и, едва перешагнув порог, начинал ругать чем-то не угодивших ему начальников цехов, которые всех распустили и больше думают о собственном спокойствии, чем о том, как бы быстрее, на полную мощность пустить комбинат. Обычно летом Тархановы пили вечерний чай на веранде, откуда открывался вид на все Раздолье. А тут Игнат стал требовать, чтобы накрывали стол за домом, где все заслонял собой огородный плетень, и зло ворчал:
– Тошно смотреть на Раздолье.
Он перестал понимать, что творится в том самом Раздолье, которому положил основание. Одно слово – Раздолье, а на самом деле теснота! Понаехали со всех сторон племянники и племянницы, зятья и свекры, всякие тетки и дядья – кто откуда, а больше всего из Глинской округи. Одни к родне, другие свой дом строить, третьи к знакомым, пока место в общежитии дадут. Каждый вечер Игнат обязательно рассказывал какое-нибудь очередное неприятное происшествие, случившееся на комбинате. У склада, за штабелем досок, рабочие распивали водку и даже не устыдились, когда их увидел начальник цеха. В механической, что окнами выходит к складу готовых изделий, трое заспорили, кто незаметно для охраны подползет под проволоку и среди белого дня унесет мешок огнеупорного кирпича. Зачем им кирпич? Озорство! Один такой целый день по цеху слонялся, сам ничего не делал, другим мешал. Его прижали. Так грудь выставил, чуть не в драку полез.
И все же больше всего беспокоили Игната не эти сорвиголовы. Игнат понимал, что война, потребовавшая от людей величайшей дисциплины и самопожертвования, породила кое у кого желание не считаться с той самой дисциплиной, которая еще недавно властвовала над ним. Придет время – одни образумятся, других образумят, порядок будет – иначе производство немыслимо. Другое вызывало его возмущение. Многие из тех, кто заполнил собой Раздолье и осел в Глинске, еще недавно были колхозниками. Родившиеся на земле, вспоенные и вскормленные ею, они были равнодушны к ней. Они бросили ее без сожаления и раздумья. Пусть дураки, которым некуда податься, на ней работают, а они ушли в город и назад ни за что не вернутся. Они не хотели даже слушать о колхозе. На все был у них один непробиваемый ответ: «Тебе нравится работать на земле? Ну и работай, а к нам не приставай». И если с нарушителями трудовой дисциплины он мог спорить, убеждать их и, наконец, пригрозить им, то перед этими, уже послевоенными беглецами из деревни он чувствовал себя совершенно беспомощным.
Однажды летом ему позвонили из завкома.
– Игнат Федорович, к вам зайдет председатель одного колхоза. Подумайте, чем мы можем им помочь.
Не прошло и десяти минут, как Игнат увидел пробирающегося через завалы строительного мусора пожилого человека в чесучовом нараспашку пиджаке, в соломенной шляпе, с палкой, срезанной, наверное, в орешнике. Игнат догадался: это и есть тот самый председатель, которому придется помогать. Но когда гость вошел в конторку, Игнат удивленно воскликнул:
– Тарас, ты?
– Видно, нам с тобой не разойтись, – весело рассмеялся Тарас. – Ты от колхоза, а колхоз к тебе. Эх, если бы не война, знаешь, где бы уже колхозы были? Ну да чего там говорить, сам понимаешь. А теперь такая нехватка в людях. Строить надо, а некому.
– Стало быть, за людьми приехал?
– Хоть самому берись за топор.
– А где же я их возьму? Наш ремонтно-восстановительный цех не велик.
– Урви где-нибудь.
– У государства, Тарас, надо урывать.
– Я понимаю. Но и мы ведь не частники. Мне бы бригадку человек на шесть. Я бы рядом кого помоложе поставил, глядишь, через месяц-другой свои плотники. Ведь те, что были, все у тебя.
– Не встречал.
– В городе заводы строят, в городе легче…
– Да так ли?
– В деревне две работы делать надо. И колхоз обстраивать, и свое жилье. А в городе он за восемь часов со всеми делами управится.
– Ладно, двух плотников я тебе уступлю.
– Это все равно, что ничего не дать.
– Постой, еще получишь подъемник. Есть у меня один на примете. Я его быстро отремонтирую и доставлю. А подъемник – он трех рабочих стоит.
– Да мне специалисты нужны, плотники, хоть на три месяца.
– Дам трех на полгода. И пользы будет больше, и, выходит, шестерых даю.
Тарас был несколько сбит с толку этой неожиданной арифметикой, но дважды три – все-таки шесть, и он лишь сказал:
– Ладно. А гвоздей не дашь?
– И людей и гвоздей?
– Еще бы старый драночный станочек.
– Опять раскулачить хочешь? – рассмеялся Тарханов.
– Стекло еще требуется.
– Постой, Тарас. Ты меня своим шефом выбрал не потому ли, что думаешь: Игнат – он свой, земляк, не откажет.
– А нам половина всего рабочего класса земляки. Думаешь, не вижу? Люди-то все уходят и уходят из колхозов... Еще больше, чем до войны.
– Видно, война избаловала...
– Избаловала? – как-то неопределенно переспросил Тарас и неожиданно резко поднялся с табуретки. – Ты зарплату давно получал? Неделю назад! И через неделю опять получишь. А в ином колхозе грамм да грош, и то раз в год. Самому простому человеку надо быть героем, чтобы работать в таком колхозе и не думать, как бы уйти в город. Вот тебе и избаловались. – И тут же, приглушив злую вспышку, сказал уже спокойно, с усталостью: – Так ты, Игнат, стекло тоже дай. Ты – бывший мужик и должен понять: не оттого у нас грамм да грош, что разучились хлеб сеять, а оттого, что за наш хлеб больше не платят. А почему так – не пойму. Может, денег у государства мало? А может, считают: ничего, колхоз сдюжит? Только сколько же можно так сдюживать? Войны-то нет.
Игнат молчал. В Пухляках беда! Да что же это такое? И денег мало, и хлеба граммы, и люди бегут, словно нет им дела до колхоза. А ведь земля – это все. Земля – хлеб, земля – уголь, земля – железо. Земля – всему начало. И не будет никому в жизни хорошо, если в колхозе плохо.
Неожиданно спросил:
– А дома-то все в порядке? Старуха-то как?
– Старуха у меня крепкая. Всех нас переживет.
– Иринья все у тебя? Как она?
– Трудно бабе, коль у нее ребят что зубьев в бороне, а еще труднее, которая сама по себе, и кругом никого.
– Значит, никого, – в раздумье проговорил Игнат и, чтобы не встретиться взглядом с Тарасом, опустил голову. – Это ты верно сказал, трудней нет, когда сам по себе. Жалко бабу. – И вспомнил летнюю ночь, сарай и счастливый, тихий смех Ириньи. И вспомнил еще, как на следующий день задумчиво смотрела она куда-то вдаль за Мсту, словно ждала из будущего своего счастья. Не сбылось! Видно, так уж ей суждено. Вот она, жизнь деревенская. В людской бедности, в бабьей горести.
Сколько лет прошло с тех пор, как Игнат оставил деревню. Казалось, уже ничто не сможет пробудить в нем чувства человека земли, задеть ее болью, ее нуждой. Все как будто было похоронено под пережитым страхом беглеца, под горькими раздумьями об обиде, наконец самим новым его существом рабочего человека, привыкшего к пыли помольных цехов и жаркому дыханию гофманских печей. Даже поездка в Пухляки во время войны не вызвала у него такого чувства, как этот приезд Тараса Потанина. Грош да грамм! Он мысленно повторял эти два слова, и у него было такое чувство, словно он сам обнищал. Грош да грамм. Как же там люди живут? Ему уже чудилось, как бедность одного колхоза разливается по всей Мсте, надвигается на Глинск. Он был рабочий, но жизнь деревни была для него мерилом жизни всей страны.
После работы Игнат зашел в пивную. Выпил стакан водки. Но что ему стакан, когда о тех, кто хмелеет от литра водки, говорил с пренебрежением: слабоватый нынче народ! На этот раз он сам охмелел. Выйдя из пивной, он услышал: «Ну чего стоишь, как колхозник, посеред дороги». Это было сказано не ему. Но из всего того, что говорили вокруг, он запомнил лишь одну фразу. А потом почти то же самое он услышал, когда садился в автобус: «Эй, деревня, куда лезешь?» Игнат резко повернулся. Кто это сказал? Ему даже почудилось, что и там, у пивной, и здесь, на остановке, был один и тот же человек. И вдруг уже в самом автобусе он услыхал: «Соображать надо, тут тебе не колхоз...» Это уже сказал вон тот, в мягкой шляпе, что стоит к нему спиной у выхода. Игнат рванулся вперед, пробиваясь сквозь людскую толщу. Он этому городскому покажет, как соображать надо. Он его научит, кто кому посеред дороги встал и куда лезет колхозная деревня. В эту минуту он забыл, что когда-то сам с пренебрежением говорил о колхозах. Он этому в шляпе скажет: «Ты чей хлеб ешь, сука? Тебе кто дал право не уважать людей, которые хлеб сеют?» Он был так возмущен, что не заметил, как на первой же остановке человек в шляпе вышел из автобуса. Он увидел его уже на тротуаре, когда дверь автобуса автоматически закрылась. «Стой, кондуктор!» Но автобус тронулся. И тут Игнат увидел, что человек в шляпе – Чухарев. От обиды, злобы и возмущения Игнат выругался.
– Вот сволочь. Сам ведь из деревни!
Чухарев его тоже увидел, узнал, весело помахал рукой. И так они приветствовали друг друга, один ругаясь, другой весело улыбаясь, пока автобус не свернул за угол и они не потеряли друг друга из виду. А кондукторша сказала Игнату:
– Гражданин, если будете выражаться, я вас милиционеру сдам. – И добавила: – Не успел из деревни в город приехать и уже наклюкался.
Игнат, совершенно отрезвевший, поспешил покинуть автобус.
Бывают такие дни в жизни человека – дни самых неожиданных событий. Вечером, когда Игнат рассказывал Лизавете о своей встрече с Тарасом, а потом с Чухаревым, хлопнула калитка, и во двор вошел с чемоданом в руках невысокий, худощавый, совершенно седой человек. Поднявшись на крыльцо, незнакомец нерешительно остановился в дверях.
– Здравствуйте, Игнат Федорович.
Игнат удивленно оглядел гостя, хотел спросить, кто такой, зачем пожаловал, но не успел, потому что какая-то сила подняла его из-за стола и бросила навстречу пришельцу. Могучими своими руками он обнял седого человека, расцеловал его и повернул к Лизавете.
– Узнаешь, Лиза? – И, не ожидая ответа, сказал: – Эх, Матвей! Эка, брат, тебя побелило.
– Война, Игнат Федорович.
– Прямо с поезда?
– Хотел в гостинице остановиться, да мест нет.
– И хорошо, что нет.
На шум из боковой комнатушки вышли Татьяна и Уля.
– Узнаешь? – Игнат обнял за плечи внучку и ее подругу и подвел их к Осипову. – А ну, угадай, кто из них Танюшка?
Матвей уверенно показал на Татьяну.
– По глазам видно... Тарханова! Здравствуй, Танечка... А ты меня помнишь?
– Нет...
Игнат снова внимательно посмотрел на гостя и сказал, словно не веря, что перед ним именно тот самый Матвей, с которым так крепко связаны были первые годы его жизни в Глинске:
– А давно ли такой был? Сколько времени прошло, а как вчера.
После чая Игнат и Матвей вышли на крыльцо. Внизу на ступеньках примостились Татьяна и Уля. Игнат положил руку на колено Матвея, поглядел на его белую голову.
– Рассказывай.
– Как-нибудь после.
– А ты давай, как отцу. – И тут же каким-то чутьем все понял, без слов, по его глазам. – Немцы?
– Дочку и жену сожгли живыми. Я партизанил, так нашелся предатель.
И прежде чем Игнат успел спросить, кто был этот предатель, Ульяна Ефремова, та самая Уля, которую все считали девушкой с сильной волей, разрыдалась.
– Улька, что с тобой? – испугалась Татьяна.
Уля вскочила с крыльца и бросилась к калитке.
Татьяна догнала ее на улице.
– Я тебя провожу.
– Не надо.
– Посидим на скамейке.
Уля присела и тихо, все еще не в силах унять слезы, сказала:
– Боже мой, сколько зла у людей.
– Фашисты разве люди?
– А те, которые предали? Как это страшно.
– Ты устала, Улька, из-за этих экзаменов. Ну, успокойся, не надо думать об этом.
– Нельзя не думать. Понимаешь, я не могу. Мне вдруг почудилось, что этим предателем мог быть мой отец.
– Какие ты глупости болтаешь.
– Тебе трудно понять меня. У тебя совсем другая семья.
– Знаю, знаю, слыхала. Отец, как ты установила, арендовал мельницу.
– Не в том дело. Все, что вокруг, ему чужое. И я чужая.
– У тебя есть брат.
– Думаешь, Федор лучше? Для отца все чужое, а для Федора все свое. Только в смысле – для себя.
– Ах, я совсем забыла, что брат у тебя трофейщик, – воскликнула Татьяна. – Привез из Германии иголки и хочет превратить их в корову? Это даже интересно. Помнишь сказку про дурака, который променял корову на иголку? А Федор умный. И хочет, чтобы иголка дала ему корову. Да плюнь ты на все это. Ну чего нам с тобой недостает? Сдадим экзамены, получим аттестаты – и прощай, Глинск! У меня даже сердце замирает. Ленинград, студенческая жизнь. Весь мир наш.
– Не много ли? Что ты будешь делать с целым миром?
– Но и ты хотела на педагогический.
– Раздумала. Я решила на керамический...
– Институт?
– Комбинат. Формовщицей. Завтра подам заявление, а после выпуска сразу начну работать.
– Я тебя не понимаю, – рассердилась Татьяна. – Это каприз.
– Я не хочу зависеть ни от отца, ни от Федора.
– Какая чепуха!
– Я не хочу, чтобы Федор имел право сказать: «Если бы не я, то не видать тебе твоего института». – И с пренебрежением добавила: – А вот и он сам, можешь полюбоваться.
По другой стороне улицы шел Федор в полувоенной форме: в сапогах, синих брюках-галифе и в пиджаке. Рядом с Федором шла в широкой гофрированной юбке и белой блузке без рукавов Вера Князева. Когда-то, до седьмого класса, она училась вместе с Татьяной и Улей, потом стала парикмахером, а из парикмахерской перекочевала на комбинат.
Татьяна была еще сердита на Улю.
– Ты хочешь быть такой же недоучкой, как Верка?
– А что значит – недоучка? Разве Князева не доучилась? Семь классов – это все, что она могла одолеть.
– Но ты не Князева. Или ты считаешь десятилетку своим потолком?
– Оставь меня в покое, Танька. Неужели ты не видишь, что мне и без тебя тошно.
– Странно все-таки, – проговорила Татьяна, уже не пытаясь больше переубедить Улю. – Странно: сколько лет мы дружили, а такие разные. Ты, может быть, добрее меня. Во всяком случае, добрее ко мне, чем я к тебе. И все-таки при всей твоей доброте есть в тебе какая-то злость. Я даже не могу понять...
– И не поймешь. Для этого надо быть на моем месте.
– Но ты объясни.
– Я тебя люблю, Танька. И больше ты мне не задавай вопросов. Ну что я тебе объясню? Ну, я такая уж есть.
– Скажи, Улька, ты когда-нибудь думала о любви? Какая она, любовь?
– Когда человек готов себя принести в жертву ради любимого, – не задумываясь, ответила Уля.
– Я знала, что ты так ответишь. Но ты неправа. Любовь – это когда ты живешь одним желанием: принести любимому счастье. Без этого нет любви!
– А Ромео и Джульетта? Ты отрицаешь самопожертвование?
– Я не отрицаю его. Но не это главное. В древние времена вместе с умершим мужем отправляли на тот свет любимую его жену. Но что-то мы не следуем их примеру. А желание принести любимому счастье будет жить вечно. К тому же самопожертвование предполагает какое-то горе, а оно тоже не вечно. Настанет же время, когда у людей не будет горя.
– Тогда я с тобой, может быть, соглашусь. А пока… Знаешь, что однажды пришло мне в голову? Пока на земле есть хоть один несчастный человек, книга о его страданиях будет нужной, жизненной книгой.
Татьяна проводила Улю и всю обратную дорогу думала то о ней – почему она решила идти работать на комбинат, – то о Федоре и его иголках, то о себе и о любви. Ей было чуть-чуть грустно, что придется ехать в Ленинград одной, и в то же время радостно. Ведь впереди ее ждет новая жизнь, неведомая, полная неожиданностей и потому такая заманчивая. И оттого, что ей было так хорошо, она прощала Уле ее каприз и казалась себе очень умной и доброй. Улька, Улька, ну что ты там выдумала! Работать формовщицей. Зачем же ты тогда училась десять лет?
В окнах дома еще горел свет. Татьяна улыбнулась. Ох, любит дед Игнат поговорить. Но едва она миновала калитку, как почувствовала, что кто-то схватил ее сзади за плечи. Слегка повернув голову, она увидела рукав военной гимнастерки.
– Кто это? – хотела вырваться и не могла. – Пустите!
– Угадай – отпущу!
Голос был незнаком. Она резко повернулась и, не зная еще, кого увидит, по какому-то наитию крикнула:
– Отец!..
Василий смотрел на дочь, и ему чудилось, что вся его трудная, страшная, наполненная смертельной опасностью жизнь только привиделась ему, что он не в Раздолье, а в Пухляках, как бывало, двадцатилетний, а перед ним не дочь, а Татьяна, его невеста Татьяна, которую еще надо высватать у кряжистого из соседней деревни мужика. Как они похожи, эти две Татьяны. И только глаза их разнят. У той, умершей, были кроткие, пугливые, а у этой – тархановские, большие, огневые, с узким разлетом, чуть не до висков.
Да, это был день самых неожиданных встреч.