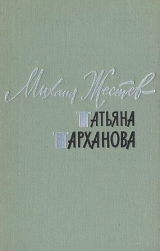
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
В сенях послышались голоса, и в раскрытых дверях Игнат увидел Ефремова, его жену и детей: дочь Ульяну, чуть постарше Танюшки, и сына Федора, мальчонку лет восьми, который остался в сенях и оттуда смотрел на всех с хмурым любопытством. Татьяна на девочку не обратила внимания, а подошла к мальчику и спросила:
– Тебя как зовут?
– Федор Еремеевич.
– Это фамилия Еремеевич?
– Батька у меня Еремей.
– Пойдем играть на улицу.
Они вышли за калитку, и, прежде чем успели придумать игру, Татьяна увидела, что прямо на нее бежит большая собака. Невольно прижавшись спиной к забору, она протянула руку, ища защиты у своего спутника. Но Федор Еремеевич исчез. Татьяне ничего не оставалось, как в одиночестве пережить свой страх. А собака постояла около нее, обнюхала и побежала дальше с таким видом, словно девчонка у забора не заслуживала ее собачьих зубов. И когда опасность миновала, Татьяна заплакала.
– Ты чего? – спросил Федор Еремеевич, появляясь из калитки.
– Собака... Такая большая...
– Я думал, она тебя съела! Чего же ты плачешь?
Во двор вышел Чухарев, а с ним Игнат, Лизавета и Одинцов. Чухарев покачивался, икал и говорил Игнату:
– Пойдем теперь в гости к моему дружку.
– Ефремов же к тебе пришел...
– Скорей уйдет. А я тебя с Горбылевым познакомлю. Антон Ферапонтович кладовщиком у нас работает, душа человек.
– К Горбылеву так к Горбылеву, – согласился Игнат, и все вместе направились на соседнюю улицу.
У Горбылева было полно гостей. Из уважения к Чухареву и его знакомым кое-кому пришлось потесниться. Двух парней, уже изрядно выпивших и полудремлющих за столом, Горбылев вывел даже на улицу и там радушно напутствовал:
– Давай, давай, хлопцы, у меня попили, теперь валяйте к другим.
За столом было шумно. Через стол громко переговаривались две женщины:
– Марья, ты дорогую колбаску покупаешь?
– Не иначе как с сальцем.
– А по мне так и рубец хорош. Кто у меня в животе-то видит: картошка там или яишенка? Надо, чтобы здесь видели. – И она так тряхнула плечом, что даже затрещала шелковая кофточка.
Марья, не желая, чтобы ее собеседница выглядела в хозяйственных делах более опытной, отвечала ей с той же назидательностью:
– Оно конечно, Аннушка, чего бы ни поисть, только бы поисть, но далеко нам до города. Жаль, нет тут нашей матушки – русской печки. Она, кормилица, бывало, и завтрак спечет, и обед сварит, и на ужин горячее оставит. Опять же, какое без печи мытье? Она тебя и полечит. Этакие печки у нас были, а готовить не могли. Да скажи мне сейчас: съешь, Мария, что сготовила у себя в деревне, – не стану. Ложка торчком, а вкуса никакого. И какой может быть вкус, ежели чугуны месяцами не мыли, окромя соли никакой приправы не знали. В такой темноте жили. – И, неожиданно строго взглянув на сидящую рядом старую, в черной косынке женщину, сказала назидательно: – Для капусты, маманя, вилка есть, а вы опять пальцами в миску лезете. Стыдно в гости с вами ходить.
Женщина в черной косынке растерянно разжала пальцы и тяжело вздохнула. Кто знает, что она подумала в эту минуту? Может быть, как никогда, пожалела о том, что сама первая научила дочку бросить колхоз и переехать в город? Как хорошо было там, в деревне! Сиди как хочешь, ешь как умеешь! И пусть не сразу наладилась в колхозе жизнь. Обжились бы, все утряслось бы. А вот сидеть по-городскому за столом никогда ей не научиться. И пока жива – будут ее понукать: то не се, это не се. Господи, чем заслужила немилость твою?!
Из края в край стола шел громкий пьяный говор. Каждый что-то хотел сказать, и почти никто не слушал другого. Но все говорили об одном: о городе. Чудном и незнакомом, о городе, которого немного побаивались и который в душе презирали. Нет, если бы в деревню приехали городские, им черта с два дали бы пустить корни в деревенскую землю. Крикливый женский голос взвизгивал над самым ухом Игната:
– Эй, – говорю я ему, это продавцу, – покажи мясцо! А он мне отвечает: «Гражданка, нельзя ли повежливее. Людям говорят: пожалуйста». Слыхали – пожалуйста! Еще, может, Христа ради, сделайте милость? Что я, нищенка какая? За свои деньги, чай, мясцо покупаю...
Игнат не знал ни хозяина дома, ни его гостей. Деревенская привычка ходить в гости из дома в дом тут, в городе, ничем не оправдывалась, и тем не менее ее придерживались. Какой-то здоровый детина, сидевший напротив Игната, раскачиваясь то влево, то вправо, расплескивая стакан с самогоном, требовал к себе внимания и пьяно кричал:
– Да, мы беглецы! Я беглец, ты беглец, он беглец. Но кто разгружает вагоны? Мы, беглецы! Кто добывает глину? Опять же мы. А строит дома? А обжигает кирпич? Нет, мы не бой, и нас не спишешь!
– Михайло, ты расскажи, как с учителкой воюешь, – крикнул ему через стол Горбылев.
– И впрямь война, – подтвердил Михайло и перегнулся через стол к Игнату. – Вы, вижу, все здешние, раздольские, а я план получил на пустыре в городе. Как получил? Об этом чего говорить. Но построился быстро. Люди лес возить возчиков нанимают, а я коня купил. Он себя на доме оправдал, и сейчас от него убытку нет. А построился, решил ни в чем себе не отказывать. Есть так есть, веселиться так веселиться. И вместе с сыном купили патефон. Приятно вечерком окно открыть, патефон на подоконник поставить и завести. Пусть на три улицы знают, что есть у Пшитикова музыка. И тут вдруг приходит одна женщина, не то что старая, да и не молодая, и говорит: «Нельзя ли как-нибудь потише?» Я даже не сразу понял – что потише? Оказывается, учительница она, живет напротив моего дома, и ей мой патефон мешает. «Это что же, спрашиваю, рабочему человеку отдохнуть нельзя?» А она мне: «Но вы же мешаете другим отдыхать и заниматься. К тому же ваша музыка такая, что кто понимает в ней, уши вянут». Это от моей-то музыки уши вянут! А музыка у меня первейшая. Сын покупал. Что ни пластинка – бокстрот! Ну я этой учителке и выдал. «Это что ж, по-вашему, наше правительство бракованную музыку выпускает?» Она туда-сюда. «Вы меня не так поняли. Дело не в браке, а что кому нравится. Вот вы курите, а я нет. Так не всюду разрешают курить». А я ей отвечаю: «На улице курить можно? Можно! Ну и музыку запускать тоже. А в дом к вам я со своим патефоном не прихожу. И запретить отдыхать рабочему человеку вы не можете». И запузыриваю! Второе лето идет война. И не скажи, какая паразитка. Мало того, что музыка рабочего человека ей не нравится, так ведь одна живет в комнате, двадцать пять метров, а рядом в квартире брательник мой, жена да двое детей – второй год как приехали из деревни – на восьми метрах. Справедливо это? А при Советской власти живем.
– Так вы бы взяли брата в свой дом, – сказал Одинцов.
– Ну нет, – пьяно погрозил пальцем храбрый патефонный вояка. – Я дом строил для себя. Где же это видано, чтобы свой дом да делать коммунальным!
Неожиданно Тарханов обнаружил, что Чухарев куда-то исчез.
– А где Семен Петрович?
– Да вы не беспокойтесь, угощайтесь, – сказал ему сосед.
Но пировать у незнакомых, да еще рядом с незнакомыми, было не очень весело, и Лизавета с помощью Одинцова вывела Игната на улицу. Она пыталась уговорить его вернуться домой. Но Игнат был упрям. Возвратиться из гостей посреди дня? Что же это за праздник! Есть еще куда ему идти в гости. Слава тебе боже, не первый год в Глинске. И пошел по гостям, иной раз смутно сознавая, у кого он в гостях, с кем в гостях, из каких гостей пожаловал. Но гулять так гулять!
Было уже поздно, когда Игнат зашел к Андрюхе Шихову, своему старому знакомцу по тем временам, когда они оба были землекопами. В доме плясали под гармонь. Игнат тоже пошел по кругу, притопывая, приседая и широко раскинув руки. Плясал он не очень-то умело, но лихо. И так же лихо, задев носком половицу, проехал на животе через всю горницу. Но когда он поднялся и пытался почистить испачканный пиджак, на него налетела Лизавета.
– Я тебе для того новый костюм сшила, чтобы ты чужие полы им подметал? Идем домой!
– Не пойду. А раз тебе костюма жалко, бери его. – И, бросив жене пиджак, крикнул Андрюхе Шихову: – Хочешь, чтобы я у тебя в гостях был, дай свою одежонку.
Вскоре Игнат вручил своей жене дополнительно к пиджаку и брюки, а сам пошел плясать в стареньком шиховском костюме, который был ему одновременно и широк и короток, что делало его похожим на циркового клоуна.
Через час он обеспокоенно спросил Шихова:
– Ты моей Лизаветы не видел?
– Домой ушла.
– Вот как, – неожиданно взъярился Игнат. – Раз ей плевать на меня, то и мне на нее наплевать!
Он еще поплясал и завалился в ботинках на хозяйский диван.
Шихов взглянул на Тарханова и сказал пьяно:
– Вот она что делает, водка. В момент с человека образование смывает.
Светало, когда Игнат проснулся. Где он? Что с ним? И тут он увидел на себе какой-то дрянненький костюмишко. Нет, этот костюм не его. Так, значит, его куда-то заманили, раздели. Ах, грабители! И, вскочив, набросился на какого-то шиховского родственника. Началась драка. Не без труда разъярившегося Игната доставили в милицию. Дежурный выслушал обе стороны и сказал:
– Думаете, вы первые? Ступайте домой и сами разбирайтесь.
Он все отлично понимал. Он сам был из деревни.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Игнат старался не думать о Пухляках. В своем доме он хотел спрятаться от большого окружающего его мира. Но отгородиться от самого себя он не мог. И собственное одиночество все больше и больше обостряло в нем тоску по земле. Земля лежала за Раздольем, она была совсем рядом и в весенней дымке казалась какой-то нереальной, словно привидевшейся во сне. Но она беспокоила его, и теперь он вставал не по комбинатскому гудку, а едва с поля доносился прерывистый гул тракторов. Часто он выходил на край Раздолья, шел проселком до оврага и из зарослей ивняка, стараясь, чтобы никто его не увидел, смотрел, как идет пахота. Машины слегка покачивались на неровных холмистых полях, они оставляли за собой широкие полосы перевернутой свежей земли, и с каждым новым заездом эти полосы становились все шире и шире. Там Игнат впервые подумал о том, что теперь вот, при тракторах, всем должно быть ясно, что жить можно только колхозом.
Иногда Игнат покидал свое укрытие и, выйдя к бороздке, брал в руки ком земли, проверял, хороша ли тракторная пахота. А однажды, когда на повороте остался неперевернутый затравенелый пласт, он остановил тракториста: «Ты, дурья твоя голова, понимаешь, что землю портишь?»
Но эту свою тоску по земле он скрывал. И не то что стыдился ее, а не хотел, чтобы Лизавета или кто-нибудь из знакомых обнаружил его душевный разлад, в котором он сам видел проявление собственной слабости и непоследовательности. И только перед Татьяной он не таился и брал ее с собой в поле, когда в воскресенье можно было уйти за город на целый день и бродить там краем колосящейся пшеницы или по дурманящим лугам, на которых лежало распушенное, еще не застогованное сено.
Игнат раскрывал перед Татьяной всю свою тоску по земле и всю свою любовь к земле.
– Вот ты думаешь, земля – она одна? Нет, земля разная. Одна – черная, другая – глина, а третья – песок. А то бывает, как здесь, у дороги, краем канавы земля черная, а шагни чуть-чуть дальше – глина. А сверху как будто трава и трава.
– Как же ты видишь? – спросила Татьяна.
– Своя земля была... Не чета нашему огороду...
– А где она?
– В колхоз отдал...
Татьяна недоверчиво взглянула на Игната.
– Землю нельзя отдать... Как же ты ее перенес? Вырыл, да?
Игнат рассмеялся.
– Как ее выроешь? А выроешь – куда перенесешь... Просто пришел в колхоз и сказал: будете пахать свою землю, пашите и мою. Кряду, так сказать... А земли у нас в Пухляках – ох, и хороши. Все, что хочешь, растет на них. И хлеб, и лен, а картошка – во, с кулак, и такая рассыпчатая. Это на песках. А травы, боже ты мой, сколько у нас! Трава по пояс... Выше! В иных местах человека не видать... – Игнат явно преувеличивал. Да такая ли она, пухляковская земля? Без поту ничего не родила. Но ее любил он, питал к ней самые нежные чувства, особенно сейчас, когда она была так далека от него и так недоступна ему. Даже самые лучшие слова не могли выразить все, что было у него на сердце. И выходило – нигде нет такого солнца, и такой реки, и такого леса, как в Пухляках... Если бы Татьяна имела хотя бы малейшее представление о рае, если бы она хоть знала, что значит слово «рай», то Пухляки представились бы ей настоящим раем... Во всяком случае, для нее Пухляки стали какой-то далекой сказочной страной, страной, откуда пришел ее отец и где осталась в колхозе его полная чудес земля.
Лизавета первая подала Игнату мысль, что надо жить только своим домом. Но она не ожидала, что Игнат, который до поездки в Пухляки не очень-то интересовался огородом, вдруг будет отдавать ему все свободное от работы время. Теперь он копался в грядах, пожалуй, больше, чем она, и обнаружил такое уменье выращивать овощи, которого, пожалуй, даже не было у нее. Лизавета была очень довольна, тем более что вместе с Игнатом на грядках копалась и Танюшка. Девчонка, конечно, пользы приносила немного, но Лизавета думала о будущем и видела, что из Танюшки через год-другой вырастет настоящая помощница. Одно только было ей невдомек: любовь Игната к огороду была совсем другой.
Огород начинали поливать, когда солнце пряталось за крышу и тень трубы ложилась на стену соседнего дома. Татьяна поливала гряды из своей маленькой лейки, и делала она это с не меньшей серьезностью, чем Игнат или Лизавета. Она шла не спеша к бочке, погружала в воду свою лейку и возвращалась, слегка покачиваясь из стороны в сторону, как Лизавета. Неожиданно Татьяна присела у борозды и спросила громко и с тем удивлением, когда человеку кажется, что он столкнулся с чем-то совершенно необъяснимым:
– А почему на одном хвостике вырастает свекла, а на другом хвостике морковь?..
Игнат сначала не понял, о чем спрашивает Татьяна, потом подхватил ее на руки и, высоко подняв, крикнул жене:
– Слышишь, мать, чего девчонка знать хочет, сразу видно, тархановская порода! Земляная порода...
– Я и то смотрю.
– Так хочешь знать, что, отчего и почему, – спросил Игнат, опуская Татьяну на землю, – хвостики-то разные? Один лист поднимает, а другой в землю растет. Вот в Пухляках...
В представлении Татьяны земля и деревня были неотделимы друг от друга. Не будет деревни – умрет земля, без земли не может жить деревня. И как земля каждый год рождала все новые и новые вилки капусты, клубни картофеля и сочную землянику, так и деревня была тем таинственным, неведомым царством, откуда, как в сказке, появлялись в Глинске все новые и новые люди.
– А я тоже раньше была в Пухляках? – спросила Татьяна.
– Ты здешняя...
– Этого быть не может. Все из деревни, а я ниоткуда? – И тут же назидательно произнесла: – Ну, зачем ты уехал из Пухляков?
– Не моя воля, так вышло...
– А почему так вышло?
– Долго рассказывать, – отмахнулся Игнат. Выходит, и перед Танюшкой надо держать ответ. Да, надо!.. Как от жизни ни отмахивайся, отвечать всегда придется...
Жизнь проникала в дом Игната Тарханова, не останавливаясь перед стенами, сокрушая броню безразличия, в которую он хотел заковать свою душу, думая, что это спасет его от тревог и тягостных раздумий.
Трудно сказать, как пришли на Раздолье в дом Тарханова эти полные испытаний дни. Все началось с того, что однажды в местной газете было напечатано, что в Глинске свили себе гнездо бывшие кулаки. Вслед за этим прошел слух, что всех их забрали и выслали в далекие края. Кого именно, Игнат не знал. Но одни говорили, что выслали десять человек, другие считали, что не меньше сотни, а главное, поговаривали, что вообще скоро из Глинска начнут выселять всех, кто самовольно покинул деревню. Игнат не очень-то верил всем этим слухам, он старался не поддаваться тревоге, но вскоре она охватила и его. Это произошло после встречи с Еремеем Ефремовым. Ефремов сказал ему:
– Вот работал кладовщиком – уволили… Не подхожу... Из раскулаченных, в ссылке был.
– Так тебя же вернули... Как же так?
– Узнаешь, когда и тебя выгонят. Не посмотрят, кто прав, кто виноват.
Однажды среди ночи раздался стук в дверь. Лизавета заметалась по дому. Не иначе как за Игнатом приехали. Игнат вышел в сени, открыл дверь. Ждал, увидит военных, а перед ним стоял Афонька Князев. Афонька осенью сдал внаем Лизаветину хату, купил в Раздолье бесхозный домишко и работал тут же от коммунального хозяйства, но на содержании владельцев домов, чем-то вроде санитарного уполномоченного, представителя пожарной охраны и ночного сторожа по главной улице Раздолья.
Улыбаясь, как бы преисполненный желания услужить Игнату, он протянул ему черную с белыми подпалинками кошку.
– Не твоя?
Игнат бессильно опустился на крыльцо. От пережитого страха он не мог говорить. А Князев, как ни в чем не бывало, продолжал:
– Иду это я и вижу – кошечка. Чья, думаю? Не Игната ли Тарханова?
Игнат вскочил с крыльца.
– Ты когда-нибудь о людях думаешь?
– Иль кошечка не твоя?
– Не то дурак ты, Афонька, не то...
– Понимаю, – сочувственно протянул Князев. – Спужался?
– Нет.
– Скажешь! Такое время, а я среди ночи. Оно конечно, мне чего бояться? Из бедняков и сам бедняк. Опять же не на заводе, так что никакого вредительства сделать не могу. Ну и, в общем, не судили меня, не оправдывали, и никто на меня заявлений не писал.
– Зато ты на других писал.
– Что ж с того, – не обиделся Афонька. – И сейчас нет-нет, как ночную охрану, запрос мне делают: кто, как и к кому отношение имеет. Так что могут, к примеру, спросить: какое твое мнение о Тарханове?
– Ты и напиши, что по морде тебе дал и еще посулил.
– Не везет мне с тобой, – откровенно признался Князев. – Когда тебя выслали, житья в Пухляках не стало. А потом, когда я в Глинск переехал и хотел в милицию поступить, Сухоруков такую характеристику дал, что и разговаривать со мной не стали. И опять же из-за кого?
Афонька не договорил и бросился к калитке. Игнат пошел за ним. На улице было тихо, сонно, легкий ночной ветерок не мог поднять придорожную пыль. Князев стоял, весь подавшись вперед и сощурив глаза, что-то высматривал в белесых предрассветных сумерках. Не оборачиваясь к Игнату, он поднял руку и шепотом проговорил:
– Тише.
– А что тише? – нарочито громко спросил Игнат. – Иль ты по твоей должности обязан мышей ловить?
– Гляди-ка. С ног валится!
Игнат пригляделся. Вдоль улицы, то прижимаясь к стенам домов, то валясь на изгороди палисадников, шел пьяный. Игнат ничего не понимал. Пьяный как пьяный, чего особенного узрел в нем Афонька? А ночной страж раздольевской улицы даже присел на корточки, чтобы лучше наблюдать за пьяным, и, предвкушая какое-то удовольствие, потирал руки.
– Вот его сейчас как шарахнет. Ах, сукин сын, устоял. Ну ничего, у хлебной лавки его обязательно качнет, там ямка! И врежется он головой в стекло.
– Тебе-то что, от этого легче будет?
– Тяжельше! Зато власть свою покажу. – И, предвкушая наслаждение от сознания присвоенной ему ночной власти, продолжал: – Уж я его застукаю. За шиворот – раз коленкой под зад, два, и свисток! Пожалуйте, доставил за нарушение общественного порядка и разбитие стекла в хлебной лавке. Что делает, сукин сын, прошел дальше, не споткнулся. Известно, пьяный, он себе на уме. На ровном месте посреди дороги в лежку, а у стекла или когда его сграбастать можно, как струна. Эх, Игнат, не понимаешь ты меня.
– А ну тебя к черту, – сплюнул Игнат и, захлопнув калитку, ушел домой.
Но заснуть не удалось. Игнат снова вышел на крыльцо и молча, неподвижно просидел там, пока не взошло солнце. Мысли толпились в голове, обрывистые, неясные. Его дело давно пересмотрено, ему вернули все права, чего ему бояться? Но на душе было тревожно. Как обрести прежний покой и не думать о каких-то там кулаках? Пусть будет, что будет, но он правильно делает, что никуда не суется, ни в какие там общественные дела не вмешивается. Побыл годик-другой в ударниках, и хватит. Только бы ушла тревога, исчезли тяжелые раздумья. Лизавета, вот она знает, чего хочет. Не велико ее счастье, огорожено дворовым забором, а все же счастье!
В тот день на работе к Игнату подошел Одинцов.
– После гудка домой не уходи. Собрание будет.
– Без меня обойдется.
– На электростанции собрание.
– Там и подавно мне делать нечего.
– А вот придешь – увидишь. Да и тебя специально звал один твой знакомый. Секретарь окружкома по промышленности – Сухоруков.
После такого приглашения Игнат не мог не прийти на собрание и после гудка не спеша направился в Красный уголок электростанции.
Во дворе он увидел Сухорукова. Они поздоровались как старые знакомые.
– В Пухляках был, Игнат Федорович?
– Денек погостил и вернулся.
– Не понравилось?
– Понравилось, да поздно мне себя опять перекраивать.
Они вошли в цех. Все свободные от смены рабочие станции и механического цеха уже собрались. Вскоре пришел и начальник электростанции, грузный, с одышкой человек. И сразу же, не открывая собрания, Сухоруков сказал:
– Товарищи, вас собрал окружком партии, чтобы посоветоваться по одному очень важному делу. А дело такое. Вы знаете, что в августе должна стать на ремонт паровая турбина комбината. Предполагалось, что в течение недели нам отремонтируют ее на ленинградском турбозаводе и за это время мы успеем сделать профилактический ремонт по цехам. Но сейчас выяснилось, что турбозаводу значительно увеличили план, и он наш заказ может выполнить лишь через месяц, и то в лучшем случае. Нам угрожает месячный простой. Вы себе представляете, сколько огнеупора не хватит стройкам? Сколько тысяч тонн металла не выдадут недостроенные домны и мартены? Мы этого допустить не можем. А между тем руководство электростанции считает, что мы бессильны что-либо сделать. Впрочем, скажите сами, Евгений Иванович.
Начальник электростанции, не глядя на Сухорукова, ответил:
– Вы предлагаете мне отремонтировать турбину на месте?
– Это единственный выход.
– Но кто ответит в случае неудачи?
– Прежде всего окружком! – сказал Сухоруков.
– Я не из тех, кто считает, что на миру и смерть красна. От того, что окружком ответит первый, мне будет не легче. Да и время сами знаете какое.
– Вы боитесь пострадать сами, но не боитесь отдать в жертву комбинат.
– По техническим условиям...
– А по коммунистической совести? – перебил Сухоруков. – Вы думаете, Евгений Иванович, я не сознаю ответственности? Сознаю! И потому окружком обращается к рабочим электростанции и механического цеха: возьметесь вы, товарищи, отремонтировать турбину?
Хотя эти слова были обращены и к Тарханову, он понимал, что в первую очередь Сухоруков ждет ответа от турбинщиков электростанции, от Одинцова как от парторга слесарей-механиков. И он был счастлив сейчас, что имеет только четвертый разряд, что не ему, а другим надо сказать такое опасное «да» или «нет». Он чувствовал себя как бы стоящим над другими, потому что его судьба ни от кого не зависела, над ней не было власти обстоятельств. Но так было до той поры, пока никто еще не сказал своего слова. И вот первым поднимается один из турбинщиков. Игнат его не знает. Одинцов назвал его Григорием Андреевичем. Он лишь спросил: неужели механики станции хуже сборщиков турбин на заводе? Тогда почему заводской шеф-механик пригласил его на завод своим первым помощником? Спросил и сел. А за ним поднялся Одинцов. И он тоже спросил: если наши механики не хуже заводских, тогда за чем дело стало?
Сухоруков сказал в том же тоне:
– Что же о нас будут говорить, если из боязни, как бы нас в чем не обвинили, мы обречем комбинат на месячный простой? Самое простое – ничем не рисковать, спрятаться за обстоятельства: нас подвел турбозавод, – но от совести не спрячешься. Да и не дана нам в жизни такая привилегия – стоять в сторонке да поглядывать, когда за нас трудное дело другие сделают. Есть такие люди! Подай им удобненькое, спокойненькое. Ну и черт с ними!
Сухоруков говорил о начальнике электростанции, но сам, того не подозревая, бил в самое сердце Игната. Начальник электростанции хоть сказал «нет». А вот он, Игнат Тарханов, действительно стоит в сторонке да поглядывает. Ему уж такая привилегия. Живи удобно и спокойно! Игнату хочется подняться и тоже сказать свое слово: раз можно на месте отремонтировать турбину, так чего там разговаривать? Но нет, этого он как раз не может сказать. Не хватает решимости. Кто-то в нем шепчет: «Будь осторожен, Игнат. Не лезь наперед». «А отставать от других как можно?» – спрашивает он это неведомое существо. И слышит после некоторого молчания: «Отставать тоже не надо. Бригада пойдет ремонтировать турбину, иди и ты. Не все ли равно тебе, прессовочный станок или турбина? Все делай на совесть. Но без слов».








