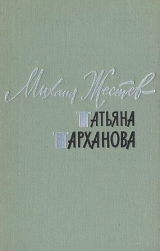
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Игнат хорошо понимал горе Татьяны. И дело было не только в том, что она не поехала учиться. С этим она бы еще смирилась. Но жить лишь своим домом, нигде не работать было для нее несчастьем. Она чувствовала себя ненужной, и хоть так уставала, что к ночи валилась с ног, ее не покидало ощущение, что она живет как человек, всеми давно забытый и бесполезный. Раньше, в прошлом, все было обычно и естественно, как переход из класса в класс. Пионерский отряд, комсомольская организация. Школа в школе. Они едины и неразделимы. Быть хорошей пионеркой и комсомолкой означало для Татьяны прежде всего быть хорошей ученицей. Отметками она измеряла свою комсомольскую полноценность. Общественная жизнь была для нее лишь шестым уроком, продолжением школьных занятий, когда голова от усталости плохо соображает и хочется скорее домой, на улицу, к ребятам или в кино. Школа давала Татьяне знания, но не формировала ее характер. А характер ее создавался преимущественно за пределами школы – дома, во дворе, на улице. Как раз там, где не было ни пионерского отряда, ни комсомольской организации. В мальчишеских драках она приобрела решительность и неустрашимость, беседы с дедом создали ее представления о добре и зле, а война воспитала в ней патриотизм. Правда, ни улица, ни семья не могли дать ей идейную устойчивость. Встреться на ее пути какой-нибудь скептик – она могла бы увлечься его философией и позу всеотрицания принять за жизненную мудрость. Но школа и улица, семья и люди, с которыми все время сталкивалась Татьяна, воспитали в ней одно чувство, без которого она не мыслила свое существование и без которого самые большие жизненные блага не могли бы сделать ее счастливой. Чувство своей общественной полезности! Оно стало неотъемлемой частью ее существования, без него она не могла считать себя человеком. Игнат знал, что горю Татьяны может помочь только выздоровление Лизаветы. И все же он решил поговорить о внучке с Улей Ефремовой. Кто знает, может Танюшкина подруга что-нибудь придумает. Он не любил ее отца, но к ней самой относился с уважением. И даже удивлялся: и как у Еремея такая девка выросла? А может быть, потому и выросла такая, что ее отцом оказался Еремей? Ведь одних настоящими людьми воспитывают родители, а другие сами становятся ими потому, что не хотят быть похожими на своих родителей. Что могло в отце прельщать Улю? То, что он был арендатором мельницы? Его отчуждение от всего окружающего? Или отцовская манера вызывать в людях жалость и тем самым защищать себя от опасности?.. И, может быть, самым неприятным для нее было нежелание отца работать на одном месте и какое-то навязчивое стремление набрать каких-то бумажек, чтобы скорее получить пенсию.
Игнат встретил Улю у формовочной после гудка. Вместе они вышли за ворота комбината.
– Мне с тобой, Ульяна, поговорить надо.
– Что с Таней? Я ее, наверное, уже недели три не видела.
– Хороша подружка.
– Игнат Федорович, ну а что я могу поделать? На курсы надо ходить, а теперь еще стала секретарем комсомола в цехе.
– А я ума не приложу – как быть с Танюшкой?
– Ей на работу надо.
– Работу найти нетрудно.
– Вечернюю, хотя бы часа на три,
– А где ее взять такую?
– Я уже думала, искала.
– И нашла?
– Нет...
– Может, ты поживешь немного у нас? Все Танюшке будет с кем вечером поболтать. Ну, и погулять вместе сходить.
– А кто за меня дома все сделает? Отец? Федор? Хоть в цехе я секретарем комсомола, а дома та же домашняя хозяйка. Надо что-то другое для Таньки придумать... А что, сама не знаю. Ведь мало ей работу найти, надо, чтобы на этой работе она отдохнула. На формовку не поставишь, в канцелярию не посадишь. – И, словно только сейчас вспомнив, спросила: – А не приходил к ней Сергей Хапров? Высокий такой!
– Танюшка не говорила.
– Это наш знакомый. Я его как-то встретила, он стал меня расспрашивать, почему Таня не поехала учиться, я ему все и рассказала.
– И он обещал помочь?
– Нет.
– Так что же ты о нем рассказываешь? Мало ли у вас с ней было знакомых мальчишек!
– Он взял адрес.
Она хотела сказать еще, что, как ей показалось, Хапров очень интересовался Танькой и вообще, судя по всему, он парень неплохой, но, спохватившись, смущенно умолкла. Напрасно вообще она затеяла разговор о Хапрове. Может, ей только показалось, что ему очень нравится Танька. А если так оно и есть, то тем более нечего болтать.
В тот день, вернувшись с работы, Игнат сказал Татьяне:
– К тебе собирался зайти какой-то твой знакомый, Сергей Хапров... Не приходил?
Зачем сказал, объяснить не мог. Так, на всякий случай сказал. Кто знает, может это обрадует ее. И даже не поинтересовался узнать, кто такой Сергей Хапров. Он видел, что Танюшка не обрадовалась, не оживилась, даже не удивилась. Ответила просто и равнодушно:
– Нет, не приходил.
Сергей пришел, когда Татьяна совсем его не ожидала. Пришел вместе с Матвеем и Улькой. Стоял тот вечерний час, когда все Раздолье занято поливкой огородов. Увидев гостей, Татьяна, босая, в широкой домотканой юбке, без блузки, побежала домой. Уля лишь успела крикнуть ей вслед:
– Собирайся, пойдем в городской сад!
Игнат поздоровался с гостями. Мельком взглянув на Хапрова, спросил Матвея:
– Верно говорят, тебя из управления комбината в цех переводят?
– Буду плановиком.
– Это с начальника по труду да в цеховые плановики? За что же такая немилость?
– Сам попросился. Иначе мне не справиться с работой по истории комбината. Скоро сто лет.
– Вон оно что, – понимающе кивнул Игнат. – Значит, на двух должностях?
– Вторая – не должность, а общественная работа: надо материалы собирать, с людьми беседовать, их рассказы записывать.
– Постой, Матвей, постой. А зарплата как?
– Все норовим мерить на чин да зарплату, – отмахнулся Матвей. – Или вот на ученую степень, как товарищ Хапров.
– Да разве это плохо – мечтать быть ученым? – спросил Сергей.
– Не плохо, конечно. Но не слишком ли у нас много таких, что стараются быть подальше от простой работы, не уважают ее? И странно, часто этого уважения нет у тех, кто сам вышел из крестьянской или рабочей среды. Если бы я был педагогом, то прежде всего воспитывал бы у своих учеников чувство уважения к человеку самой простой, черной работы. Скажите, Хапров: вот вы агрохимик, но поехали бы вы агрохимиком в колхоз?
– Честно говоря – вряд ли.
– Вот видите.
– Но не потому, что я боюсь черной работы. Это ни к чему. Стоило ли кончать институт? Стоило ли разрабатывать научные темы, готовиться к экзаменам в аспирантуру?
– Сколько доказательств! – рассмеялся Матвей. – И ни одного за то, чтобы поехать агрохимиком в деревню. А почему так? Легко мы живем.
– Да так ли легко? – спросила стоявшая у изгороди Ульяна. – Вот, например, Таня. Разве может быть жизнь тяжелее?
– Я преклоняюсь перед ее самопожертвованием, перед ее пониманием своего долга. Но я говорю о другом. Когда я возвращался в Глинск, то в купе со мной ехала одна ленинградская писательница, которая всю блокаду провела в Ленинграде. И вот она мне сказала: «Людям, погибшим на защите Ленинграда, поставят памятник, и я бы хотела, чтобы на нем написали: „Ничто не забыто, и никто не забыт”». Мы, к сожалению, преимущественно мечтаем о будущем, иной раз пренебрегаем отдать свои силы тому, чего требует от нас настоящее, и легко забываем прошлое.
– С этим, пожалуй, я согласна, – ответила Ульяна и, оставив Хапрова и Матвея, направилась в дом.
В сенях ее ждала Татьяна.
– Зачем притащила Хапрова? Кто тебя просил?
– Я же тебе сказала – собирайся, пойдем в сад.
– Я огород поливаю.
– Польют и без тебя.
И, словно не желая больше слушать ее возражения, Уля прошла в горницу, а оттуда в комнатку Лизаветы. Лизавета лежала у раскрытого окна и меньше всего была похожа на больную. Лицо пополнело, даже было румяно, и только глаза выражали какое-то напряжение и скорбную муку. Она все понимала, только сказать не могла.
– Добрый вечер, баба Лиза!
Лизавета ответила одними глазами.
В комнату вошла Татьяна. Открыла шкаф, взяла платье и начала переодеваться. Лизавета следила за ней, и, как всегда, в глазах ее была боязнь остаться одной.
Татьяна застегнула платье и наклонилась к изголовью больной.
– Бабушка, я пойду с Улей погулять, хорошо? Ну, скажи да. Мигни мне!
Лизавета слегка опустила веки, но тут же подняла их и неожиданно, немного растягивая звук, впервые произнесла внятно и четко:
– Да-а-а...
Татьяна даже отпрянула. Неужели ей послышалось? Она снова припала к изголовью и крикнула:
– Да, бабушка? Скажи, да?
– Да...
– И ты не боишься остаться одна? Не боишься?..
– Нет.
Татьяна бросилась из дома и закричала на весь двор:
– Бабушка говорит, бабушка хорошо говорит!
Она прибежала обратно в комнату, стала расстегивать платье.
– Танька, ты с ума сошла. Мы же идем гулять.
– Никуда я не пойду! Да, бабушка?
– Нет! – совсем уже четко и не нараспев ответила Лизавета, и в правом уголке рта впервые появилось что-то похожее на улыбку.
– Правильно, баба Лиза, гони ее отсюда!
Уля вытолкнула Татьяну из комнаты.
– Подумаешь, больно нужна ты ей сейчас. Вон Игнат Федорович идет. Они и поговорят... Шутишь, что значит сказать: да – нет. Да с этими двумя словами можно объясняться весь вечер и еще не наговориться...
То ли так само собой произошло, а может быть, Уля сговорилась с Матвеем, но они ушли далеко вперед, оставив позади себя Татьяну и Хапрова. Татьяна плохо слушала, о чем ей говорит Хапров.
– Вы не обижаетесь, что я пришел без приглашения? Вы понимаете, я еще тогда понял, что у вас что-то неладное... Но сначала не знал, где вы живете, потом, после того как Уля все рассказала мне и дала ваш адрес, долго не решался зайти, а весной пришлось ехать в Мстинский район провести обследование полей.
Он что-то еще говорил ей о том, что Иннокентий Константинович Дроботов просил передать привет, что театр был на весенних гастролях и скоро уезжает на летние гастроли, но все это дошло до нее с большим опозданием, когда они уже вошли в центр города. На душе у нее стало светло и радостно, она решила, что это произошло оттого, что рядом идет и участливо с ней говорит Хапров, и, взяв его под руку, сказала, словно он был ее давнишний друг:
– Вы хороший.
– А еще?
– Славный.
– И все?
– Смешной.
– Характеристика абсолютно исчерпывающая, – улыбнулся Хапров. – Все люди, которые мечтают стать учеными, должны быть чуть-чуть смешными. Скажите, в какой пьесе ученый абсолютно серьезен? Нет таких пьес... Давайте догоним Улю, может быть это нам удастся.
Они вошли в глинский летний сад, обычный сад провинциального города. Под огромными кленами, в глубине раковины, играл духовой оркестр. Невдалеке громоздилось сооружение из досок, напоминающее нечто среднее между крытым током и огромным сенным сараем. Это был летний театр. Здесь показывали кинокартины и играли именитые заезжие музыканты, давались опереточные представления, но особенно там много было народу, когда выступали чтецы мыслей на расстоянии, маги, фокусники, а также лекторы, объясняющие, в какой руке надо держать нож, в какой вилку во время еды, как идти с дамой, поднимаясь по лестнице, и прочие правила хорошего тона. Сам по себе сад был невелик, но он изобиловал темными аллеями, и самая темная, по старой провинциальной традиции, носила лирически-ироническое название «аллея вздохов». Это была та самая аллея, на благоустройство которой администрация никогда не тратила ни одной копейки, ее даже не посыпали песком. Но в глазах влюбленных не было лучшего места в саду. Как взволнованно звучала здесь доносящаяся с эстрады и танцплощадки музыка, как многозначительны были самые простые слова и как прекрасны казались девушки, чьи лица были невидимы в сумраке этой аллеи.
– Давайте искать Улю и Матвея, – сказала Татьяна, оглядываясь по сторонам. – Может быть, они у фонтана?
– Возможно... Но сначала заглянем в ресторан.
– Вы думаете, они там? Сомневаюсь.
– Но там Дроботов, и он просил обязательно привести вас.
Дроботов сидел за столиком. Увидев Татьяну и Сергея, он поднялся им навстречу.
– Где будем разговаривать?
– Только не здесь. Мы еще должны разыскать друзей, – сказал Хапров.
– Я вижу, Таня благотворно влияет на тебя, – рассмеялся Дроботов. – Обычно ты не отказываешься со мной поужинать.
– В следующий раз не откажусь.
Они прошли до середины сада и свернули в боковую аллею. Дроботов уселся на скамью, показал место рядом.
– Так вот, Таня, разрешите быть откровенным. Мне Сергей все рассказал. Если я правильно его понял, вам нужна работа.
– Работу мне найти нелегко.
– Я говорю о работе, которая потребовала бы от вас нескольких вечерних часов.
– Но где же такая работа?
– В театре.
– Что же я там буду делать? – спросила Татьяна.
– Сейчас я об этом вам ничего сказать не могу. Мне надо с вами поговорить. Если вы согласны, то завтра в двенадцать приходите в театр. А теперь разрешите откланяться. У меня еще одно свидание: отправляем в Мурманск декорации.
Татьяна вернулась домой поздно ночью. Ее провожали Хапров, Уля и Матвей. Чтобы не разбудить деда, Татьяна на цыпочках прошла через горницу к Лизавете. В комнате горел ночник, Лизавета не спала. Таня опустилась на колени перед кроватью и тихо сказала:
– Бабушка, ты ждала меня? Скажи – да!
– Да...
– И теперь тебе легче, бабушка?
– Да...
– Если бы ты знала, как я счастлива сегодня. Ты выздоравливаешь. Мне обещали вечернюю работу. Бабушка, ну скажи, как меня зовут? Помнишь, не забыла?
– Нет...
– Ну скажи тогда. Ну скажи – Таня!
И в ночной тишине слабый голос повторил:
– Таня! Танюшка...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глинский театр расположен в центре города. Это огромное здание с колоннами, куполом и широкой лестницей, удивительно похожей на паперть и этим выдающей его давнее прошлое. Действительно, то, что сейчас называется глинским театром, некогда было собором. Превращение собора в театр произошло в двадцатых годах, когда председателем местного горсовета был избран механик керамического завода Одинцов.
Однажды во время богослужения он вошел в собор, выстоял всю обедню, а после, когда прихожане разошлись, сказал ничего не понимающему попу:
– Велик храм господень.
– Не измерить его даже мысленно, потому как есть он земля и небо со всеми звездами.
– А сколько на сколько в храме господнем, препоручено вам, батюшка?
– Шестьдесят на сорок.
– Прекрасная пропорция.
– Не считая алтаря, коему еще десять аршин. А почему вас так интересуют размеры храма господня?
– Как ни велик он, а в черте города.
Появление в соборе председателя горсовета, конечно, взволновало глинское духовенство, но скоро оно успокоилось, прочитав в местной газете, что на заседании горсовета совместно с культурным активом города постановлено ходатайствовать об отпуске денег на строительство театра. Это решение было обсуждено также на общих собраниях рабочих керамических заводов и одобрено всеми трудящимися города. Одинцов был в восторге.
– Прекрасно, – говорил он, – все идет как надо, и скоро мы будем иметь шестьдесят на сорок, не считая сцены.
– При чем тут шестьдесят на сорок? – удивленно спрашивали его. – И при чем тут театр?
– А вот пройдет месяц-другой, увидите.
Действительно, через какой-нибудь месяц пришло решение: отказать Глинску в средствах на строительство театра. Вот тебе и шестьдесят на сорок! Даже в поговорку вошло: шестьдесят на сорок! Это означало – отказ, неудача. Только председатель горсовета был весел. На первом же собрании керамиков Одинцов сказал:
– В деньгах нам отказали, но должны ли мы отказаться от театра?
– Нет, – неслось ему в ответ.
– Значит, будем бороться?
– Обязательно, – снова дружно слышалось в ответ.
– Тогда, товарищи, предлагаю такой выход: сделать театр из собора. Для этого нам денег своих хватит.
Решили: закрыть собор и открыть театр. Причем особенно заманчиво звучало обещание Одинцова, что глинский театр будет вроде Александринки. Когда работы были закончены, все убедились, что Одинцов слов на ветер не бросает. Золоченые украшения иконостасов перекочевали на стены зала, ложи, рампу и потолок. В огромной люстре, сделанной из лампадок, зажглись яркие электрические лампочки. Сверкавший золотом глинский театр действительно напоминал столичный. С той поры жители Глинска стали звать его «наша Александринка» и в канун войны пригласили руководить театром заслуженного артиста Дроботова.
Вот в этот театр и шла Татьяна. Какую работу предложит ей Дроботов? Она терялась в догадках. Кем она может быть в театре? Биллетершей, кассиром, продавщицей в книжном киоске? Отгонять от входных дверей безбилетных мальчишек она не будет. И нет смысла к ее домашнему заточению прибавлять одиночную камеру кассира. А что касается киоска, то с детства она недолюбливает всякую торговлю. Нет, Дроботов предложит ей что-нибудь другое. Но что? Стать актрисой? Смешно! Портнихой в костюмерной? Невозможно. Она не умеет ни кроить, ни шить. А что, если суфлером? И вспомнила: да теперь суфлеров нет! Остается дежурный пожарный... Татьяна Тарханова – дежурный пожарный, да еще в медной каске!
Дроботов встретил ее в фойе и провел в свой кабинет. В кабинете у окна стояла девушка с высокой прической и бархатной наколкой, похожей на маленькую шляпку.
– Может быть, я не вовремя пришла?
– Наоборот. Присаживайтесь и внимайте. – Дроботов усадил Татьяну на диван и, повернувшись к стоящей у окна девушке, спросил: – Так вы хотите поступить в театр? Простите, сколько лет вы были в самодеятельности?
– Три года...
– Это очень мало и очень много. Мало, чтобы стать актрисой, и предостаточно, чтобы какой-нибудь невежественный руководитель испортил ваш вкус. Ну что же, посмотрим. Что вы приготовили?
– Поэму Маяковского «Ленин».
– Может быть, вы знаете басню Крылова «Стрекоза и Муравей»?
– Знаю.
– Ну вот, будем читать «Стрекозу». А поэму Маяковского не надо. Тем более о Ленине. Я знаю только двух актеров, которые могут прочесть ее. Так что начнем со «Стрекозы».
Дроботов слушал ее, опустив глаза. Его немолодое лицо было спокойно, казалось даже безразличным, словно хотело сказать: сколько раз мне приходилось выслушивать вот эту басню, и она надоела мне, как те, кто читает ее, мечтая о великой артистической будущности. Короткая крыловская басня казалась ему длинной, и когда наконец прозвучала последняя фраза: «Так поди же, попляши», он вздохнул, потом посмотрел на потолок и сказал, по-прежнему не глядя на экзаменующуюся актрису:
– А теперь давайте сыграем что-нибудь.
– Я подготовила Катерину.
– А зачем же Катерину? – Дроботов поморщился. – Оставьте Островского в покое. Вот ступайте к дверям и без слов сыграйте такую сцену: вы возвращаетесь в родной город, идете по улице и вдруг видите своего любимого с другой девушкой. Прошу. Только подумайте сначала. И главное, отрешитесь: вы – это не вы.
– Я не сыграю, – смутилась девушка.
– А хотели Катерину, – усмехнулся Дроботов. – И Катерину не сыграли бы. Но там есть слова, вы бы их произносили, и вам казалось бы, что вы играете. Ну хорошо. Если этот этюд вам не под силу, предложите сами. Можете?
– Да! – неожиданно уверенно и смело ответила она.
– Тема?
– Девушка приходит к известному артисту и держит экзамен в театр.
Дроботов громко рассмеялся.
– Недурно придумано. Да вы, я смотрю, молодец.
– Можно начать?
– Позвольте, а кого вы будете играть? Конечно, девушку?
– Нет, артиста.
– Меня? – Дроботов уже не смеялся, а хохотал. – А ну, посмотрим!
Девушка села за стол в дроботовское кресло и, широко улыбнувшись кому-то невидимому, входящему в комнату, начала сцену.
Ее лицо то улыбалось, то становилось подчеркнуто серьезным. Ее глаза то снисходительно кого-то оглядывали, то прятались под тяжелыми веками. Ослабив все свои мышцы, она стала вся грузноватой, ну точь-в-точь артист Дроботов в расцвете своих сил и славы. Она повторила все, что наблюдала сама. И Дроботов видел самого себя таким, каким его воспринимали другие: барственно снисходительным, но не замечающим, что каменная неподвижность его лица способна убить и чувство и надежду. А девушка с каким-то внутренним озорством продолжала вести сцену: «Представить Катерину?» Она поморщилась: «Нет! Пройдите к двери и изобразите девушку, неожиданно встретившую своего любимого с другой. Нет? Тогда играйте сами по выбору. Хотите изобразить меня?» И громко рассмеялась. Рассмеялась так, как Дроботов. Басисто, всей грудью, напрягая диафрагму.
Дроботов тоже смеялся. Но тут же испуганно бросился к графину с водой, налил стакан и подал его дрожащей рукой молоденькой актрисе: та коротко всхлипывала.
– Ну, успокойтесь, будьте умницей. Вот так! Нет, нет, выпейте еще глоток. И возьмите платочек, носик утрите. Не думал, что вы такая нервная.
– Простите меня.
– Нет, это я виноват перед вами.
– Только вы мне скажите всю правду.
– Скажу, когда успокоитесь.
Девушка вытерла слезы, шмыгнула носом и сказала:
– Я совсем спокойна. Но только правду. Если сейчас не хотите сказать – я потом приду.
– Хорошо. Слушайте. В искусстве сказать человеку ложь – значит совершить над ним самую страшную казнь. Это значит – всю жизнь, день за днем отравлять его кровь и даже смерть его сделать ужасной, потому что в последний день он поймет, что его обманули. Вы понимаете меня?
– Да...
– Ну так вот, я слушал вас и думал, как бы хорошо было, если бы у каждой актрисы была такая же светлая голова и наблюдательный глаз. Но я вам прямо скажу: если бы вы сегодня подали заявление в театральный институт, вы бы по конкурсу не прошли. Вы умница, чувствуется в вас душа... Но как музыканту мало знать ноты, мало даже иметь музыкальную душу – надо иметь чувствующие, думающие руки, так артисту надо владеть своим лицом, движениями, каждым мускулом, чтобы гармонично выразить своего героя. И вот этой способности к органическому слиянию я у вас не заметил. Душа у вас говорит одно, голос другое, а лицо однообразно. Может быть, все это потом придет. Все может быть. Кто знает. Все же я хочу вас предупредить. На многое не рассчитывайте. Даже в нашем глинском театре. Сможете вы удовольствоваться маленьким?
Девушка не ответила. Он повторил:
– Маленьким?
– Примите меня к себе, – проговорила она. – Я никогда, ни в чем не буду вас винить.
Дроботов поднялся с кресла и протянул ей напечатанную на машинке пьесу.
– В этой комедии есть роль горничной. Внимательно прочитайте и приходите завтра утром на репетицию. – И строго, почти официально, добавил: – Я вас не задерживаю. Не забудьте, завтра с утра. И никаких опозданий.
Когда за девушкой закрылась дверь, Татьяна с ужасом подумала: «Неужели Дроботов хочет, чтобы я играла на сцене? Значит, сейчас он начнет меня экзаменовать? Ведь я не смогу сыграть даже так, как эта девушка. Нет, я ничего не буду ни читать, ни представлять. Прямо скажу: „Я не актриса и не буду ею!”»
Дроботов подсел к Татьяне на диван и, словно не молодая актриса, а он только что сдавал экзамен, устало проговорил:
– Я рад, что вы были свидетелем разговора между мной и этой девушкой. Искусство требует многого от человека. И таланта, и трудолюбия, и самопожертвования. Поэтому я думаю, вы не удивитесь, если я предложу вам работу не на сцене, но работу живую, интересную. Скажите, вы любите литературу?
– Да.
– Стихи? Впрочем, что я спрашиваю, вы же читали их со сцены. А много читаете?
– Да, я же все время дома.
– Вот, кстати, хотите посмотреть роль, которую я дал этой девушке? Горничная в богатом доме. Вы, может быть, видели эту пьесу? Посмотрите. – И Дроботов протянул ей тетрадь.
– Ее ставили два года назад.
– Так вот, мы эту пьесу будем ставить заново. Как вы себе представляете роль горничной? Пусть у нее по ходу пьесы всего три выхода, всего несколько фраз, но она человек, у нее своя жизнь, своя душа, и эту душу надо раскрыть. И это тем труднее, что слов мало. Очень мало.
– Я, право, не знаю, что сказать. – Татьяна понимала, что хоть ее и не думают брать на сцену, но все же экзаменуют. Она готова была бежать, и убежала бы, да сил не хватило. Но что-то надо было говорить, и она, волнуясь, произнесла: – Я думаю, что представить себе роль горничной можно, если представить ее жизнь... На сцене горничные похожи друг на друга, а господа разные. Может быть, я ошибаюсь...
– Продолжайте, продолжайте.
– Ведь должна быть у нее цель жизни, – уже увереннее сказала Татьяна. – Она служит у богатых. Как она туда попала? Наверное, очень трудно было в семье, много у матери детей, надо было помочь ей. И где-нибудь кто-нибудь обидел эту девушку. И она поняла – надо себя защитить!
– Ну что ж, – сказал, приподнимаясь, Дроботов. – Вы умеете смотреть пьесу и видите героя изнутри. Теперь идемте, я познакомлю вас с вашей будущей деятельностью.
Дроботов провел ее через кулисы в другой конец театра и открыл дверь в небольшую, заваленную книгами комнату.
– Это то, что должно быть театральной библиотекой. Пока от нее столько же пользы, как от угля, который лежит в недрах земли. Вы должны поднять его на поверхность. До сентября театр будет на гастролях. Приведите за это время библиотеку в порядок. Стеллажи есть, расставьте по разделам, заведите карточки. Я договорюсь с городской библиотекой – как это все сделать, вам покажут. Согласны? Называйте себя как хотите: библиотекарем при театре или заведующей театральной библиотекой. Когда театр вернется, мы договоримся, что вам делать дальше. Здесь много интересных книг. Советую кое-что почитать, перечитать. Кстати, вам придется участвовать в обсуждении пьес, которые будет ставить наша театральная студия.
В сквере, напротив театра, она неожиданно для себя увидела Сергея. Радостная, она протянула ему руку.
– Ну как, Танечка? Договорились?
– Сережа, милый, большое вам спасибо. Как я счастлива... Знаете, кто я теперь? Библиотекарь театра, нет, заведующая театральной библиотекой. Три тысячи томов, обязательное участие в обсуждении пьес, зарплата триста рублей.
– Расщедрился Иннокентий Константинович, ничего не скажешь.
– Не смейте так о нем говорить.
– Хорошо, не буду, но уж если вы считаете свою должность очень ответственной, то, может быть, возьмете себе помощника? Могу вытирать пыль, лазить на стремянку и расставлять книги по полкам.
– Зарплату какую?
– Бесплатно...
– Слишком дорого.
– Право провожать до дому. Ведь возвращаться вам придется поздно.
Они вышли из сквера. Сергей взял Татьяну под руку.
– Танечка, может, мы отметим ваше поступление на работу? Ну хотя бы мороженым! Две порции на персону, не отходя от мороженщика.
– И угощаю, конечно, я?
– Почему?
– Кто на работу поступил, тот и угощает.
– Вы победили. А потом побродим по набережной?
Они спустились по широкой песчаной улице на набережную Мсты, и Сергей сказал с сожалением:
– Как обидно, что я не мог устроить вас в нашей лаборатории. И ведь место есть, и вы с работой справитесь, я бы вас научил, как делать анализы. Но вот беда, с часами неувязка. Вы можете работать три-четыре часа вечером, а у нас требуется иной раз работать все двадцать четыре часа.
– Вы думаете, лаборатория лучше театральной библиотеки?
– Но вы же будущий естественник, а у нас как раз создается группа по изучению деятельности бактерий в разных почвенных условиях.
– А я довольна. И ничего мне больше не надо... Но вы не поймете этого. Вы избалованы, вам подай работу по душе, и чтобы она была творческая, и обязательно с перспективой. А вы знаете, что просто работать, чувствовать себя полезной – не меньшее счастье?
– Узнаю влияние Матвея Осипова. Кто-кто, а он, видно, романтикой не страдает.
– Большего романтика трудно представить.
– Не верю.
– А кто, по-вашему, человек, который, бросив Ленинград, приехал землекопом в Глинск, чтобы строить комбинат? А как вы назовете простого слесаря, который пошел учиться на инженера и стал им? А что вы скажете о человеке, который отказался от большой зарплаты, от высокой должности, чтобы стать историком своего комбината?
– Но он с такой иронией говорил о тех, кто слишком много мечтает о будущем. Какой же он романтик?
– Матвей романтик дела, но не любит романтиков на словах. Он как-то сказал мне и Уле: «Беспочвенная романтика ведет к разочарованию, унынию и тунеядству». И я согласна. Ну что бы было со мной, если бы я захотела стать актрисой? А теперь я библиотекарь. Я на своем месте.
– А как ваша мечта?
– О, пока очень близкая, но зато выполнимая.
– А именно?
– Мне надо перетащить с места на место три тысячи книг. И если вы не против помочь мне, то приходите завтра вечером в библиотеку. Придете?
– Конечно! И с превеликой радостью.
Татьяна рассмеялась.
– Вот видите, что значит реальная романтика. У нас с вами, оказывается, одно желание: привести в порядок библиотеку.








