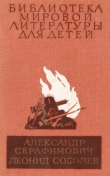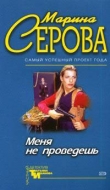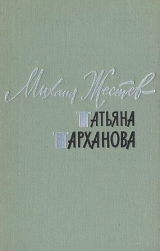
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Война есть война. Но и в ней были светлые годы. Нет, не первый ее год. Тогда все покрывала горечь отступления. Но вот почувствовали – не так враг силен, как кажется. Научились побеждать. Пошел 1943 год. Он был светлый, как утро. Еще враг занимал огромные пространства нашей Родины, но его одетые в броню дивизии уже потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом, потом их перемололи под Курском. С каждым днем все выше и выше поднималось для нас солнце Победы. И хоть война длилась еще почти два года, откуда-то издалека ветер времени уже доносил запахи мирной поры. В начале сорок четвертого года, после того как немцы потерпели очередное поражение, на этот раз под Ленинградом, Глинск из города, близкого к фронту, стал городом глубокого тыла. Мертвящие блики маскировочного синего света сменились яркими, золотыми электрическими огнями.
Комбинат перестал быть жильем для людей. Они вернулись в свои дома. В цехах устанавливали оборудование для производства огнеупора. От войны в Глинске осталось одно: госпитали. Но и в них тоже было много мирного. Сюда не привозили раненых прямо из медсанбата. Тут не было уже битв между жизнью и смертью. Отсюда, из госпиталей-санаториев, где раненые восстанавливали свои силы, они снова уходили на войну. И это главным образом напоминало о ней.
В первые годы войны многие школы были вытеснены госпиталями. Теперь госпитали уступали свое место школам. Там, где недавно были слышны стоны раненых и умирающих, звенел детский смех, вместо коек стояли парты, и в бывшей операционной, где ампутировали ноги и руки, вновь водворился кабинет химии или физики.
Школа-семилетка в Раздолье не была занята под госпиталь. Она не работала лишь несколько зимних месяцев первого года войны. И теперь Татьяна Тарханова закончила ее. Впереди была десятилетка. Война представлялась Татьяне полой водой, еще недавно готовой хлынуть на Глинск, а теперь отступившей от его берегов и далекой-далекой. Она с радостью передвигала на карте красную ленточку все ближе к немецкой земле. Как и все ее сверстники, она еще жила войной, но в ее грезах войне уже не было места. В жизнь готовилось войти новое поколение, которое мечтало уже не о морской службе и не о танковых атаках, а об изобретении новых машин, открытиях, дающих человеку долголетие, о поисках чего-то необыкновенно красивого и вдохновенного – многим хотелось быть артистами, певцами, музыкантами. Сверстники Татьяны, да и она сама, не думали стать плотниками и каменщиками, штукатурами и кровельщиками. Как будто война не спалила ни одного дома, как будто совсем не надо было восстанавливать и строить заново сотни городов и тысячи сел. Как небо после черных грозовых туч кажется лазурным, так и жизнь впереди представлялась такой легкой и светлой, совсем не обремененной тяжелым физическим трудом. Всех тянуло только к умственному труду, к труду, полному раздумий, открытий и волнений, к труду чистому, без навоза и машинного масла. То, что война потребует после себя столько же пота, сколько она взяла крови, – об этом за школьными партами думали мало. И, пожалуй, в этом была вина не ребят, а старшего поколения – людей, которые приняли на свои плечи все тяготы войны. Они хотели, чтобы у их детей была счастливая жизнь. Это была та цена, которую они принимали как оплату за собственные невзгоды, и тем самым взвалили на себя новое бремя.
Татьяна еще сама не знала, кем ей хочется быть. В школе возобновил работу юннатский кружок. Но деляночки и грядки выросли в большие поля, весь урожай шел уже не на выставки, а на школьное питание, и сами юннаты оказались не столько естествоиспытателями, сколько бригадирами, руководящими на участках другими школьниками. Татьяна возглавляла звено и с увлечением занималась выращиванием картофеля из верхушек, что ей представлялось самым последним словом науки, хотя верхушками сажали картофель в голодные годы и в старину. Но и зима, проведенная на комбинате, не прошла для нее бесследно. Татьяна видела огромные остывшие печи, неподвижные, словно в летаргическом сне, машины, горы глины. И мертвый гигант произвел на нее большее впечатление, чем если бы он жил и работал и кругом было движение людей, вагонеток, транспортерных лент. Когда она, как связная, обходила с дедом Игнатом посты, комбинат поразил ее своим безмолвным величием, и она спросила – а можно ли будет опять его пустить?
– Инженеры смогут, – ответил Игнат.
С того дня в ней зародилось желание овладеть тайной воскрешения мертвых машин, и стремление быть инженером не покидало ее даже после того, как она вновь пришла на юннатское поле и, казалось, с прежним увлечением стала заниматься своими опытами. Но если выбор между техникой и естествознанием ей предстояло сделать в будущем, то в настоящем она всему предпочитала сцену, тем более что к сцене, как утверждали все ее подружки, у нее есть талант. Она любила стихи и как будто даже умела их читать. И чтение стихов влекло ее к сцене. Если Татьяне не удалось в этой войне стать героем, то как заманчиво было перевоплотиться в героя на сцене, жить его чувствами и мыслями, вдохновлять других.
Война соединила солдата и ребенка неразрывными узами. Дети писали письма на фронт, посылали незнакомым солдатам посылки. Ни одна профессиональная труппа не могла пользоваться в госпиталях таким успехом, как школьная самодеятельность, возвращавшая солдата к дому, к семье, к своему ребенку. Это хорошо понимали некоторые профессиональные артисты и, приезжая а Глинск по путевке политуправления, связывались со школами и, заполучив маленького певца, чтеца или гармоника, брали его с собой на концерт.
Теплым весенним днем в учительскую раздольской семилетки вошел средних лет человек, на котором не совсем ладно сидела военная форма. Всей его фигуре, крупной и осанистой, больше соответствовал бы черный строгий костюм, чем солдатская гимнастерка, на которой еще виднелись следы погон. Это был известный в городе режиссер и артист местного театра Иннокентий Константинович Дроботов.
Дроботов приехал в Глинск еще до войны и поселился в небольшом домике сестры. Конечно, появление нового режиссера не могло пройти незамеченным. Вскоре жителям Глинска, как и жителям всякого провинциального города, стали известны все подробности жизни Дроботова. И то, что он до Глинска жил в Ленинграде, работал там в академическом театре, и что бросил Ленинград и театр потому, что от него ушла жена, которая предпочла ему другого актера и к тому же взяла с собой двух детей. Глинские обыватели ничего не напутали. Да, все так было. Только ведь обыватель ошибается не потому, что он все выдумывает или очень уж привирает, а потому, что он путает причину со следствием.
Дроботов приехал в Глинск не потому, что его бросила жена, а наоборот, она бросила его потому, что он решил поехать в Глинск и там стать руководителем небольшого драматического театра. Трудно сказать: то ли в сорок лет его не удовлетворяло положение рядового режиссера, то ли он увидел в маленьком провинциальном театре какую-то новую возможность для своего творческого роста, но, так или иначе, в Глинске он создал театр. Он назвал его «Современник», о нем очень скоро заговорили даже в центральной печати, и в самый канун войны его даже пригласили на летние гастроли в Ленинград, Свердловск и Ростов-на-Дону. Война закрыла театр, но война не убила идею, и теперь он опять создавал новый «Современник». И то, что Дроботов искал в школах участников для выездных концертов, было не столько данью моде, сколько поиском будущих артистов, чтобы чуть ли не с детства начать направлять их талант и любовь к сцене.
В школе уже привыкли к успеху своих «артистов» и на просьбу Дроботова дать ему чтеца предложили Татьяну Тарханову.
– Так чем мы можем похвастаться? – спросил Дроботов, внимательно разглядывая стройную девочку со строгим, серьезным лицом.
Она прочитала несколько стихотворений. Особого таланта он в ней не обнаружил, но слушать ее можно было, и он спросил:
– А что ты еще знаешь?
– «Ленинградцы, дети мои». Это написал народный акын Джамбул.
Дроботов улыбнулся.
– Очень хорошо. – И, выслушав несколько строф, сказал: – Вот это, Танечка, будешь читать. А теперь скажи, ты с кем живешь?
– С дедушкой и бабушкой.
– Далеко?
– Прямо через улицу.
– Тогда пойдем и вместе доложим: едем в Мстинский район и просим высочайшего дедушкиного и бабушкиного соизволения и разрешения. – И, прощаясь с завучем, добавил с доброй, веселой усмешкой: – Прекрасный будет концерт. Соло – пение, танец джигита, соло на аккордеоне! Еще факир. И вот ваша Танечка, чтец-декламатор. Директор нашего театра, в прошлом управляющий хлебозаводом, говорит, что артист должен быть закваской в квашне самодеятельности. Тогда наверняка взойдет великое тесто искусства.
Услыхав, что Татьяну хотят взять куда-то в Мстинский район, да еще для того, чтобы она там выступала на сцене, Лизавета замахала руками и довольно сердито сказала Дроботову.
– Где это видано, чтобы девчонку в такую даль отпускать, да еще неведомо с кем!
– Но театр вам гарантирует, что Таня будет вам доставлена в целости и невредимости.
– В театре всякое бывает. Смотришь пьесу, думаешь, конец хороший будет, а на проверку хуже и не придумаешь.
– Так то на сцене, – рассмеялся Дроботов.
– А это все равно! И виноватых нет, и так уж случилось, и наперед загадать нельзя было.
– Бабушка, ничего со мной не случится, – умоляюще проговорила Татьяна и бросилась к Игнату: – Деда, ну скажи ей.
Игнат спросил Дроботова:
– А в какое место едете? Мстинский район велик.
– Есть там клуб в бывшем княжеском имении.
– Так это в Пухляках. Родина моя. Может, и меня заодно прихватите?
– С превеликим удовольствием. У нас свой автобус.
Автобус шел знакомой дорогой. Игнат думал: вот он возвращается в родные места. Но ведь Глинск ему близок не меньше, чем Пухляки. Он даже ближе, он в настоящем, а Пухляки где-то далеко в воспоминаниях. И тогда Игнат понял свое чувство. Он возвращался в свое прошлое. Из умудренной зрелости – в пору молодости. Дорога шла вдоль Мсты. Он узнавал крутые, словно никогда не меняющиеся речные берега Мсты, дышал все тем же воздухом, напоенным сосной и запахом трав. Но куда девалась старая грунтовая дорога? Она превратилась в широкое шоссе, через рвы и речушки, впадающие в Мсту, перекинулись мосты, и по обочинам то и дело мелькали путевые знаки. Война несет разрушения. В ее огне сгорают посевы, дома и человеческие жизни. Но она рождает дороги. Это, может, единственное, что она создает. Она построила свои дороги к фронту и вдоль фронта. И в местах, где раньше осенью и ранней весной нельзя было проехать даже верхом, на сотни километров протянулись через леса и болота шоссейные дороги.
Деревни казались Игнату незнакомыми. За годы, что он не был в этих местах, деревни ушли от бедности маленьких подслеповатых окон, сбросили старые соломенные шапки, обстроились большими скотными дворами, стерли с полей старые межи, свезли на свои околицы хутора. Но в то же время, чем ближе было к мстинским местам, где проходила линия фронта, тем больше ощущалась разрушительность войны: поваленные изгороди, окна, заткнутые тряпками, и те же скотные дворы, но покосившиеся, оттого что некому сменить нижний венец. Война изменила лес. Там, где он был могучий, высокий, у самой дороги, его не стало, а где не было, на краях покосов и пастбищ, он поднялся стеной мелколесья. Война расплодила иву и орешник и уничтожила сосны и ели. А земля дичала. И на полях появились камни. Они будто выросли из-под земли, и было похоже, что тут снова прошел ледник.
Вблизи Пухляков, когда Игнат уже узнавал знакомые с детства места, лопнула камера. Авария произошла на самой горке, откуда в речной низине должны были быть видны Пухляки. Но деревни не было. Вместо нее высились одинокие редкие избы, а между ними, зарывшись в землю, чернели похожие на погреба землянки. Только бывшая помещичья усадьба со всеми ее пристройками, сделанными из валунов, уцелела. Ее по-прежнему кольцом окружал парк, и к нему белой дорогой шла аллея устоявших в войне берез. Игнат подозвал Татьяну и, протянув вперед руку, сказал:
– Видишь? Это Пухляки.
– Пухляки? Так вот они какие, Пухляки!
Игнат видел перед собой разоренную деревню и ничего, кроме пепелищ, не замечал. Перед ним в низине лежало какое-то незнакомое поселение, и жизнь в нем ему представлялась полной горя и скорби. Но Татьяна не знала, как здесь все выглядело прежде, для нее Пухляками были не только те несколько домов, что она видела с горы, но и все, что окружало деревню, ее земля, золотистая от ржи, в зелени лугов и окруженная бесконечными лесами. Ну как можно было обращать внимание на какие-то там домики, когда кругом такая красота! Это и есть Пухляки! И в них есть еще что-то такое, чего нет нигде, – какой-то необыкновенный воздух. Вдохнешь, и не хочется выдохнуть.
– Деда, верно, это моя родина? – спросила Татьяна.
– Твоя родина? – Игнат ответил не сразу. – Нет, ты родилась в городе...
– Нет, здесь, – упрямо произнесла Татьяна. – Здесь! Я чувствую, здесь.
– Воздух! – сказал Игнат. – Воздух! – И подумал: «Кто знает, как это самое родное человеку передается».
Игнат не знал, кто сообщил Потанину о его приезде, но едва машина остановилась около колхозного клуба, который помещался в барском доме, как он увидел спешащего к нему навстречу старого друга. Был он такой же кряжистый, так же прихрамывал, и, может быть, именно поэтому Игнату показалось, что за эти годы совсем не изменился Тарас. Он обнял Игната, улыбаясь взглянул на него и сказал, не скрывая радости:
– Все-таки не забыл Пухляки. Вспомнил.
– Внучку вот привез. Вроде актриса.
– Ладная актриса. Давно бы надо приехать.
Тарас провел артистов в бывшую людскую, где их ждал обед и отдых с дороги, а сам вернулся к Игнату.
– Твоя Татьяна осталась с гостями, а ты не гость. Идем ко мне.
– Ежели не гость, так извини, Тарас, я сначала пройду к себе.
– Перекусим, потом сходим.
– Нет уж, веди. Думаешь, ничего не заметил?
– Если знаешь, тогда что же!
Они спустились к реке, обогнули берегом березовую аллею и вышли напрямик к дому Игната. Но дома не было. И двора тоже. Даже от печного стояка осталась лишь груда черных с одного боку кирпичей. И с домом словно исчезло прошлое. Ничто не напоминало о нем. Чудилось Игнату – стоит он у чужого пепелища, старается вспомнить чужую жизнь. А сам как будто никогда не был молодым и не знал здесь никаких радостей. Тарас осторожно взял его за рукав и, слегка кивнув головой, повел на огород. На краю огорода, откуда к Мсте сбегала когда-то тропинка, Игнат увидел холм, из которого торчали обломки бревен. Только после того как они обогнули этот холм и повернулись к нему лицом со стороны реки, Игнат понял, что перед ним не то обвалившаяся землянка, не то старый, оставленный давно дзот.
– Жили здесь? – спросил Игнат.
– И жили, и воевали, и умирали. Читай! Игнат поднял глаза и с боку холма увидел столб с небольшой дощечкой и надписью: «Август 1941 г. На этой земле расчет зенитного орудия под командой Сергея Бурова уничтожил фашистский десант, пав смертью храбрых». Тарас сказал:
– У порога твоего дома остановили немца.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Дом Тараса тоже был разрушен. Председатель жил в землянке. Внутри землянки были настланы жердевые полы, к реке выходили два маленьких оконца. Жил Тарас по-прежнему со своей Фросей, женщиной очень подвижной, никогда не унывающей, и племянницей Ириньей, которую Игнат помнил такой, какой сейчас была Татьяна, а теперь ставшей уже тридцатилетней женщиной. Игната угощали как своего, да и он знал, что с пустыми руками к своим не ездят. Когда племянница и жена Тараса ушли в поле и они остались вдвоем, Тарас сказал:
– Если не считать мальчишек, инвалидов да стариков, в колхозе ни одного мужика. Все еще воюют. В общем, бабий председатель. Но зато бабы такие – мужикам не уступят. Да что там говорить, нет таких мужиков, как наши пухляковские бабы. Вот тут, за окошком, фронт был в сорок первом. На огороде передовая, а в овраге, за деревней, глубокий тыл считали. И как только немцев отогнали за Новинку – далеко ли, всего пятнадцать километров, – опять колхозом стали работать. И вот тогда я понял великую силу колхоза! Ну что бы делали наши бабенки в своем единоличном хозяйстве? Одной и лошадь не запрячь! А тут немцы бьют из своих орудий по клеверам, а наши бабы рожь жнут. Знаешь, какие у нас урожаи? Что ни гектар – тысяча двести пудов картошки да столько же капусты. Так может сдюжить только мать, у которой ребенок, да жена, у которой муж на фронте. Сильнее солдата колхозная баба – солдатская жена. И чем мы ее после войны отблагодарим? В ноги поклонимся? Да к чему ей поклоны.
Вот кто ей мужика вернет? И где невеста жениха найдет? Вот оно где, горе-горюшко неизбывное. Видал Иринью? Три года мужа ждала! Один капитан подкатился было к ней, так она его так шуганула, едва ноги унес. А полгода назад похоронную получила. Что ей теперь делать? Думаешь, забудет, еще полюбит? А как полюбить? У другой мужа отнять, у детишек отца?
Они вышли на улицу.
– А живете-то как?
– Так работать, да не жить. Хлеба вдоволь, теленок в каждом дворе. У кого дом порушенный, уже лес подвезли. Так что в будущем году, кончится война или нет, а Пухляки в мирную колею войдут. А когда с войны люди вернутся, куда как заживем!
– Война, видно, научила людей колхоз беречь.
– Тут многое одно к другому подошло. Ну и не без того, что земля за работу платит натурой. А натура в войну дороже денег. – Тарас помолчал, а потом, как бы отмахнувшись от своих беспокойных мыслей, продолжал: – В общем, будем живы, не помрем. – И, словно боясь, что Игнат начнет допытываться, что именно его тревожит, вдруг спросил: – Ты Сухорукова не забыл?
– Алексея Ивановича?
– Его саперный батальон тут стоял. Наводили переправу.
– Жив? Воюет?
– Воюет. О тебе вспоминал – как вы турбину ремонтировали.
Они миновали деревню и вышли на паровое поле. Игнат остановился, пригляделся и спросил:
– Что это там?
– Пашут.
– Вижу, что не сеют, – выкрикнул Игнат. – Что делаешь? Ты в своем уме ли? У тебя на бабах пашут?
– А ты приглядись лучше, – схватил его за руку Тарас. – Кто в первой лямке? Фрося моя! Председателева жинка! А кто во второй? Иринья – председателева племянница. Что? Глаз режет? А ты думаешь, война – это тебе игрушка?
– Как же так, на людях пахать?
– Конечно, вы там в Глинске привыкли к машинам. А мы судили-рядили, что сподручней – копать лопатой или в плуг запрячься. И решили: чем сотку копать, лучше пять вспахивать. Иринья перед войной на тракторе работала. Сейчас сама за коня.
– Да ведь фронт далеко, скоро к Германии подойдем.
– Фронт был – мы на танках пахали. А вот ушел, да остались при нас наши пять одров-битюгов, тут как хочешь действуй. То ли на себе сено возить, то ли за собой плуг таскать.
Игнат, не говоря ни слова, зашагал к полю, догнал женщин и, заставив Фросю отдать ему первую лямку, встал рядом с Ириньей. Со всей силой, на которую он только был способен, Игнат потянул плуг. Иринья хлопнула его по плечу и весело крикнула:
– Экий черт необъезженный. Ровней тяни, еще сбрую порвешь.
Но Игнат словно ничего не слышал. Он шагал, наклонившись вперед, нажимая всей грудью на постромки и стараясь как можно шире ставить ноги.
– Да за тобой не поспеть, – сказала идущая сзади женщина.
– А ты отдохни, – ответил Игнат, не оглядываясь.
Женщина отошла в сторону, а Игнат продолжал тянуть плуг.
– Да погоди ты, идол! – крикнула ему другая женщина, идущая сзади Ириньи.
Но Игнат еще сильнее приналег на лямку.
Игнат и Иринья шли рядом медленно, чувствуя дыхание друг друга, оба раскрасневшиеся от жары и напряжения. Игнат слышал, как стучит его сердце, ему трудно было дышать, но могучее тело не хотело сдаваться, и он продолжал шагать по мягкой, рыхлой земле.
– Жалостливый вы, Игнат Федорович, – сказала Иринья, ступая рядом с ним плечо к плечу.
– Злой я сейчас!
– И все равно жалостливый, – снова сказала Иринья. – К бабам жалостливый. Только вы не напрягайтесь. Тут сила – силой, а не втянувшись, долго ли надорваться? – И крикнула, проходя мимо отдыхающих женщин: – Что расселись? – Она остановилась, заставила Игната снять лямку и через минуту, когда женщины снова впряглись в постромки, скомандовала: – А ну, взяли!
Тарас подошел к Игнату.
– В тебе силы больше, чем у всех у них, а не выстоишь даже против моей старухи. С утра пахали и сейчас пашут. Понимаешь теперь, что значит баба-солдат?
Где бы в этот день ни был Игнат, с кем бы ни встречался и о чем бы ни говорил, перед глазами неотступным видением стояло паровое поле и шесть женщин, которые тянут за собой плуг. Он думал о них и чувствовал себя в их упряжке. Болели руки и грудь, натруженные холщовой лямкой. Игнат пришел в клуб уже близко к полуночи, в то самое время, когда летом обычно начинаются в деревне концерты. Как раз выступала Танюшка. Она читала что-то знакомое, слышанное им в первый год войны: «Ленинградцы, дети мои!» И почувствовал, что если сейчас он не уйдет, то не сможет сдержать слезы, и все увидят его, здоровенного мужика, плачущим, хотя он не пережил сотой доли того, что пережили Фрося, Иринья и все эти женщины, которые после тяжелого дня работы нашли в себе силы прийти послушать артистов.
Игнат выбрался из зала. Он шел вдоль березовой аллеи и вдруг услышал в ночных сумерках, как кто-то говорит негромко, повторяя одни и те же слова: «Пухляковцы, дети мои». Он не сразу понял, что эти слова принадлежат ему, что они поднимаются из его сердца, как из-за леса близкая утренняя заря.
В землянке Тараса никого не было. Сам Тарас, его жена и Иринья ушли в клуб, оставив ему дома на столе кринку молока, а в сарае на свежем сене подушку и одеяло.
Игнат прилег, закрыл глаза и снова увидел себя идущим в одной упряжке с Ириньей. И неожиданно почувствовал, как что-то очень легкое припало к его груди. Игнат открыл глаза и в темноте дощатого сарая, сквозь который пробивалась белая летняя ночь, увидел рядом Иринью.
– Тяжко мне, ох, тяжко!
– Иринья, ну зачем я тебе? Шестой десяток пошел.
– Хороший, жалостливый ты к бабам. Ты не обидишь.
– Завтра уезжаю.
– Мне бы только жить ради чего... – И тихо, радостно рассмеялась, прижав к себе его рыжую голову.
Утром Игната разбудил Тарас.
– Люди с поля завтракать идут, а ты еще спишь. Ты, может, со мной на сенокос проедешь?
– Не могу. Надо к дому добираться.
– Значит, какие наши горести и радости, тебе ясно?
– Пожалуй, что так.
– А может, пособишь?
– Тут помощники требуются помоложе, чем я.
– Значит, занесла метелица следы-дорожки.
В сарай вбежала Татьяна. Она бросилась к Игнату и восторженно объявила:
– Я, деда, вчера жила, как настоящая актриса. Легла спать только в четыре утра.
– Скажи пожалуйста, – удивился Игнат, – а я думал, что они спят, как все люди.
– Ну как же, деда. Ведь концерт кончился только в два часа. Пока ужинали, пока наговорились, а до этого надо было еще разгримироваться.
– Постой, постой, – перебил ее Игнат, – тебя тоже красили?
– Обязательно! Если не краситься, со сцены лицо будет как доска.
– Ты лучше скажи, когда обратно собираетесь?
– Сегодня вечером еще один концерт в клубе, потом один в Новинке, а потом домой.
– Завяз я с тобой, Танюшка!
– Ничего, деда, тебе спешить некуда. Отпуск у тебя на неделю, бабушка подождет, а здесь тебя очень любят. Не веришь? Вот спроси у Ириньи.
Игнат взглянул на появившуюся в дверях сарая Иринью и спросил:
– Верно Танюшка говорит?
– Любят, Игнат Федорович.
Она отвернулась и взглянула куда-то за Мсту такими глазами, словно ждала издалека, из своего будущего что-то радостное для себя.
Татьяна бродила по Пухлякам. Прошла вдоль берега от плотины, потом свернула к березовой аллее и долго стояла на том месте, где был когда-то их дом. Странно и непривычно было сознавать, что здесь давным-давно жили дед Игнат, ее отец и мать, что они ходили вот по этому двору и спускались к реке по этой тропинке. И даже она чуть-чуть не родилась здесь. Как много в жизни случайностей. Один день, и ее родиной стал Глинск. Но разве не все равно, где человек родился – в Глинске или в Пухляках? Ведь Родина – это больше, чем какая-нибудь деревня или город. Родина – это страна... Значит, ее Родина – каждый город, каждая деревня... И тогда она ощутила все безмерное горе, постигшее Пухляки. Все разорено и сожжено. Жизнь надо начинать с землянки. Да ведь это пещера первобытного человека. Проклятые фашисты!..
Она вышла на край деревни и пошла по проселку краем хлебов. Хлеба стояли высокие, густые, такое богатство, что даже не верилось – неужели все это принадлежит разоренным Пухлякам? Все тут перемешалось. Богатство и бедность, человеческое горе и радость ощущения близкой победы, все, что было пережито в прошлом, и все, о чем мечталось в будущем.
Татьяна вышла к старым лесным вырубкам и увидела идущую по большаку грузовую автомашину. Машина остановилась на развилке, и из кузова выпрыгнул военный. Он был в погонах старшины, с рыжими усами и почему-то показался Татьяне знакомым. Рыжеусый пристально взглянул на нее и сказал:
– Так вот ты какая!
– Такая! – смело ответила она.
– А зовут Татьяной!
– Ну, Татьяной!
– Тарханова.
– А вы откуда знаете?
Он взял ее за локти, приподнял и широко улыбнулся.
– Так что же ты, дочка, отца не признаешь?
Все произошло так неожиданно и в то же время так обычно и просто, что Татьяна даже не могла сказать, обрадовалась ли она или удивилась встрече с отцом. Неожиданное потрясает. Но оно же нередко и притупляет человеческие чувства.
Отец сказал с грустью:
– Вот на этой дороге дочь Татьяну нашел, а жену Татьяну потерял.
– Мама умерла.
– Знаю...
– Ты дома у нас был? У бабушки Лизы?
– Вы только уехали...
Игнат встретил Василия так, как будто они расстались недавно. Просто обнял его, трижды поцеловал.
– Прости меня, сынок.
– Ну что ты, батя!
– Про мать тебе дочка, видно, все рассказала... Да и не возьми я тебя с собой за Находкой, иначе шла бы твоя жизнь.
– Иначе, верно, – согласился Василий. – Но я на свою не жалуюсь. А за дочку спасибо, отец. Так что выпьем по случаю встречи? – И Василий полез в дорожный солдатский мешок.
– Постой, – остановил его Игнат. – Ты мне сначала скажи: неужто столько лет найти не мог меня? А может, и не искал?
– Батя, времени у меня мало для таких разговоров. Всю жизнь свою рассказывать не придется. Всякое в ней было. И хорошее, и плохое. Ну, в общем, так дело было. Добрался я до больницы, перевязали меня там, а после я сам в Хибины поехал. Рассудил просто: в другом месте могут найти, а там искать не будут. А вольному человеку – всюду жизнь. Кем только не работал. И дорогу строил, и руду добывал, а война началась – воевать пошел. Искал я вас, батя. Только как ведь приходилось искать? Не через адресное бюро. Боялся навести подозрение. С одного знакомого сняли ссылку, так я его попросил сюда заехать и осторожно выведать – не слышно ли что о вас. Не знаю, был ли он тут или нет, а ответил, что никаких следов ему найти не удалось.
– Крутоярский писал, что ты уже не Тарханов?
– Еще в больнице фамилию сменил. Спрашивают, как фамилия? Ну, думаю, сам попался, а след от тебя отведу. И говорю, что на ум пришло. Раз мне конец – значит, и такая моя должна быть фамилия – Концевой. А зовут Василием. Так и пошло.
– А крепко урки поранили?
– И это вам ведомо? Тут тоже долго, батя, рассказывать. В общем, хотели они одного инженера в ножи взять, а я не дал. И стали у стены вдвоем, он с киркой, а я с ломом. Пока помощь подоспела, крепко меня поранили. Ножи в нас метали.
– Давай выпьем, сынок! – Игнат поднял стакан. – За все...
– Я ведь как нашел тебя, батя? Вышел из госпиталя – и к коменданту города. И вдруг вижу: в сквере – доска, а на ней твой портрет!.. Бригадир комбината Тарханов! Знатный человек города! Ну, я на комбинат, а оттуда в Раздолье...
– Вот какая дорога нас свела! Человек, он может глупость сделать, но все едино место свое в жизни найдет и на прямую дорогу выйдет.
Было уже близко к полудню, когда Василий поднялся.
– Время мое подходит. Давайте попрощаемся.
– То есть как – попрощаемся? – удивился Игнат.
– В двадцать три ноль-ноль уезжаю на формирование. Ведь еще до Глинска надо добраться.
– Раз такое дело, ничего не поделаешь. – Игнат подошел к вешалке, снял фуражку и, нахлобучив ее на голову, сказал Тарасу: – И до вечера не пришлось погостить.
– Я тоже поеду, – вскочила из-за стола Татьяна. – Только скажу, чтобы меня не ждали.
Они вышли на улицу, и, когда Татьяна скрылась в проулке, Игнат спросил сына:
– Ты, Василий, может, второй семьей обзавелся?
– Нет.
– Вроде как с хлеба на квас перебиваешься? Может, оно и к лучшему... В войну не до семьи.
В Глинск приехали поздно вечером.
Шли на станцию пешком.
– Провожаю я тебя, Василий, не куда-нибудь, а на войну. Провожаю, а на душе у меня светло. И ты, Василий, должен это понять.
Совсем близко просвистел маневровый паровоз, лязгнули буфера товарных вагонов. Василий прислушался.
– Состав готовят. На фронт пойдет. Надо войну кончать.
Зал ожидания, дощатый вокзальный перрон, небольшая площадь перед станцией – все было заполнено. Не меньше, чем отъезжающих, было провожающих, преимущественно женщин. Матери, приехавшие на свидание к сыновьям, жены и сестры, бросившие все, чтобы еще раз увидеть мужей и братьев. Были и такие, которых свела с солдатом случайная встреча, короткая любовь и последнее расставание. Души их так и остались не понятыми теми, кто их презирал, а часто и теми, кому они отдавали себя, не требуя взамен ни верности, ни постоянства, ни возвращения после войны – ничего, кроме любви. В минуту расставания военная жена знала: погибнет солдат или останется жив – к ней он уж не вернется. Она была ему в эту минуту и женой, и сестрой, и матерью. И ее горе было ничуть не меньше.
Состав предполагали подать к погрузке в двадцать три ноль-ноль. Но прошла полночь, стрелка больших станционных часов близилась к двум, а посадки все еще не было. Татьяна сидела на перронной скамейке и слушала, о чем говорили отец и дед Игнат: Пухляки, Хибины, фронт, Глинск. Как жизнь жестока к ней. Найти отца и так быстро расстаться с ним. Но он солдат, идет война, и хорошо, что она дала им возможность провести вместе хоть один день,
Другим такое счастье даже и не снилось. А отец продолжал рассказывать:
– Десять лет прожил в Хибинах. Мостовщик и шахтер, механик и машинист. На третий год все рассказал о себе. Так вольным и оставили. Ну, а еще должен ты знать вот что: когда наши войска готовили наступление через Свирь, первым переправился на другой берег и там со своим отделением пять часов держал пятачок. В партию вступил...