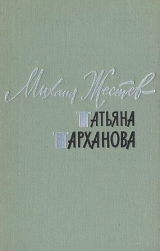
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Книги валялись в углу комнаты, на столах, были разбросаны по стеллажам. Каждую книжку Татьяна аккуратно вытирала, заносила в карточку и ставила на место. Из книжного хаоса постепенно возникала библиотека, и у Татьяны появилось ощущение необходимости своей работы. Ведь без нее все эти книги так и лежали бы, никому не доступные и бесполезные. Еще недавно пыльная захламленная комната, где кроме книг лежали какие-то банки из-под краски, куски обоев и пакеты с остатками мела и цемента, была вымыта, приведена в порядок и выглядела настоящей библиотекой-читальней с настольными лампами и мягкой мебелью, которую удалось раздобыть в театральном реквизите.
Татьяна работала по вечерам. Сергей приходил часто. Он помогал ей заполнять карточки и составлять инвентарную опись, но преимущественно сидел в мягком кресле, читал театральные мемуары и, отрываясь от книжки, то болтал о каких-нибудь пустяках, то весьма серьезно говорил о значении агрохимии для почвоведческой и микробиологической наук. Он верил в себя, в свою будущую кандидатскую работу и в свое счастье. Ему действительно очень везло в жизни, и, что бы он ни задумывал, все исполнялось как-то само собой, без больших усилий и волнений. Он воспринимал свои удачи как должное, как будто они были ему положены. Он рассказал Татьяне, что его дед был в гражданскую войну партизаном, отец одним из первых вступил в колхоз. Анкета Сергея Хапрова была чистой, как прозрачное стекло. Он гордился этой анкетой, и она придавала ему уверенности в жизни. Ну, и, конечно, личные способности. Ему все давалось легко. Из школы – в институт, из института – в агрохимлабораторию Глинска, после агрохимлаборатории, он не сомневался, – снова институт, но уже не студенческая скамья, а кафедра. Все было настолько просто и ясно, что когда кто-нибудь из товарищей ему завидовал, он удивлялся этой зависти. Просто на свете существуют разные люди. Даже внешность Хапрова – он был высокий и сильный – как бы оберегала его от неприятностей. Таких не задевают, таким приятно смотреть в глаза. Недаром сам Сергей считал себя парнем и общительным, и веселым, и хорошим.
Но в эту теплую августовскую ночь, провожая Татьяну, он был неразговорчив, грустен, ни разу не пошутил.
– Сережа, у вас неприятности?
– Какие могут быть у меня неприятности? Институт включил в комплексную бригаду для изучения влияния удобрений на развитие микроорганизмов в почвах северных районов... Это ведь моя тема.
– И все же...
– Но ведь для этого надо ехать в Архангельск. И ехать на три месяца. Вы понимаете, на три месяца.
– Не понимаю.
– Девяносто дней.
– А в году триста шестьдесят пять, – рассмеялась Татьяна.
– Нет, вы не хотите меня понять. Ехать надо завтра утром... Завтра, вы понимаете?
– На вашем месте я поехала бы с удовольствием.
– Все ясно, – грустно развел руками Сергей. – Все абсолютно.
– Новые места, интересная работа...
– Ну, конечно...
– И вы будете писать мне.
– А вы будете ждать моих писем? – оживился Сергей.
– Да.
Этот предотъездный вечер мог бы закончиться как-то иначе. Но когда они подошли к Раздолью, из-за угла им навстречу вышел Игнат.
– Ночи-то темные, – сказал он. – Хотел встретить тебя.
– Меня Сережа провожает.
Игнат усмехнулся.
– Это, конечно, надежнее. Тогда уж я пойду.
– Постой, деда, – она протянула руку Сергею. – Вам надо собраться в дорогу. До свидания, Сережа. Не забудьте, я жду ваших писем.
Простившись, Хапров постоял, подумал: да так ли везет ему в жизни, как это кажется другим?
Игнат и Татьяна шли ночной, слабо освещенной улицей Раздолья. Татьяна рассказывала о библиотеке, о предстоящем возвращении театра. Игнат перебил ее.
– Приглянулся Сергей?
– Он хороший, деда.
– Я в твои дела, Танюшка, не вмешиваюсь, но все-таки, раз хорош, нечего от нас прятать. Пусть приходит.
– Он завтра уезжает на три месяца. Ты же слышал, мы прощались.
– Вон оно что... А я думал, вы до завтра. А вы на три месяца. Тогда, как говорится, все ясно. – И подумал: не Сергей, так другой объявится. Растил, берег, да все равно не убережешь. Но то, что это неотвратимое должно случиться не сегодня и не завтра, успокоило Игната, и он поспешил обрадовать Татьяну.
– А Лиза-то наша вечером сама вокруг стола прошла.
– Увидишь, деда, она на будущий год и огород поливать будет.
– Ты-то как, учиться поедешь или работать останешься?
– Не знаю... Как подготовлюсь...
– Может быть, лучше за книги сесть?
– Не говори так, деда. Я буду работать. Я иначе не могу.
Но теперь вечера, которые она по-прежнему проводила в театральной библиотеке, потеряли свою волнующую прелесть. Оттого, что Сергей не сидит в глубоком мягком кресле, не поддерживает стремянку, когда нужно поставить книгу на верхнюю полку, не провожает ее в Раздолье, стало грустно. Театр вернулся с гастролей. Она видела перед собой много людей, и всегда находился услужливый человек, который готов поддержать стремянку и даже проводить до дому, а ощущение грусти не исчезло. Ей не хватало именно Сергея. В этом она убедилась, когда получила его первое письмо. Оно как бы вернуло его. Он снова был с нею: в библиотеке, по дороге в Раздолье, даже дома.
– Ты влюблена, – сказала ей Уля, когда Татьяна радостная, сияющая пришла к ней домой и протянула письмо Сергея.
– Глупости! Просто интересное письмо.
Дроботов как-то, зайдя к ней в библиотеку, сказал, что он беспокоится за племянника: уехал, и ни слуху ни духу. Татьяна не сразу призналась, что он пишет ей. Лишь через несколько дней она спросила:
– Иннокентий Константинович, от Сергея еще нет ничего?
– Паршивец, как всегда легкомыслен.
– Вы не беспокойтесь. У него все хорошо. Он мне написал.
– Понятно, – Дроботов рассмеялся. – Писать одновременно двум людям в один город он не в силах. Поэтому и вы пишите ему за меня. Ему легче, да и мне тоже! Что касается вас, то примите это как дополнительную нагрузку к своей работе.
Теперь, когда Лизавета уже самостоятельно передвигалась по комнате, Татьяна могла свободно отлучаться из дому не только вечером, но и днем, и как-то само собой произошло, что она взяла на себя обязанности дроботовского секретаря, театрального счетовода и ко всему этому еще комсорга. И она так свыклась со своим положением, что вскоре ее работа в театре стала казаться ей самой интересной и нужной. Ни одно важное событие в жизни театра не проходило мимо нее. Она первая после Дроботова узнавала театральные новости и не без основания считала себя одной из ближайших его помощниц, хотя бы потому, что с ней он часто делился своими раздумьями и даже посвящал ее в такие тайны, как распределение ролей в предстоящих новых постановках. И если все, что он поручал ей делать, считать работой, то ни одна актриса, даже он сам, не были так загружены в театре, как Татьяна.
Однажды в библиотеку вошла одноклассница Татьяны – Верка Князева. Она была в короткой жакетке, в платке, наполовину прикрывающем лицо, и Татьяна с трудом ее узнала.
С детских лет, как Князева себя помнила, в их семье не было более ненавистного человека, чем Игнат Тарханов. Из-за него, по словам отца, им не стало житья в Пухляках, а потом, уже в городе, отца даже вызвали в прокуратуру – зачем, он не сказал, но она видела, как все в доме перепугались. Каково же было удивление Верки, когда в школе она обнаружила, что сзади нее сидит внучка этого ненавистного человека – Танька Тарханова. Вскоре, после крупного разговора, они вцепились друг другу в косы. Из этой драки Князева вышла побежденной. Ненависть ее стала сильнее. Однако Князева проучилась недолго. Еще через некоторое время вышла замуж, потом разошлась. При столь разнообразной и рано начатой жизни она, конечно, забыла о существовании Татьяны Тархановой. Но до той поры, пока однажды не увидела ее на улице с Дроботовым. Как она ей завидовала! Высоко взлетела. Везет же людям! А что ей дала жизнь? Мужа-торгаша, который ушел от нее, да заводских парней, с которыми она гуляет. А с кем ей гулять, когда она сама прессовщица! О, она хорошо знает этих парней. Еще с той поры, когда работала в парикмахерской. От них пахло глиной и ржавым железом, а ей представлялись в мечтах мужчины чистые и благородные, которые в парикмахерской обязательно требуют горячего компресса и массажа, напомаживают голову и уж во всяком случае не отказываются от одеколона, как эти чикирвасы – так называют их все парикмахеры.
Князева подсела к столу и сказала, не глядя на Татьяну:
– У меня к тебе большая просьба... Правда, мы в школе не очень-то дружили...
– Девчонки были.
– Ты понимаешь, я сейчас работаю прессовщицей на комбинате. Тяжело, грязно... Вот видишь, какие руки... Даже маникюр нет смысла делать.
– Ты работала в парикмахерской.
– Сколько там заработаешь! Если в дамской – можно, а брить и стричь мужиков... Нет, не хочу. А Федор, брат Ефремовой Ули, мне сказал, что в театре два буфета будет, ищут буфетчицу.
– Буфет не от театра. От райпотребсоюза.
– Если театр похлопочет, меня примут. Помоги мне. Знаешь, как тяжело у пресса.
Татьяна обещала поговорить с Дроботовым. Но в тот субботний день она его не видела и в воскресенье за утренним чаем рассказала о приходе Князевой деду Игнату.
Игнат молча выслушал Татьяну, а потом, надев свой зимний пиджак, вышел на улицу. Он сел в автобус, шедший от Раздолья до Буераков. На берегу Мсты сошел и по знакомым тропкам через огород направился к халупе, некогда принадлежавшей Лизавете. Сколько лет он не был там! Пятнадцать? В том далеком времени осталась его первая встреча с Лизаветой, тревожные годы бегства, маленькая сбитая из поленьев избенка. А может быть, и нет уже ее? Слышно было, Афонька Князев свой дом построил.
Игнат сразу узнал знакомую халупу. Она стояла, ее не снесли, хотя рядом высился новый князевский дом. Но никакого огорода у дома не было. Все вокруг было завалено железным ломом, горами костей и тюками тряпья, от всего этого несло, как из мусорной ямы, и весь двор был похож на огромную свалку. У раскрытых дверей халупы Игнат увидел старика, который что-то доставал из ларя и клал в мешок. Игнат уже хотел было пройти на крыльцо дома, но что-то в старике показалось ему знакомым. Каждый раз, когда старик нагибался к мешку, его глаза хитровато улыбались, и вся его тощая, сгорбившаяся фигура выражала радость и восторг, словно он становился собственником какого-то бесценного, одному ему известного богатства. И вдруг Игнат узнал в старике Князева. Он, Афонька, не кто иной! Все хорошей жизни хотел, себя жалел, да угодил в тряпичники...
Когда Тарханов подошел, Князев закрыл ларь и с усмешкой оглядел Игната с ног до головы.
– Известный в городе человек – и вдруг к утильщику пожаловал.
– Всякое дело есть дело. В этом доме живешь?
– В доме живу, а в халупе всякое барахло держу.
– Видно, живешь – не тужишь.
– Оно, конечно, знатности никакой, а на все прочее не жалуюсь. Вот намедни я сапоги чинить носил. Принес, а сапожная закрыта. И объявление: мастер заболел, и временно прием в починку прекращен. Понятно тебе это? Все в университеты да в начальство идут, а сапоги чинить некому. А ежели сапожной брезгуют, о помойке чего там говорить. За три километра обходят. Ну, а по мне помойка так помойка, был бы я своему делу хозяин. Я к помойке, думаешь, сразу пришел? До войны кем я был? Как хочешь назови: и дворником, и паспортистом, и вроде управдомом на всю улицу в Раздолье. Скажу прямо, приварок к зарплате невелик был! На чай за прописку, на сто граммов от хозяина дома, ежели в трубе сажу найду. Во время войны я и печи научился класть, и топором где тюкнуть, ну еще потолки белить да обои клеить. Решил с коммунальной работы уходить. А куда? В пожарники пошел. А почему в пожарники? Во-первых, служба, во-вторых, суточное дежурство, а в-третьих, после этой службы в самый раз на стороне халтурку сбить. И зажил: сутки в депо, двое печь кладу, а где потолки промываю. Ну да не один я такой умник был. Хочешь найти маляра – ищи, кто где на суточном дежурстве работает. И тут-то я додумался стать утильщиком. Ты сколько получаешь? Тысячу, две? Становись рядом, пять будешь иметь! Вот как! Нынче помойка богатая. Да и занятная. Помнишь, в Пухляках иной раз не найти было бумаги цигарку свернуть, а нынче этой бумаги – пуды! Одних газет сколько! Ты знаешь, что такое мусорная свалка и кто такой я – Афонька Князев, мусорщик? Свалка – это, брат, шахта, а я ее шахтер. Не согласен?
– А что ж, похоже, грязный-то ты грязный.
– И я тебе скажу, удивление меня берет, кем стал наш брат мужик. Знаешь, что я намедни нашел? Два золотых зуба! Видно, кто-то сделал себе, да с непривычки случайно выбросил.
– Значит, в утильсырье работаешь?
– Оно, конечно, бумагу и всякий лом в утильсырье сдаю. Кому же еще?
– И пять тысяч выходит?
– Тебе дай десять – не пойдешь.
– Не думал.
– Может, деньги одолжить требуется? Могу одолжить. Сколько? Тысячу, две? Знаю, не возьмешь. Но ежели случится нужда – перехватить до получки сотню-другую, – я могу, пожалуйста. Пятерку к сотне прибавишь, и все в порядке. Как земляку – скидка. Другие десять платят.
– Теперь вижу, верно, дело свое у тебя. Оброк с людей имеешь.
– Такое наше утильное дело, – рассмеялся Афонька. – Ты рыбку съел, а мне баночки. Сапоги сносил – мне голенище, газетку почитал и бросил, а я подбираю. Так-то. Мне тут один бывший барин, тоже по мусорной части работает, говорил: цари и императоры приходят и уходят, опять же помещики и буржуи были и нет их – революция пришла, социализм строят, – а утильщики как были, так и остались. Великое сословие. Мы ничем не брезгуем, с совком за вами ходим, метелочкой подметаем. Ну да ладно, что я тут с тобой разболтался. Ты мне не верь. Насчет процентов это я зря наговорил на себя. И про пять тысяч лишку хватил. Скажи, зачем пожаловал?
– Мне Верка твоя нужна, поговорить надо.
– Ночью пьяная пришла, дрыхнет.
– Как же ты такое позволяешь?
– Я над ней не властен. Замужем была, сейчас опять с каким-то мужиком связалась. Иной раз боязно самому: вдруг возьмет и батьку ограбит. Иль такое не бывает?
Игнат приподнял ушанку.
– Раз спит – тревожить не буду. Прощай. – Но задержался.
– Может, чего передать? – спросил Князев.
– Скажи, от Татьяны я приходил. Татьяна велела передать, пусть она по своему делу в театре не хлопочет.
– А какое дело? Не в актрисы ли записаться хочет?
– И без театра, видать, актриса.
Афонька покачал головой.
– И отчего так получается, Игнат? Мы с тобой столковаться не могли, а теперь вот – Татьяна с Веркой.
– Да оттого же! А отчего – думаю, понятно.
Дома Игнат предупредил Татьяну:
– Афонькиной дочке знаешь зачем нужна работа в буфете? Воровать да пьянствовать. Так что, смотри, не схлопочи ее себе на шею.
– Но она придет, я ей обещала.
– Не придет. Предупредил через батьку.
Но именно поэтому Верка Князева и явилась на следующий день в библиотеку. Она подошла к столу, выставила вперед ногу, подбоченилась и, прищурив глаза, крикнула Татьяне:
– Ишь ты какая! Сама пристроилась, сама глиной брезгуешь, а другим нельзя? Ну, погоди! Мы еще с тобой сквитаемся.
Татьяна перегнулась через стол и, схватив Верку за платок, с силой притянула к себе.
– Ты забыла, как я тебя в школе поколотила?
– Пусти!
– Уходи отсюда!
Видимо, это объяснение было не таким тихим, как этого хотелось бы Татьяне, и сразу же после ухода Князевой в библиотеку заглянул Дроботов.
– С кем это вы тут так громко разговаривали? Было слышно даже в фойе.
– Давно не виделась с подругой детства.
– Тогда все ясно. Встреча была бурной и радостной.
– Не столько радостной, сколько бурной.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Раньше Татьяна ни о ком так много не думала, как об отце. Она не знала отца, весьма смутно представляла себе его внешность, но жила неугасимой верой, что они обязательно найдут друг друга, и большего счастья для нее не было. Это счастье пришло, но всего лишь на несколько часов. Отец явился перед ней на лесной поляне у развилки дорог и в ту же ночь ушел в пламень и дым войны. И снова она ждала его. Ждала, пока не кончилась война, ждала еще два года, пока его не демобилизовали из армии. И не было у нее любви большей, чем к отцу. Но когда он наконец вернулся и стал жить под одной с ней крышей, она не то что разочаровалась в нем – нет, а как-то отдалилась от него, словно был он ей дорог лишь неведомый и очень далекий. Может быть, это произошло оттого, что ее дочерние чувства к деду были сильнее, чем к отцу, да и могут ли они возникнуть во всей своей глубине уже у взрослого человека? А может быть, во всем был виноват сам отец – Василий Тарханов? Кем была для него Татьяна, о которой до случайной встречи с ней он не думал? Он не предполагал, что у него есть дочь, и, увидев ее уже четырнадцатилетней девочкой, почувствовал себя отцом скорей по обязанности, чем по сердцу. Татьяна-дочь напоминала ему Татьяну-жену. Но чувство к Татьяне-жене давно прошло, и, возможно, поэтому и не возникло большого отцовского чувства к Татьяне-маленькой. Так или иначе, но между отцом и дочерью установились отношения людей не чужих, но и не очень близких, в этих отношениях было больше терпимости, чем любви. Василий как бы передал свои отцовские права Игнату, и если иной раз и пытался как-то вмешиваться в жизнь Татьяны, ничего из этого не выходило: всякое проявление отцовских прав требует наличия дочерних чувств. Казалось бы, между ними не могло быть и столкновения. Равнодушные обходят друг друга, безразличные не вступают в спор. И все же случилось так, что жизнь столкнула отца и дочь в своих сложных, неразрешенных противоречиях. И это произошло потому, что где-то в глубине их сердец таилась любовь отца к дочери и дочери к отцу.
Василий Тарханов, он же Концевой, работал на комбинате механиком. Рано утром они вместе с отцом шли пешком на работу. Старику Тарханову казалось, что рядом с ним идет его молодость. Василий был такой же рыжий, как и он, широк в плечах, но собой ловчей, не увалень, каким был он, Игнат.
В это зимнее утро Василий сказал отцу:
– Давно я, батя, собирался поговорить с тобой по своему семейному делу, да все откладывал.
– Твое семейное дело известно. Сколько лет, а все холост.
– В моем положении не так просто жениться. Взять бабу ради бабы не хочу, а чтоб по душе да по любви – тут одна заковыка есть. Ты, батя, знаешь, что в Хибинах меня чуть не убили. А спасла меня одна девчурка, Сандой ее звали. Совсем молоденькая тогда была, лет восемнадцати. Увидела: урки в меня и инженера ножи метают, рванула провод и погасила свет. Не она – не уйти бы мне от смерти. А потом она меня, как дите малое, выходила. Я крови потерял неведомо сколько, так она мне свою кровь дала. И каждый день носила передачу. Сама недоест, недопьет, а мне несет. В общем, стали мы жить как муж и жена.
– Ты мне про это в Пухляках ничего не сказал.
– Не хотел бередить.
– Ну ладно, стало быть, зря я тебя холостым считал... Значит, семья у тебя есть.
– И холост – не холост, а без жены и семьи. Я Санду в войну потерял. Сколько ни писал, все письма обратно вернулись. Уехала из Хибин, а куда – неизвестно.
– Не везет тебе, Василий. Дочь нашел, жену потерял. Может, плохо ищешь.
Игнат говорил с усмешкой, но Василий этого не замечал. Думая о своем, он говорил озабоченно:
– Не в том дело, чтобы найти ее. Сама меня нашла. Только есть, батя, тут одна загвоздка. Понимаешь, всем Санда хороша. И собой красива, и характером добрая, и меня, надо думать, любит. Одно плохо. Попала в Хибины не потому, что дочерью кулака была или по чужой вине – так тоже бывало. Часовщикам помогала сбывать золото. А еще вместо золотых подсовывала на толкучках всякие медные цепочки и что-то еще там. Ну, сказать прямо, в Хибинах по этим делам не разгуляешься. Там за человека с такой статьей можно было не бояться. Да и я был тогда другим. В общем, душа за Санду не болела. А сейчас – иное. И я уже не тот. И дочка… Как поладим?
– Трудновато тебе придется, Василий...
– О том и разговор.
Но думали они о разном. Василий о Санде, а старый Игнат о Татьяне. Как-то она встретит мачеху?
Санда появилась в тархановском доме зимним вечером. Василий крепко обнял ее, расцеловал. И долго смотрел ей в лицо, по-прежнему красивое, правда немного располневшее, но молодое и здоровое.
– Не ждал?
– Дочь нашел, отца. И тебя вот...
Она рассмеялась – счастливая, радостная.
– Видишь, как хорошо.
В доме были отец и Лизавета. Василий познакомил их с Сандой, а потом, когда она с дороги умылась и переоделась, сказал:
– Пока к столу собирают, пойдем потолкуем.
Они вышли на улицу, Василий повел ее в дальний конец Раздолья, в поле. Там, у заснеженного оврага, спросил сурово:
– Искала, или бог свел?
– Два года искала. Насилу нашла.
– Рассказывай, как жила.
– Сколько раз писала. Помнишь, адрес прислал.
– Ранило меня.
– Одна осталась. Думала, убили тебя. Ну, вот.
– Что вот?
– И я на фронт пошла.
– А дальше?
– Воевала.
– Понятно, на фронте воюют. А дальше что?
– Когда война кончилась, страшно мне стало.
– Кому на войне было страшно, а тебе после.
– Жить ведь надо было. А как жить? Что я умела? Фармазонить? Ну да еще раненым помогать. В общем, для хорошей мирной жизни ни то ни другое не подходило. Все рассказывать?
– Все.
– Тогда слушай, – с отчаянной решимостью произнесла Санда. – Чуяла: как только демобилизуют, пойду по старой дорожке. Ведь когда человеку трудно, его на легкое так и толкает. Эх, фармазонить так фармазонить. Пропадай, Санда, ни за что! И пропала бы. – Она поглядела на Василия. – Говорить, нет? Один полковник в отставку уходил, сказал: «Хоть я и в годах, но семьи у меня нет, едем со мной». – «А куда?» – «Слыхала такой город – Луга? Гектар земли получим, дом построим, поженимся». И ухватилась как за соломинку. Уж лучше со старым жить, чем воровкой стать. Поехала, а в Луге защемило душу. Жив ты и жив. Надо искать. Вот и нашла.
– Развелась с полковником?
– А мы не были зарегистрированы. Сначала все откладывал, а потом сказал: дети большие, неудобно ему жениться.
– Значит, просто взяла и ушла?
Санда почему-то испуганно взглянула на Василия, потом слабо улыбнулась.
– Ну да, взяла и ушла. Я ведь у него вроде домработницы была. – И тихо добавила: – Вот и все. Не любила бы – не пришла. Если примешь, смотри не попрекай. Прошлого моего теперь не побоишься?
– Так фармазонству конец? И все забыто?
– Никогда больше не буду.
– И как из Хибин уехала, ни разу по старому делу не выходила?
– Был один грех.
– Попалась?
– Обошлось.
– Тянет, значит?
– Нет.
– Врешь! – Василий замахнулся.
Санда побледнела.
– Бей, ну, бей! Что ж ты испугался?
– Я не из пугливых, а ежели что замечу – убью.
Дома, когда Санда вышла за чем-то в сени, Василий сказал отцу:
– Теперь и я с семьей.
– По тебе ли, сынок, бабенка?
– Поживем – увидим.
– Ты сначала приглядись, а потом живи.
– Пока у нас в доме, она вам дочь.
– Трудненько бывает с иной дочкой.
– Что легко, то дешево стоит.
И с тревогой подумал о Татьяне. Как она примет Санду? Зря скрывал, что сошелся в Хибинах с другой. Девка взрослая, все бы поняла и приняла Санду как жену отца, если не с любовью, то с уважением. А для Татьяны приезд Санды, казалось, все разрешил. Теперь ясно – может быть, в первое время отец не искал их потому, что действительно боялся выдать. Но потом они стали ему просто не нужны. Все, что казалось таким сложным, было совсем не сложным. Он столько лет не мог их найти потому, что не искал. И если нашел, то ведь только тогда, когда потерял Санду. Да, все ясно. Отец бросил их, и этого не скрыть ни ссылкой, ни годами войны.
Они сидели за столом, и Татьяна видела, как внимателен дед к Санде. Зовет Сандушкой, дочкой. Татьяна негодовала. Неужели дед слеп, не понимает того, что так очевидно? Противно его слушать. И чем внимательнее к Санде был Игнат, тем подчеркнуто пренебрежительнее относилась к ней Татьяна, Впервые за последние годы, с той поры, как отец вернулся домой, она почувствовала, что он ей дорог. И она не хотела отдавать его никакой другой женщине, а тем более этой красивой, надменной, с огромным черепаховым гребнем в волосах.
– Таня, мне бы хотелось быть тебе другом, – сказала Санда.
Татьяна не ответила. Молча поднялась и вышла из дома.
Вдоль улицы мела поземка. Она слепила глаза, обжигала лицо. В расстегнутом пальто, забыв завязать платок, Татьяна шла против ветра и в темноте зимнего вечера была похожа на птицу, тщетно пытающуюся оторваться от земли. В ней боролись два чувства к отцу: жалость и неприязнь. Но ей и самой стало одиноко, она убеждала себя, что ей теперь безразлично, как дальше пойдет жизнь в их доме. Нет, этот дом уже не ее. А ее – там, где театр, в маленькой библиотеке. И там она будет с утра до вечера, а в Раздолье только ночевать. Пусть будет мучиться дед, она ведь мучится... Пусть!
Неожиданно из темноты в полосу света от фонаря кто-то вошел и преградил ей дорогу. Она подняла голову и отступила.
– Сергей, вы? – Ее голос прерывался, вся она вздрагивала. Как хорошо, что это он. Это очень хорошо!
– Что случилось? И куда вы?
– Если бы вы знали, как вовремя я вас встретила.
– Но что с вами, Таня? – взволнованно спросил Сергей.
– Я думала, у меня есть отец... У меня нет отца... Какой же он отец?
Татьяна рассказывала. И чем печальнее был ее рассказ, тем спокойнее становилась она. Где-то в глубине души она понимала – тягостное ощущение одиночества исчезло, как только она увидела Сергея. Татьяна улыбнулась сквозь слезы.
– Вы знаете, я скучала без вас.
Они шли по улице, и теперь он рассказывал ей о себе. Если бы Таня знала, как ему повезло! Он попал в группу, которая выполняла особое задание министерства. Был назначен заместителем начальника группы. Впрочем, это неважно. Важно, что работа уже принята. И конечно, ее неплохо оценят. Поэтому он прямо из Архангельска послал заявление в аспирантуру. Оснований у него более чем достаточно.
Татьяна плохо слышала Сергея. Мешал ветер, бросая в лицо снег. Она пряталась за надежным плечом Сергея, опираясь на его крепкую руку, уже не думала о своих горестях. От одного этого ей было хорошо. Они вернулись к тому месту, где встретились. Окраина города, дорога, ведущая на Раздолье, само Раздолье с его огнями – все было скрыто за сплошной белой пеленой.
– Не боитесь? – спросила она лукаво. – Обратно одному идти!
– Когда пробьешься сквозь метель, знаете, как чувствуешь себя? Сильным и храбрым.
Они посмеялись над непогодой. Ветер! Ну и пусть метет. Что бы ни сказал один, другой принимал это с радостью. Самым важным было то, что они шли рядом и каждый про себя таил что-то свое, волнующее, невысказанное, да и самим еще непонятное.
На пустыре перед Раздольем снег налетел вихрем, колол лицо, обжигал шею. И ветер стал вдруг тугой, плотный, сбивающий с ног. Татьяна шла низко согнувшись, поворачиваясь к ветру спиной и крепко держась за Сергея. Она с трудом дышала, прикрыв рот рукавичкой, чтобы не задохнуться. Сергей крикнул ей:
– Закройте глаза. Так легче будет идти.
И тотчас налетел такой метельный шквал, что сам он повернулся спиной к ветру, и Татьяна невольно прижалась головой к его груди. Метель, казалось, замерла и куда-то исчезла, не было ни силы, ни желания шелохнуться. Так они стояли недвижимые, пока свет фар какого-то грузовика не выхватил из темноты их заснеженные фигуры.
Дома она переоделась и долго сушила волосы перед рефлектором. Потом упала на кровать, и на мгновение ей почудилось, что вокруг нее снова закружилась метель. И даже не вспомнила, что рядом за стеной спит ненавистная Санда.








