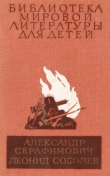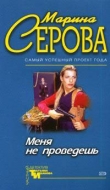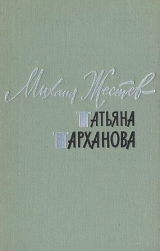
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
– А этот кто будет?
– Ильина Маша, – ответила ему нянька.
– А это кто?
– Ильин Володя.
– Да у вас, никак, все Ильины, – удивился Тарханов.
– Все не все, но пятеро с краю все Ильины.
– От одной матери?
– Все бесфамильные и поступили в изолятор, когда дежурила Ильина, сестра медицинская наша. А вам кого?
– А где же тут Тарханова? Татьяна Тарханова?
– Твоя?
– Внучка.
– Сам найди. Попробуй.
– Разве их разберешь!
– А я вот сразу угадала, к кому ты. Есть что-то от деда в ней. Иди-ка, смотри.
Игнат подошел к завернутому в одеяло маленькому существу. Так вот она какая, Татьяна Тарханова. Девочка спала, слегка приоткрыв рот, и даже спящая была похожа если не на деда, то на отца безусловно. В ней уже было что-то тархановское. Игнату даже показалось, что она улыбнулась ему. Он понимал, что эта улыбка никак не связана с его приходом, но ему в его одиночестве она была великой поддержкой. Она как бы возвращала его к жизни. Еще будет у него и радость и счастье, если есть на свете хоть одно родное ему существо.
Игнат вернулся в Дом крестьянина. Он уже не чувствовал себя таким одиноким, он уже мог думать о себе и твердо решил с утра явиться на строительство. Но прежде надо продать Находку. И продать немедля. Кобыла с тела сдает, вот-вот кожа ребра обтянет. И продать надо в верные руки. Чтобы холили, кормили, работой не изнуряли. Ну, да если человек деньги заплатит – зачем ему губить коня? А вдруг живодер купит – как его узнаешь? Проще простого. Ему подай упитанность. Разве живодер будет резвость смотреть, сколько кобыле лет, не была ли опоена? Скажи ему – жереба лошадь, сразу цену скостит... Тарханов поднялся. Что же – надо идти на базар, покупателя искать. Так-то, милая, скоро распростимся навсегда! И в эту минуту пришла ему мысль, от которой захолодало сердце: «Стой, Игнат, да ты, никак, хочешь стать конокрадом? Увел колхозную лошадь и думаешь, как бы сбыть ее с рук». Он пытался успокоить себя: «Ну какой же я конокрад, когда Находка моя лошадь? Купил годовалым жеребенком, выкормил. Так почему же не вправе продать свою-то лошадь?» И снова сомнения: а своя ли? Была своя. А теперь... Значит, верно получается – конокрадство. Игната охватило замешательство. И при себе держать лошадь он не может, и продать нельзя. А не сдать ли ее в милицию? Сдать можно! Только заодно и сам сдавайся. Но все равно, как-то надо было освободиться от Находки. И после некоторого раздумья Тарханов снова запряг ее в сани и погнал за город, к виднеющейся на холме деревне Коегощи.
Миновав околицу, Игнат остановился у избы, перед которой рядами, словно напоказ, стояли недавно отремонтированные плуги. Привязал к изгороди лошадь, вошел в горницу, полную народа, и громко спросил:
– А кто тут будет хозяином?
– Я председатель, – сказал моложавый мужик в черном пальто и мягкой каракулевой шапке. – А в чем дело?
– Выдь, посмотри, это не вашу лошадь я с большака привел? В упряжке, а при ней никого.
Игнат и председатель колхоза вышли на улицу.
– Ваша? – спросил Игнат.
– Нет.
– Не вашего, так другого колхоза. Так что принимай в свое хозяйство.
– Может, и сам вступишь? – спросил председатель. – Нам люди нужны.
– Я с мстинского огнеупорного. Я рабочий класс.
– И я рабочий класс. Да вот партия послала, стал крестьянским классом. Видишь, какое перемещение.
– И ничего?
– Прилаживаюсь!
– Мне обратно не приклеиться.
– Все-таки нас не забывай. Будет нужда – приходи в колхоз. Твоя фамилия-то как?
– Мне расписка за лошадь не требуется.
– Как хочешь. А все равно теперь знакомые. Ты, так сказать, ведущий рабочий класс. А я идущее за тобой крестьянство.
Тарханов принял шутку без обиды. И вообще, как будто ничего председатель. У такого Находку не заездят. Впервые за эти тяжелые дни он вздохнул с облегчением. Теперь совсем развязался с Пухляками. И снова подумал о внучке. Подумал и сам себя успокоил: «А что внучка? Чего о ней беспокоиться? Сдана на руки государству. Пусть растет на здоровье!»
Вечерело, когда Игнат вышел из деревни на большак. Вскоре он нагнал закутанную в платок женщину. Она тянула поставленный на полозья набитый навозом большой деревянный ящик. Худенькая, невысокого роста, она припадала на ухабах чуть ли не к самой земле. Со стороны казалось, что вся она старается как можно меньше занимать места, быть совсем неприметной, слиться с дорогой, словно груз, который она тянула за собой, был не самым обыкновенным навозом, а похищенным несметным кладом. Игнат подумал: «Как получается – одним коней девать некуда, на конину продают, а другие на себе навоз таскают?» И еще подумал не без сочувствия: «Наверное, огородик имеет, а вот чтобы унавозить его, коровушки нет». Женщина казалась обездоленной, достойной участия. Он забрал у нее веревку и потащил сани. А женщина пошла рядом и с завистью смотрела, как он легко ступает по дороге и как умело и ровно тянет громоздкий воз.
– Эдакие у иных баб есть помощники.
– Это про меня?
– Про жинку твою.
– А вы ей не завидуйте, – хмуро ответил Тарханов. – Больше года как умерла.
– Какую ни на есть, а семью имеете.
– Семья есть, да сам как перст.
– Это как же так?
– Сын на север уехал, невестка померла, а внучку пришлось государству на воспитание отдать.
Женщина остановилась, взглянула на Игната, словно хотела лучше разглядеть его в неясном свете зимних сумерек, и тихо спросила:
– Деревенский?
– Был.
– Мы, деревенские, и в городе не пропадем.
Они вышли на окраину Глинска и свернули в маленькую кривую улочку. Наконец она остановилась около одноэтажного деревянного дома и сказала:
– Вот и приехали.
– Ваш? – спросил Игнат.
– Мой за огородом. Может, зайдете?
Она втащила во двор сани с навозом, оставила их у палисадника и повела Игната на огород, на краю которого виднелось что-то похожее на большой снежный сугроб.
– Где же дом? – спросил Тарханов, остановившись перед сугробом.
Дальше идти было некуда. И только тут он заметил, что сугроб и есть дом. Он походил на низенькую баньку и был сбит из березовых метровых поленьев. Игнат замялся у закрытой двери. Куда он идет, что ему тут делать? И все же он вошел в темные сени, а из сеней в горницу, пахнущую свежим хлебом, жареным мясом и какой-то приятной домовитой теплотой. Еще хозяйка на ощупь доставала откуда-то с полки спички, а он уже знал, что в доме чисто, все прибрано и на полу разостланы домотканые половики. И он не ошибся. При ярком свете зажженной лампы он увидел оклеенную обоями комнату, у стены широкую, застеленную ватным одеялом кровать, в одном углу поблескивающий медью самовар, а в другом, напротив, граммофон с большой красной трубой. Давно Игнат не ощущал вокруг себя такой успокаивающей, располагающей к отдыху обстановки. Ему захотелось побыть здесь как можно дольше. Он закрыл глаза и представил себе, что он никуда не уезжал из родного дома. Он у себя в горнице, а за ситцевой занавеской снимает валенки не какая-то незнакомая женщина, а Татьяна. И он сейчас услышит, как бывало, ее певучий голос: «Батя, погодите немного, я самоварчик поставлю». И так случилось, что он услышал что-то очень похожее. Женщина сказала:
– Вы погодите, я сейчас самовар разогрею. Звать-то вас как?
– Игнатом.
– А меня Лизаветой.
Только в доме, при яркой керосиновой лампе, Тарханов хорошо разглядел Лизавету. Маленькая и, пожалуй, еще более худенькая, чем казалась, когда он встретил ее на дороге, – она уже не вызывала к себе чувства жалости. Всем своим видом гостеприимной хозяйки Лизавета старалась показать, что женщина она самостоятельная, ни от кого не зависящая, и вот сейчас, ничуть не смущаясь, пригласила к себе незнакомого человека, не боится его и говорит с ним как со старым знакомым. Она была просто неузнаваема. Тепло и уют дома сняли с ее лица усталость, оживили ее черные небольшие глаза, распрямили спину. Здесь, под крышей дома, был какой-то ее особый мир, где она не чувствовала себя маленькой, где все было ею заполнено и где она безраздельно надо всем властвовала. Даже самый воздух был особый, принадлежащий только ей, наполненный запахом укропа и смородинного листа. И этот запах, пусть отличный от запаха полей и лугов, напомнил Игнату Пухляки, покинутый дом, потерянных близких людей и сразу сроднил его с Лизаветой. И теперь все, что имело к ней какое-либо отношение, вызывало его симпатию: чистота, порядок в доме, ее хозяйственность и даже внешний вид хоть маленькой и несильной, но ладно скроенной женщины. И чего только она не выращивала у себя на огородике, чего только она не снимала – и картошку, и капусту, и огурцы мешками, и какие-то там салаты, сельдереи, петрушку. И землянику растит, и свой парник имеет. Господи, и такая женщина живет одна. Да ведь это клад-человек. А когда она рассказала ему, что ее муж умер в тюрьме, а занимался он торговлишкой, и что тяжела ее вдовья доля, он искренне был опечален, что нелегко приходится такой хорошей женщине. Видимо, и он ей тоже понравился. Понравился тем, что помог довезти тяжелые санки – значит, душевный человек. И отказался выпить рюмочку, когда она поставила графин с водкой на стол. Не то чтобы он был непьющий, нет, а из уважения к ней. И это она поняла. Но, может быть, пора и честь знать? Женщина за день намаялась, устала. Да и поздно. И ему пора отдохнуть. Завтра с утра на работу. А уходить не хочется. Так бы сидел и сидел. То говорил, то слушал бы. Наконец Игнат поднялся. Надел полушубок, нахлобучил шапку и стал прощаться. Она вышла за ним в сени. Он остановился в дверях и нерешительно спросил:
– А может, не уходить?
Она не ответила и молча пошла в дом. Но дверь за собой не прикрыла.
Игнат так же молча вошел за ней. Вошел, не уверенный ни в себе, ни в своей неотразимой мужицкой силе. Он был растерян, бесприютен и у этой маленькой женщины искал защиты от всех своих житейских невзгод. Кто знает, может быть она его обласкает, поддержит, спасет. Его, бесправного человека, беглеца.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Еще в те годы, когда Игнат занимался зимним извозом и доставлял на завод глину, ему хотелось посмотреть, как работают помольные мельницы, как прессуют кирпичи и ведут огонь в огромных обжигательных печах. Но склад сырья помещался на задворках завода, его отделяли от наполненных гулом цехов каменные стены, и Игнату так и не пришлось увидеть, как мягкая голубоватая глина превращается в замысловатый, разных форм кирпич, который не боится расплавленного кипящего металла. Там, за каменными стенами, был мир таинственных превращений, непонятных стихий и какого-то особого могучего человеческого разума, выдумавшего самые удивительные машины. И все это хотелось увидеть Игнату не потому, что он чувствовал в этом какую-то для себя необходимость, а так, из любопытства, чтобы потом у себя в Пухляках похвастать: «Ах, язви твою душу, мельница-то там какая! За час всю пухляковскую рожь перемелет!»
И вот он вошел в этот загадочный, неведомый ему мир, но не из любопытства, а по необходимости, не для того, чтобы потом похвастаться увиденным чудом, а ради хлеба насущного, чтобы жить и спастись от ссылки в Хибины. Стояла ранняя весна, земля была еще промерзшая, и всех нанятых землекопов бросили на подготовку строительной площадки, разгрузку леса и очистку цехов. Игнат вместе с другими вывозил на тачках накопившийся за зиму в цехах мусор, керамический бой и всякую заваль. Он катил груженую тачку сквозь шум, жару и пыль цехов. Из шамотного и формовочного, из прессовой и обжига. Мимо перемалывающих глину шаровых мельниц, прессов, выдавливающих влажные продолговатые кирпичи, мимо пробоин в печных стенах, через которые выгружали обожженный огнеупор, – туда, на пустырь, где раньше был склад глины. Теперь ее доставляли на завод в люльках подвесной дороги.
Тарханов толкал тяжелую тачку и уже знал, где надо объехать отпрессованные изделия, где во дворе завода переждать вереницу вагонеток, как за воротами сделать на ходу крен, чтобы тачка сама опрокинулась у края глубокой ямы. Надо было остерегаться маневрового паровоза, лихо прокатить по деревянному настилу переезда и озорно крикнуть зазевавшемуся у обжигательной печи грузчику: «Эй, поберегись!» Каждый шаг пути был маленьким открытием, обогащающим опытом, придающим каталю чувство, что он не тягло, а разумная сила, от которой требуется не только крепкая спина и сильные руки, но и думающая, изобретательная голова. И это ощущение вызывало у Игната почти такую же радость, какую он ощущал не раз в Пухляках, когда ему удавалось вдруг заметить, что пророщенная картошка быстрее растет, чем непророщенная, и что если хочешь есть огурец в июле, то надо обязательно посадить рассаду на гребне. Даже такая простая работа, как работа каталя, вдруг оказалась полна разнообразного интереса и неожиданных возможностей. Как-то вечером, ложась спать, Игнат подумал о том, что дорога к пустырю выбрана непродуманно, что путь в объезд котельной и прессовой хоть и будет подлинней, но даст возможность избегнуть двух переездов. На следующий день он предложил перестлать мостки и был горд, когда его поддержали другие катали. Он теперь стал рабочим, но всеми помыслами тянулся, как прежде, к земле. Чем дальше она была от него, чем труднее было ему приложить к ней руки, тем сильнее он ощущал ее. Еще в марте, когда неожиданная оттепель смыла снега, а потом ударили морозы и снова вперемежку то становилось тепло, то по-зимнему холодно, он с тревогой просыпался по утрам и жаловался Лизавете, что этак у озими может все корни порвать. Он не мог не думать об урожае, хотя ему не надо было ни сеять, ни убирать. И недружная весна того года, то с солнцем, то с неожиданными северными ветрами, вызывала у него беспокойство. Неожиданно остановив посреди двора свою тачку, он смотрел на небо, на низкие рваные облака в надежде вдруг увидеть голубые прогалины – эти первые приметы близкого тепла. Однажды воскресным утром Игнат вышел на огород и увидел, что прошлогодние гряды сверху слегка подсохли и словно посыпаны пеплом. Пора пахать! Лизавета вынесла из кладовки две лопаты. Нет, надо нанять цыгана. И когда приехал со своей лошадью нанятый Лизаветой цыган, Игнат велел угостить его чаем, а сам встал за плуг. Он проложил первую борозду, повернул обратно, и так велика была его тоска по земле, что на мгновение перед его глазами возникла речная низина Мсты, за низиной Пухляки, а дальше – его холмистое поле, но теперь почему-то бескрайнее, не знающее меж и перекатывающее свои гребни до самого горизонта. Вот так земля! Бывало, шагами мерил, а теперь глазом не окинешь. А он-то думал, ничто уже не связывает его с Пухляками. Как же ничто, когда там осталась земля? И неужели никогда он уже не вернется к ней? Нет, он еще вернется! Ведь в Пухляках у него остался дом! Да что дом – душа осталась. Выходит – сам он в Глинске, а душа в Пухляках. Руки тачку катают, а душа землю пашет. Эх, Пухляки, Пухляки! Привиделись, приманили и оставили одного на бездорожье. Выпутывайся, живи как разумеешь! И почувствовал злость. И на землю и на Пухляки. А что же – и проживет как разумеет. И выпутается.
Он не мог жить без природы, потому что она была частью его. Всю жизнь он воевал с ней и шел на всякие хитрости, чтобы умилостивить ее. Она все же в конечном счете была для него божеством. Всевышним и неумолимым. То жестоким, не внемлющим его мольбе, то добрым, одаряющим его своими плодами. И глина, голубоватая, с синеватыми прожилками, была для него тоже природой. Но бесплодной, зряшной, которая ничего не родила и лежала мертвым подстилом под живой теплой землей. Эта часть природы тут, на заводе, называлась просто сырьем. И хоть здесь, на заводе, не было власти природы над людьми – шел ли дождь или светило солнце, падали на крыши утренние заморозки или земля парила и подымалась на ней зеленая поросль, жизнь на заводе шла своим чередом: из обжигательных печей выходило столько огнеупора, сколько необходимо было людям, – а все же он думал: жизнь обернется, как земля прикажет.
Он работал в бригаде каталей, среди которых были выходцы из разных мест: новгородские, псковские, вологодские – кто ушел из деревни навсегда, кто в поисках временного заработка; были тут и городские, почему-то предпочитавшие машине и станку тяжелую, неуклюжую тачку. Но были и такие, о которых Игнат никак не мог сказать, кто они: деревенские или городские. Иногда ему казалось, что они деревенские: последними словами ругают колхозы – и то плохо, и то нехорошо. Но эти же люди не разбирались в земле, им она совсем была не дорога, и говорить о ней с пониманием они не умели. Была в них большая городская ловкость, пронырливость, осведомленность. Они все знали, где чем торгуют, что произошло в городе, и одеты они были по-городскому – в широких брюках, пиджаках с приподнятыми ватными плечами, в суконных, сдернутых назад кепках. И в то же время город они тоже не любили. Жили кое-как, где-то по углам, в общежитиях, не думая о завтрашнем дне. Среди этих – ни городских, ни деревенских – трое особенно были неприятны Игнату. Они всегда держались особняком, перекидывались между собой какими-то как будто русскими и все же непонятными словами, и никто не смел сказать им, что они пропускают ездки, хотя получают из котла равную всем долю. Игнат не знал, кто в этой тройке верховодит, но ему казался главным тот, которого звали Егором Банщиковым, – человек лет тридцати пяти, сухощавый, как будто не очень-то могутный, но ловкий, цепкий, с затаенной жесткостью в тусклых, бесцветных глазах.
Весенними сумерками, когда Игнат выходил из проходной, к нему подошел этот самый Егор Банщиков и как будто между прочим сказал:
– А получка была неплохая. По триста на брата. Вот баба твоя обрадуется.
– На деньги все охочи.
– Иным они дороже дружков.
– У меня дружков нет, – поняв намек, равнодушно ответил Игнат.
– Значит, артель наша тебе так, ничто? Плюнул и растер?
Игнат остановился и сверху вниз посмотрел на Банщикова.
– Тебе куда, Егор?
– Одна дорога в город – через мост.
– А мне вот в проулочек. – И, не прощаясь, Игнат зашагал в темень вечера.
– Стой! – Егор догнал его в переулке и преградил дорогу. – Договоримся, чтобы без шухера. Так вот, ежели с получки не будешь полсотни давать – пеняй на себя! У меня разговор короткий.
– И у меня не длинней. Я у тебя не брал и тебе не должен.
– Поговори еще! Выкладывай полсотни.
– Сполна?
– Сполна!
– Так получай! – И Тарханов ударил наотмашь. Ударил, и вдруг ему почудилось, что он уже где-то видел это искаженное от боли, с редкими крупными зубами лицо. И прежде чем Игнат успел повернуться и пойти своей дорогой, Банщиков поднялся и жалко улыбнулся.
– Постой, Игнат Федорович. Ты насчет полсотни всерьез не принимай. Я силу и храбрость твою хотел испытать.
– Хватит или еще спробуешь?
– Иди к нам.
– Людей грабить, оброк собирать?
– На тачке тоже не разбогатеешь. А будь у меня твоя биография, я бы такие дела завернул...
– Значит, за мою биографию хочешь спрятаться?
– Друг мне нужен.
– А мы и так старые друзья. Или забыл, как однова тебя стукнул? Но больше, смотри, не попадайся. Живым не уйдешь. – И, оттолкнув растерявшегося Банщикова, продолжал свой путь, задав ему загадку, где и когда его бил этот бородач. А бивали его и в тюрьме, где он не раз сидел, и на воле, куда его отпускали после каждой амнистии. А не попало ли ему на сей раз от того самого мужика, которого он неудачно пытался ограбить на большой дороге под Глинском? Но твердо он в этом не был уверен.
На следующий день по дороге на завод Игнат встретил Чухарева и рассказал ему о вымогательстве Банщикова.
– Да, трудное твое положение.
– Что, я им обязан? – возмутился Игнат.
– Их ведь шайка, вот в чем беда.
– А ты начальство!
– Одного приструнишь, а его дружок встретит в темной улице и нож в бок.
– Стало быть, оброк им вноси?
– Тебе, Игнат Федорович, виднее. Полста рублей деньги не малые, но и голове не грош цена.
Игнат понимал, что с Банщиковым и его дружками есть один верный способ борьбы. Пойти заявить на них начальству повыше, чем Чухарев, или прямо в милицию. Но рискнуть на это он не мог. Пока будут выяснять, что за банда пролезла на завод, его самого выявят. Ага – вот он, раскулаченный беглец! Нет уж, от Банщикова придется самому отбиваться. Два раза его одолел и в третий раз найдет, куда вдарить. Только надо поглядывать, чтобы нож в спину не воткнули.
На заводском дворе у забора стояли тачки катальщиков. Игнат взял свою тачку и вдруг заметил, что у нее отбито колесо. Неподалеку в ожидании гудка сидел Егор и его дружки. Егор с притворным сочувствием сказал:
– Скажи пожалуйста, человеку работать надо, а тачка сломана. Как же это ты, Игнат, с вечера не заметил?
Игнат смолчал. Он рассматривал колесо и думал: так вот с чего война начинается. Работать не дают. Ну, ничего. Сегодня он тачку починит, а в следующий раз придет за час до гудка. И в это время услыхал, как его окликнули. Он обернулся. К нему шел Чухарев.
– Игнат Федорович, тебе на строительство в бригаду землекопов.
– От беды подальше? – тихо спросил Игнат.
– Начинаем котлован.
– Ну что ж, в землекопы так в землекопы. – И посмотрел в сторону Банщикова. – Так что придется самим починить, что сломали. До свиданьица!
– Еще свидимся!
– Коль охота, отчего не свидеться.
Каждый вечер после работы Игнат возвращался в маленькую хибарку, где его ждала Лизавета. Он уже не переживал смерть невестки, и если не смирился с бесследным исчезновением сына, то, во всяком случае, уговорил себя, что Василий, конечно, жив и, придет время, они найдут друг друга. Это самоувещевание было нужно Игнату, чтобы как-то забыть прошлое и жить тем, что принесла с собой Лизавета. Жить ее домом, добротой, которая, может быть, была ему нужней, чем ее любовь. Но чем сильнее он привязывался к Лизавете, тем все чаще и чаще возвращался к мыслям об оставленной в Доме малютки Танюшке. Если раньше, в первые дни после рождения Татьяны, его связывало с ней лишь ощущение своей вины, то теперь существование внучки заставило его подумать о новом доме, о жизни настоящей семьей. Он понимал, что семья – это не только теплый бок Лизаветы, которая, чего доброго, еще может прогнать его из своей халупы. Ведь прогнала она сборщика базарного налога, какого-то Петьку Урыгина, чью фотографию Игнат случайно обнаружил в старом потрепанном Евангелии, и как раз на том месте, где говорилось об отпущении грехов великой блуднице. Правда, он еще скрывал свои мысли о Танюшке. Но в его представлении Лизавета и Танюшка были неотделимы.
Жилось ему у Лизаветы хорошо. Казалось, что никто его уже не ищет. И все же боязнь за свою судьбу вновь вспыхнула с неожиданной силой. Во всем ему чудилась опасность, все вызывало подозрения. Ночью он просыпался от стука огородной калитки – не за ним ли? Днем переходил на другую сторону улицы, если видел, что навстречу идет милиционер. Даже на строительстве он все время был настороже. Его вызывает прораб – не пришла ли беда? Этот страх был порожден благополучием, которое обрел он в Глинске.
Одно дело расстаться с койкой в Доме крестьянина, другое – с уютным жильем Лизаветы. На смену одиночеству пришло что-то похожее на семью, пришла любовь женщины, пришла работа, спокойная, дающая деньги и не вызывающая, как земля, ни тревоги, ни опасений. Не сами по себе Хибины, а одна мысль потерять все, что к нему пришло в Глинске, породила страх за свою судьбу. И этот страх отравлял все и вызывал зависть к людям, которые пришли на строительство ясной, прямой дорогой – по вербовке.
Игнат работал землекопом. Впереди он уже видел себя каменщиком. Но до этого ему неожиданно пришлось испытать себя в качестве вербовщика рабочей силы. Однажды утром, когда Игнат отрывал угол котлована, к нему спустился Чухарев. В рубашке с засученными рукавами, в соломенной шляпе, надвинутой на глаза, он присел на тачку и тяжело вздохнул.
– Выручай, Игнат Федорович!
– Что за беда? – спросил настороженно Тарханов.
– Выгнать меня хотят. Не обеспечиваю комбинат кадрами.
– Тут чем я тебе помощник? – пожал плечами Тарханов. – Я, кроме своего котлована да лопаты, ничего не знаю.
– Любите вы, мужики, прибедняться, – сказал Чухарев, внимательно разглядывая Тарханова. – Отчего это так? Думаешь, лежачего не бьют, бедненького жалеют?
– Я с выработки получаю. Сам себя бью, сам себя жалею.
– И еще есть у вас, мужиков, одна манера. Что бы ни сказать, а чтобы последнее слово твое было. Так вот, Игнат Федорович, видишь, опять не хватает у нас рабочей силы.
– Понагнали столько, и не хватает? – удивился Игнат.
– Не хватает.
– Друг дружке больше мешают.
– Текучесть! Сто приходит, сто уходит.
– Я пришел и не ухожу.
– Потому и хочу попросить тебя пойти на вербовку. Ты людей деревенских хорошо знаешь. Знаешь, чем заманить, что посулить. Да и не один ты будешь вербовать.
– Никуда я из котлована не пойду, – решительно отказался Игнат.
– Котлован за тобой, – поспешил сказать Чухарев. – Но разве трудно после работы заглянуть в Дом крестьянина, на станцию, на лесную биржу? Там много всякого народу. Так ты с ним по-своему, как мужик с мужиком поговори. Люди требуются не на месяц, не на год, а чтобы комбинат построить и работать на нем. И потом учти, дело это общественное, важное. Что о тебе начальство подумает, ежели откажешься?
Игнат согласился и стал чем-то вроде нештатного вербовщика. Каждый день после работы он возвращался домой, переодевался и шел по маршруту, который посоветовал ему Чухарев. Станция, Дом крестьянина, лесная биржа. К этим местам он еще добавил столовую на берегу Мсты. Случалось, за три дня ему не удавалось завербовать ни одного человека, а бывало, за день с его квитками приходило на стройку по десятку человек. Игнат не мог не видеть, как все больше и больше вчерашних мужиков узнавали дорогу к заводской проходной, словно Глинск превратился в огромную, заполненную мужиками деревню. Одни, как и он, не ужились в колхозе и шли в город как могли, а другие приезжали организованно, по коллективной вербовке. Тех, что приезжали по вербовке, нетрудно было узнать. Преимущественно молодые парни, они не разбредались одиночками по улицам города, а выйдя из вагонов, выстраивались и шли с вокзала прямо на комбинат. Конечно, среди вербованных тоже были свои беглецы из деревни, но немало было и таких, которых земляки послали строить пятилетку. Эти, как правило, размещались в общежитиях комбината, они были устойчивей и не столь уж склонны к перемещениям с работы на работу, из одного города в другой. Что касается приехавших в Глинск самостоятельно, в поисках счастья, доли или убежища, то они ютились по частным квартирам, у знакомых и родичей, валялись на вокзальных диванах, устилали собой пристанционный сквер и заполняли поставленные впритык койки в смрадных от табачного дыма комнатах Дома крестьянина. Где только этих мужиков не было! Они шумели за влажными, плохо вытертыми столиками столовой, разжигали костры на берегу Мсты, штурмовали поезда, не зная, куда лучше податься, где легче заработать деньгу – на комбинате, в сплавной конторе или на Мурмане, где ловят треску в Баренцевом море-океане. По реке жизни шел невиданный людской сплав. Могучий в своем напоре, упрямый на заломах, оставляющий за собой бессильный, идущий ко дну топляк.
Нашествие деревни Глинск почувствовал самым неожиданным образом. Пришельцы селились где-то на окраинах города и не стучались еще в коммунальные дома. Далеко не у всех были карточки и пропуска, чтобы хлынуть в магазины и закрытые рабочие кооперативы. И в кино житель деревни если и ходил, то очень редко – тогда он больше думал о хлебе, чем о зрелищах. Самым уязвимым местом города оказалась баня. Баня не требовала пропусков. Там, перед кассой, было всеобщее неограниченное равенство города и деревни. Но нигде так не совпадал общий обычай города и деревни: мыться в бане по субботам, а точнее – в субботний вечер. И баня стала сложнейшей проблемой бытия. Помыться – это значило стоять в бесчисленных очередях! За билетом, в раздевалке за номерком, за тазом, к скамье, у кранов. Именно тогда в бане были упразднены мужское и женское отделения. Вместо них введены специальные дни – мужские и женские. И суббота была отдана мужчинам. Именно тогда литература обогатилась бесчисленными сатирическими рассказами и фельетонами на банные сюжеты. И сколько председателей горсоветов и заведующих откомхозами пали жертвой банной проблемы, пока она не была решена!
А деревня все прибывала и прибывала. Она подходила к жизни города со своей мужицкой меркой и мужицкими представлениями, приноравливаясь к ней, стараясь подчинить ее себе. И в этом стремлении завладеть благами жизни шла работать на строительство комбината, в лес или на сплав, уезжала дальше из Глинска, а нередко хваталась за нож или взламывала железные жалюзи магазинов. Тогда ее представители попадали в глинскую тюрьму, расположенную на крутобережье Мсты, за высоким забором, мимо которого через пороги и перекаты несутся отдавшиеся течению плоты и гонки.
Мир необыкновенно раздвинулся перед Игнатом. Еще никогда он не видел столько самых различных людей, которые, как и он, совсем недавно жили в деревне. В Пухляках он каждого знал. Еремей Ефремов, Афонька Князев, Филипп Крутоярский, Тарас Потанин. Богатые и победнее, умные и глупые, честные и с обманцем – все они блюли свой интерес, казались ему всегда неизменными и в общем-то мало отличались друг от друга, потому что разнились не столько сами по себе, сколько упитанностью коней, унавоженной землей, скирдами хлеба. Сейчас в столовке или в Доме крестьянина, на вокзале или у пристанских отмелей Мсты Игнат не узнавал тех же мужиков. Они как бы заново рождались на его глазах и прежнюю, такую знакомую для него деревню делали не то что чужой, а скорей до удивления неузнаваемой. Как неровно удобренное поле, она рождала хлеб и сорную траву, подымала прошлогоднюю осыпь и заново посеянное зерно. Он ощущал время по людям, по их чувствам, по глазам – светилась ли в них радость или таился страх. И часто по ночам не удавалось ему сомкнуть глаза. Он видел перед собой мечтателей, которые приезжали в Глинск, чтобы узнать, как скорее построить новую деревню, с тракторами, детскими садами, с клубом и обязательно с электричеством, и рядом с ними, за одним столом жадно тянули пиво те, кто заколотил свой дом, бросил все в деревне, не приняв душой ни ее яви, ни ее мечты. На глинском вокзале он встретил мужика, который решил стать ученым и пробирался куда-то на Тамбовщину к самому Мичурину. А другой, такой же мужик, проповедовал: «Человеку дана одна книга – Евангелие! От прочего отвергни очи свои!» Порой Игнату казалось, что на него снизошел дар насквозь видеть людей, понимать их скрытые от других мысли и открывать их тайные, никем не разгаданные чувства. Та самая новая жизнь, во имя которой его выгнали из Пухляков, рождала одновременно и тех, кто ради нее готов был снять с себя последнюю рубаху, и тех, кто прятал в землю конскую сбрую – пусть сгниет, но только не досталась бы колхозу. Одного эта жизнь сделала человеком – был бобылем, кормился по дворам, а тут стал хозяином сельсовета, – а другой был хозяином, а превратился в таящегося от людей волка. Время распахнуло души одних и сделало замкнутыми, затаившими недоброе души других. Счастье и несчастье шли рядом, как сестры.