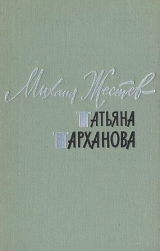
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Ночью ударил мороз, и утром ее разбудило яркое солнце. День был воскресный, время уже позднее. Татьяна позавтракала и, накинув на себя шубейку, снова вышла на Мсту, но уже не у моста, а далеко за порогами, где пустынная, заваленная сугробами река сливалась с бескрайними снежными полями. Все вокруг искрилось серебристыми фиолетовыми блестками. И, как в тундре, было тихо и первозданно. Татьяна ощутила, что стоит ей напрячь свою мысль, и перед ней откроется тайна вечного, неумирающего, что еще не дано знать человеку. И тут, на реке, она увидела человека, который стоял к ней спиной. Что-то было знакомое в его большой кряжистой фигуре, в его ондатровой шапке, из-под которой выбивались седые волосы. И вдруг она узнала деда Игната. Не задумываясь, она сбежала вниз, на середину реки, и громко окликнула его:
– Деда, ты что тут делаешь?
– На свиданье пришел.
Он обнял ее за плечи и повернул лицом к солнцу. Золотисто-белый свет озарил ее лицо, припал к ее ногам, и Татьяне почудилось, что она сейчас движется в солнечную даль. А дед продолжал:
– Вот, видишь за огородами нашу халупу? Всего сорок мне было, когда там поселился. Ежели с нынешних лет судить – молодость там моя была. Так вот, на свиданье с молодостью своей пришел. Ну, а ты, сорока, когда жизнь свою устроишь?
– Я не думаю об этом.
– Врешь, Танюшка. Я и то думаю, как дальше жить мне.
– Что-нибудь случилось, деда? – спросила с тревогой Татьяна.
– Случилось не случилось, а должна быть перемена и в моей жизни. Ты знаешь, куда я иду? К Сухорукову.
– И что же? Кто к нему не ходит?
– А ты спроси, зачем?
– Ну зачем, деда?
– Одним словом мог бы тебе ответить, да ведь не поймешь, что от чего и к чему. А я верно новую жизнь начинаю.
И только сейчас Татьяна заметила, что дед сегодня какой-то торжественный и что на нем даже новый черный костюм, который он надевал в особо знаменательных случаях.
– Издалека начинаешь.
– Жизнь моя тоже издалека идет.
– То-то ты идешь в партком к Алексею Ивановичу, а зашел вон куда, за Пески...
– Тут солнце, снега, воздуху сколько.
Татьяна улыбнулась ему одними глазами.
– Рассказывай, деда, рассказывай.
– Любишь деда послушать. – И не спеша пошел вдоль реки. – Вот видишь ты перед собой, Танюшка, Игната Тарханова, бывшего мужика, теперь известного в Глинске человека. Ну, да для тебя дед и дед. Когда поругает, иной раз поворчит, а какую я жизнь прошел, ты не знаешь. Оно, может, даже и знаешь, да ведь без заглубления. Тут не то, там не се, а что к чему – не видно.
Игнат умолк, посмотрел на высокий мстинский берег и подумал: чего это разболтался? Не выдержал. А как было выдержать? Не на той неделе началось в нем все это, когда зашел проведать больного Еремея Ефремова. Прожил человек на земле столько лет, а зачем? Кому доброе сделал? Много ли наработал? И не директор комбината всколыхнул его, когда спросил: «Ну как, старик, о пенсии не помышляешь?» Все началось раньше. Еще до того, как в войну охранял завод. А не появилось ли это желание выложить все, что есть на душе, в тот день, когда руку ему зажало диском турбины? И вдруг он понял, почему готов раскрыть свою душу перед Танюшкой. Она его внучка, она его наследница, его будущее! Он исповедуется перед будущей жизнью. Поймет ли, примет? И, круто повернувшись к Татьяне, он неожиданно спросил:
– Разве ты по-настоящему понимаешь, что такое мужик? Так вот, слушай. Мужик хитер, где надо соседа одурачить. Из одной портянки две скроить, по дыму учуять, что в печи варится. А когда дело коснется большой жизни – слепец. Мужики и кроты схожи. Оба хорошо рыхлят землю, только ничего, кроме нее, не видят. Видишь ли, вступил я в колхоз, обидно мне стало, что Князев бьет мою Находку. Взять бы этого Афоньку за грудки, тряхнуть, и все в порядке. А я бросился у колхоза лошадь отнимать. Не думал, где интерес всей моей жизни, забыл, что вслед за мной начнут рвать только-только скроенный да сшитый на живую нитку колхозный армяк. Чуешь, что значит мужик? За свое малое он порушит все общее, большое. И на этом малом голову ломает. Страшно подумать теперь: из-за клячи под выселение пошел, на высылку. Вот это и есть мужик! И себе сколько лет жизни испортил, и отцу твоему, да и тебя царапнуло. Ну да об этом я тебе уже говорил. А теперь слушай дальше. Бежал я из обоза. И опять как мужик. Ефремов меня подговорил, а я, как дурак, бултых головой в омут. Сбежал, устроился на комбинате, и одно в голове – а вдруг узнают, кто я? Не сладкая жизнь. Идет к тебе прораб, ну, думаю, сейчас скажет: пожалуйте в отдел кадров; в окне фуражка милиционера – сердце в пятки: не иначе, как за тобой. У страха глаза велики, а у мужика-беглеца – что плошки.
Встретил я тогда Чухарева, а он мне и говорит: «Видишь, мужики что делают? Валом из деревни прут!» – «А кто хлеб будет сеять?» – спрашиваю. Известно, кто про что, а мужик о хлебе тужит. А он засмеялся: «Хлеб сеять еще народа в деревне пруд пруди. Ты на другое смотри. Кто бежит? Кому колхоз не по нутру иль из худых колхозов. А куда идут? В город! Стало быть, рабочим классом эти мужики становятся. Так сказать, ведущим классом. Верно?» – «Верно», – отвечаю. «Так что ж, – говорит, – выходит? Куда же этот рабочий класс заведет, ежели он супротив колхозов? Чуешь, как оборачивается дело?» Только мне тогда эта материя была не по уму. Да и сердце не тем боком чуяло. Но поварило меня в заводском котле и подсолило. А тут эта история с турбиной произошла. Рукой туда, в выемку вала, я сунулся как мужик, но как рабочий человек диск не дал исковеркать. А Чухарев чем грозил? Смотри, какой идет рабочий класс. Что ж, не худой рабочий класс!
Игнат снова умолк и, словно собравшись с мыслями, продолжал:
– И только одна сила была, которая из нас, мужиков, могла сделать такой рабочий класс! Партия! Она не испугалась нас, мужиков из деревни. И встретила не как чужих, а как своих и направила, куда нужно было. Партия, она знала: великая сила нужна великой стране. Не отвела в сторону, не построила запруду, а приняла на свое колесо. И оно, это колесо, всю землю поворачивает.
Игнат остановился, перевел дыхание и произнес:
– А на душе, Танюшка, опять беспокойно. Вот был я у Ефремова. А ушел и сам себе говорю: ты, Игнат, не Еремей, не зря по земле ходишь. Смотри, целый комбинат стоит, там твои труды есть. Смотри, целые поезда с огнеупором, что ни день, на металлургические заводы отправляют – и там немало твоих трудов. А все-таки чего-то тебе не хватает. Вроде как не делаешь всего того, что тебе полагается. Бывало, утром идешь цехом – любо взглянуть вокруг. А теперь не тот, что ли, колер? И то не нравится, и это бы подправил. Один раз на директора налетел: что вы там со своей реконструкцией долго возитесь? Много мне жизнь задавала загадок. Как мог, разгадывал, а эту не могу. Хожу вокруг да около, а в суть не вникну. Иной раз казалось, вот-вот весь смысл ухвачу, а он – нырк – и спрячется. И вдруг все понял: должен я в партию вступить.
Впереди шумели никогда не замерзающие мстинские пороги. Игнат свернул к берегу, распахнул полушубок и достал из кармана часы. Словно проверяя их, он посмотрел на солнце и сказал, легко поднимаясь по крутой снежной тропе:
– Тут, пожалуй, мне будет ближе!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Сухоруков ждал Игната в своем парткомовском кабинете, где часто в воскресные дни по утрам, как говорили, он работал над какой-то книгой.
– Так какой у тебя разговор ко мне, старик? – встретил он Тарханова, усаживая его рядом с собой.
– Большое дело...
– Выкладывай, Игнат Федорович.
– Не знаю, с чего и начать... ну, в общем, так! Ты меня раскулачивал, верно?
– Был грех.
– Тут еще как сказать, чей грех, а чья вина. Не ты, так другой. Но теперь мне с тобой никак не разминуться. Хочу в партию идти. И пришел к тебе, Алексей Иванович, за рекомендацией... Коль считаешь меня достойным – не откажи, а коль сомневаешься, так не стесняйся – бей наповал, отказывай.
– И давно ты об этом думаешь?
– Раньше тоже, бывало, говорил себе: а что, Игнат, ты вроде как не хуже иного партийца? А сейчас места себе не нахожу, все в одну точку уперлось: должен ты стать партийцем, иначе нет для тебя жизни.
– Это ты силу свою ищешь, Игнат Федорович. Ты понимаешь, есть человек, который всю жизнь проживет беспартийным – и ничего. А в жизни другого должна наступить такая пора, когда он должен стать, когда он не может не стать сильнее, чем был вчера, когда он понимает, что именно он прежде всего должен быть коммунистом, и тогда, в этот великий час, он вступает в партию. Видно, и твоя пора пришла, Игнат Федорович.
– А примут?
– Приходи в середине недели за рекомендацией.
– Старик ведь я.
– Одно яблоко в июле зреет, а другое только-только в сентябре.
– Поздний антон?
– Да, антон! Но кто сказал, что поздний хуже?
В тот день, вернувшись от Сухорукова, Игнат зашел к внучке в ее комнату и сказал, присаживаясь на диван:
– Так что вот, Танюшка, какие дела. На старости лет и я в партию пошел. Не могу иначе. Не вступить в партию – все равно что не жить. А жить очень хочется. Оно, конечно, как партийному, придется на новые обороты переходить. Известно, с коммуниста и спрос коммунистический. Только машине страшно не тогда, когда она скорость прибавляет, а когда со всего хода тормоз дает. Вот так! И знаешь, о чем я сейчас думаю? Ты скажи, сколько во всем мире мужиков?
– Не знаю, деда.
– Миллиард будет? Не меньше. И не каждый ведь понимает еще, где его главный интерес. Ведь что боязно: придет время сообща работать – кто бросится за своей Находкой, кто за таким, как Ефремов, пойдет и, надо и не надо, попрет в город. Может так быть? А почему не может? Так вот, Танюшка, как бы этим людям рассказать про себя, чтобы они знали, по какой дороге идти им и не плутать, вроде меня, невесть где? Многое я бы дал тому, кто бы меня вовремя вразумил: куда идешь, Игнат? Против себя идешь! Только какое там вразумление могло быть, когда шли мы нехоженой дорогой, примеру не видели, а мужик, известно, не то что слову, глазам не верит, ему дай пощупать. Вот о чем думаю. Было время – кроме своей полосы, ничего не знал, а теперь совсем другое беспокойство у меня. Выходит, моя полоса – вся земля, весь мир. И на этой земле нашел я правду. Долго искал, а нашел. Вот только не знаю, примут ли меня в партию. Не один Сухоруков решает. Тут и партком, и горком. Но все равно – назад ходу нет.
Смеркалось, когда в коридоре раздался звонок. Татьяна бросилась к дверям и увидела перед собой Ульку. Хотя стояла зима, но ее лицо было загорелое, и Татьяне показалось, что вместе с подругой к ней в комнату ворвался с полей весенний ветер, резкий, обжигающий и еще не успевший потеплеть после долгой зимы. Обнимая Татьяну, Уля сказала простуженным грубоватым голосом:
– Ты прости, что я без предупреждения. Но дома никого нет. Отец уехал к Федору в Ленинград, каким-то там профессорам показаться, и только завтра приедет.
– Улька, и не стыдно?
– Тогда где тут у вас умываются? Ты знаешь, зачем я приехала? В агрошколу на полгода! А в общем, как видишь, Танька, я жива, здорова и как будто еще молода. Ну, а как твои, как Игнат Федорович, как бабушка? – Она сбросила с себя пальто и, не ожидая, пока Татьяна поведет ее в ванную, сама пошла туда, оглядела кафельные панели, потрогала никелированные краны и, пустив воду, уверенно сказала: – У нас тоже так будет. Дай срок. – И, лишь намылив руки, она взглянула внимательно на Татьяну и настороженно спросила: – Танька, а у тебя все в порядке? Почему усталая морда?
– Много работы.
– Так и поверю. Сердечные неувязки?
– Мойся скорее. Слышишь, на кухне дед сапогом самовар раздувает.
– А на кухне у вас какая печь? Русская?
– Что ты!
– Неплохое, в общем, сооружение.
– Ты что, домашней хозяйкой стала?
– Наоборот, воюю с домашним хозяйством. Ну, давай полотенце. Махровое? А нельзя ли простое, льняное? Куда приятнее. А теперь скажи, подурнела я? Нет? Вот видишь, что значит свежий воздух!
Улька как будто была прежней. Прямая и резковатая в своих суждениях, но такая же добрая, славная Улька. И в то же время в ней появилось что-то незнакомое. Это незнакомое ощущалось, о чем бы она ни говорила, даже чувствовалось в ее движениях.
– Рассказывай, рассказывай, как там в наших Пухляках, – встретил ее Игнат, усаживая рядом с собой за стол. – Как Матвей?
– Если по-честному – плохо.
– Слыхал, трудодень грош да грамм.
– Не в них дело, Игнат Федорович. Нет ясности жизни. Весной говорят – сей больше, а осенью требуют – все продай за бесценок. С одной стороны, стараемся, чтобы в каждом дворе была корова, свое приусадебное хозяйство, а с другой – такие налоги, что хоть режь корову.
– А как земля родит?
– Истощена земля. Долго дождей нет – пыль, а после дождя – камень. Не землей живем... Лесом. Рубим, продаем, деньги получаем. Да ведь долго лесом не проживешь. Матвей ночи не спит, все думает, а концы с концами никак не свести. – Ульяна замолчала, потом проговорила, словно каждое слово давалось ей с огромным мучением:
– А хуже всего, что все чего-то требуют, а объяснить что к чему – не могут. То делаем ставку на технику, то на агрономию, то на организацию. Все это нужно. Но почему не делают ставку на человека, на землю? Я, может быть, ничего не понимаю... Но почему у нас все мерят на миллионы и не видят, что все дело в человеческой душе? Дай ей ясность, и она сделает то, чего не добьешься никакими деньгами.
– Значит, туго Матвею?
– Партия что-то должна решить. И все, с кем ни поговоришь, то же самое думают.
– Бежать хочет?
– Хотел бы бежать, разве я приехала бы в агрошколу? А хуже всего с землей. Еще больше запущена, чем душа иного колхозника. Где покосы были, там ивняковые заросли, волчьи логова. Да и ту, на которой сеем, плохо знаем. Надо ей плодородие возвращать, надо ее в исправное состояние приводить, а как, если она для нас закрытая книга?
Татьяна и раньше слыхала, что не все в деревне хорошо, что есть колхозы, где людям не стало интереса жить, и они бегут – кто в город, кто на сплав, кто в шахты уголь добывать. Она знала, что в Пухляках дела обстоят неважно, иначе бы туда не послали Матвея. Но все это как-то не задевало за живое, жизнь деревни интересовала ее не больше, чем работа леспромхоза или трикотажсоюза, о деятельности которых в местной газете помещались сводки. И вдруг вот сейчас, после всего того, что она услышала от Ульки, ей почему-то стало мучительно стыдно и страшно взглянуть на деда. Разве она тоже не убежала от земли и не стоит сейчас в сторонке, когда там, в Пухляках, так плохо? Дед в партию вступает. Улька будет агрономом. Они борются, как настоящие люди. А кто она? Мнимый естествоиспытатель, забывший о своей мечте, о своей идее? У нее было такое ощущение, словно Улька ее ударила по лицу и продолжает бить каждым своим словом, уже обращаясь не к деду Игнату, а прямо к ней, словно требуя от нее ответа:
– Разве нельзя вырубить ивняк? Вывезти в поле много торфа? Все можно сделать. Нетрудно и свой дом держать в чистоте. А не всякая хозяйка держит. Значит, руки опустились. Если бы люди увидели, что, вырубив ивняк, они улучшат свою жизнь, – от зарослей ничего бы не осталось за один год. А какой смысл рубить ивняк, косить потом сено, кормить им коров, чтобы все равно получить копейки за молоко? Но так сегодня. А завтра будет иначе. Ты когда-нибудь наблюдала, как собирается дождь? На горизонте тучи ходят, погромыхивают, вдруг врывается ветер, а с ним долгожданный освежающий ливень. Вот так и народ чувствует – должна освежиться земля. И освежится. И тогда потребуются люди смелые, преданные колхозам, понимающие землю.
И тут произошло то, чего не ожидала ни сама Уля, ни, тем более, дед Игнат. Татьяна порывисто поднялась из-за стола и сказала ожесточенно, решительно, словно бросаясь с высокого обрыва в неведомую глубь реки:
– Но почему Сталин молчит? Не знает? Не понимает? Не хочет знать? – Она испуганно оглянулась. Ведь ее слова – кощунство. Кто она такая, чтобы требовать ответа от Сталина? Девчонка, неудачница, которая не нашла еще своего места в жизни. Ну и пусть девчонка! Пусть неудачница! И все же она спрашивает его, великого: почему? Разве нет у нее на это права? Она боролась сама с собой. Старалась подавить собственное замешательство. Ведь здесь, у себя дома, ей некого бояться. Ни Ули, ни деда. Никого и ничего, кроме собственных мыслей, вдруг вырвавшихся за привычный круг, казалось бы, нерушимых представлений, что Сталин – это все: и земля, по которой она ходит, и город, в котором она живет, и сама она со всеми своими чувствами и чаяниями. Впервые в жизни она ощутила Сталина как человек человека, и мысленно обращалась к нему как человек к человеку, и не сомневалась уже, что он должен ей ответить как человек человеку. Она взглянула на деда Игната, потом перевела свой взгляд на Улю. Они смотрели на нее смущенно и с той неловкостью, как смотрят на ребенка, который сказал что-то неуместное, о чем не принято говорить вслух, но о чем, наверное, они думают наедине с собой. И как взрослые, которые после некоторой растерянности делают вид, что они ничего не слышали и ничего не заметили, так и дед и Уля заговорили о чем-то другом, не имеющем никакого отношения ни к Пухлякам, ни вообще к колхозам.
Татьяна уже не слушала их. Она молча сидела у стола, слегка дрожащими пальцами перебирала бахрому скатерти и мысленно продолжала возникший так неожиданно внутри ее спор, но теперь уже с собой, ощущая лишь собственную вину и забыв все то, что она только-только думала о Сталине. Теперь уже ей казалось, что дело совсем не в нем, недосягаемо величественном, а в ней – маленькой и незаметной. В вечернем окне она увидела перед собой Глинск, подумала о тех, кто живет в нем, и, как никогда раньше, ощутила явственно и зримо, что он наполнен людьми, которые еще совсем недавно пахали землю, а теперь оставили ее, осиротили, лишили своей заботы. И она тоже сбежала от земли. Вместе с дедом и отцом. Ну, пусть не сбежала. Но и не вернулась к ней. Нет, все это не то. Кто нашел свое место в городе – пусть живет и работает в нем. А где ее место? Ведь каждый раз, когда она думает о своем будущем, – видит себя на той самой горе Пухляков, откуда далеко-далеко видны поля, леса, уходящие к горизонту, и река, прячущаяся за крутым береговым откосом. Что ж, что она не знает, кем ей быть, – зато знает, где ей жить. Там, где поля, леса, реки... Ее всегда тянуло к ним. Тянуло с тех пор, как она себя помнит. И даже не знает почему. Это – как любовь. Разве скажешь, за что любишь человека? Охватит любовь, взволнует, и навсегда с тобой. И как было не полюбить ей Пухляки! Она и сейчас помнит березовую аллею, соединяющую деревню с парком, и слышит шум ржаного поля, она чувствует запах желтого донника и ощущает босыми ногами теплый речной песок. Может быть, все это не важно? Так, пустяки, мелочи жизни? Но для Белки важнее улицы Глинска, с его маленькими топольками, каменистыми пыльными мостовыми и летней духотой? Ну-ну, не так уж плох Глинск... Есть кино, и не одно, есть театр, и не плохой, есть вечерний шум улиц – в нем тоже какая-то своя прелесть. А магазинов сколько! И жить, конечно, в Глинске и легче и сытнее. Чего уж там говорить... Но ничто не может сравниться с полнотой жизни. Никакие магазины и кино, никакая сытая и легкая жизнь. А полноту жизни человек должен искать в себе, в своем деле, в том, к чему его тянет. Дроботов бросил Ленинград и нашел себя в Глинске, в своем театре. И если я хочу жить в Пухляках, то почему я не найду себя там, в Пухляках? Себя, свое дело, свою любовь. Свою любовь? Но ведь она потеряна, потеряна в Глинске. Где Сергей? Что она знает о нем? Она боится встретить его. И еще больше боится вдруг услышать, что он уже не один, женился, имеет семью. Быть отверженной, казаться покинутой, вызывать жалость – что может быть хуже? Все кончено с Глинском. Все, все, все. И, совершенно не вникая – что там Улька рассказывает деду Игнату, – она на полуслове, неожиданно ворвалась в их разговор.
– Я поеду в деревню. Мы вместе поедем.
– И то верно! – обрадованно воскликнула Уля. – У тебя как раз будет отпуск.
– Я поеду работать, не в отпуск. Навсегда работать. Я больше так не могу. – Татьяна почувствовала, что она либо сейчас заплачет, либо начнет кричать. И до боли стиснула зубы. Словно сквозь шум воды, она услышала голос деда – тревожный и недоумевающий:
– В деревню? В какую это деревню?
– Все равно! В Пухляки! – выкрикнула Татьяна. И только тут она заметила страдальческое выражение его глаз, и чем-то он стал похож на Еремея Ефремова, так много было беспомощности, боли, горечи в каждой складке его лица. Но в следующую минуту оно снова стало тархановским – суровым, неумолимым, полным необузданной решимости.
– Слушай, Татьяна, что я тебе скажу. Слушай и запоминай! Никуда ты не поедешь! Понятно это тебе? Не пущу! Как бог свят, не пущу. – Грозный, он рванулся из-за стола. Казалось, он мог ее побить, выгнать из дому, отказаться от нее. Таким гневным и в то же время почему-то жалким она никогда еще его не видела.
– Я не против колхоза, нет. Кто твоего отца уговаривал ехать в Пухляки? А кто Матвею присоветовал стать председателем? Да скажи мне сегодня: поезжай, Игнат, землю в колхоз пахать, – поеду! И свою квартиру брошу, и не посмотрю на свою тысячную зарплату. А тебя не пущу! Что хочешь, то и делай со мной. Как хочешь думай обо мне – не пущу. Да ты знаешь, каково нынче на Мсте? Думаешь, Тарас худой председатель иль Матвею не по силе колхоз поднять? Земля оскудела. Неведомо на что более годна: не то хлеб на ней растить, не то кирпичи из нее делать! Да и запутались в ней. Сенокос под пашней, пашня под ивой, а где расти хлебу – норовят траву держать. Не думай, что люди дураки! Война все спутала да еще бремя тяжелое на колхозы взвалила... Вот где беда! А ты подставляешь свои девичьи плечи. Сомнет тебя! Как травинку, сомнет!
Низко опустив голову, Татьяна молча слушала Игната. Но чем больше он говорил ей о трудной жизни деревни, об истощенной и лишенной плодородия земле, тем все больше и больше в ней зрела решимость поехать в деревню. Ведь если на земле так плохо, то тем более она обязана отдать ей все свои силы и знания. Какую силу, какие знания? Об этом она не думала. И если еще несколько минут назад Татьяна не понимала Игната и даже была напугана его неожиданным возмущением, то теперь она ясно себе представляла, почему то, что, казалось бы, должно было принести ему радость, вызвало протест. Ах, любимая внучка, близкий, родной человек! Как ей хотелось подойти к нему и зло спросить: «Деда, а может, мне почудилось, что ты подал в партию?» Но она знала, какой это будет обидой для старика, и лишь спросила:
– Помнишь, деда, как мы с тобой в поле ходили? Помнишь, как ты мне рассказывал про землю в Пухляках, на которой все растет, а я слушала тебя, и мне казалось, что Пухляки – это где-то в сказке, за тридевять земель...
– На комбинате куда хочешь иди, а в колхоз пойти не позволю. Иль зря я все эти годы работал? Нет, пусть люди покрепче берут на себя все тяготы и беды земли.
– Я все равно уеду, – упрямо сказала Татьяна. – Уеду! И никто меня не удержит.
Уля не вмешивалась в этот неожиданный конфликт. Вот уж не предполагала она, что Таньку потянет в деревню, и тем более не ожидала, что этому так решительно воспротивится старик Тарханов. Но когда уже поздно вечером подруги остались вдвоем, Уля, не скрывая своего явного недоверия, откровенно спросила:
– Послушай, Танька, ты это всерьез насчет деревни или так, от томления души?
– Тебя, конечно, больше устраивает томление души?.. Тогда так просто посоветовать: «Сиди в Глинске и не рыпайся».
– А ты что думаешь делать в деревне?
– То же, что и ты: работать.
– Постой, Танька. Матвей поехал, чтобы быть председателем колхоза. Его послала партия. Я поехала вместе с Матвеем и буду агротехником. А ты почему едешь?
– Просто так... Потому что не могу не поехать. И даже не знаю, что буду делать. Неужели ничего не найдется?
– Значит, серьезно?
– Я могу задать тебе такой же вопрос: ты никогда не думала о земле, ты даже не была юннаткой, а сейчас в колхозе хочешь стать агрономом, бороться за плодородие земли. Серьезно ли это? Все серьезно, что по влечению сердца. И совсем не обязательны какие-то большие замыслы. Просто по-человечески – хочу в деревню. Ну, больше мне там нравится. Имею я на это право? Или такое разрешается только с путевкой комсомола? Да еще когда самой не очень хочется?
– Не будем, Танька, ругаться. Я знаю, как трудно в деревне.
– Ты постарела, как дед Игнат.
– Дуреха, ты думаешь, я не заинтересована видеть твою морду в Пухляках? Но тогда бери расчет и поступай вместе со мной в агрошколу.
– Наконец-то я узнаю Ульяну Ефремову.
Утром Татьяна пошла на работу, как обычно, к восьми часам. И как всегда, проверив свой участок, сама встала к формовочному столу. Но за полчаса до обеденного гудка она сбросила с себя спецовку и направилась в партком к Сухорукову.
– Ну, товарищ мастер, какая у нас беда? – спросил Сухоруков, сразу понявший по одному хмурому виду Татьяны, что у нее не все ладно.
– Алексей Иванович, когда я кончила школу, то хотела поступить на биологический факультет.
– Слыхал, помешала болезнь бабушки. Снова учиться решила?
– В агрошколе. Уля тоже там будет.
– Дед с земли ушел, а внучка на землю возвращается?
Она ответила сердито:
– Почему вы спрашиваете меня так, словно я делаю не то какую-то глупость, не то что-то необъяснимое?
Сухоруков улыбнулся:
– И дед согласен?
– Я взрослая, – уклончиво ответила Татьяна.
– Поговорю с директором... А все-таки, дед согласен?
– Я взрослая, – повторила Татьяна и вышла из комнаты.








