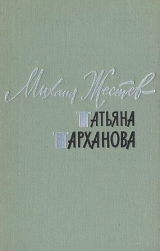
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Странно, однако именно в ночную пору, когда, казалось бы, человек может забыться от всех своих горестей, к нему приходят самые неожиданные воспоминания и самые тяжелые раздумья. Ночью ничто не отвлекает его от страданий. Ведь ночью он наедине со своими мыслями и как никогда одинок. Не потому ли всю ночь перед явкой в прокуратуру Тарханов не мог сомкнуть глаз. Стоило ли совершать побег, приспосабливаться к новой, непривычной жизни и из мужика превращаться в рабочего, чтобы через три года снова вернуться к тому же, от чего бежал и за что так дорого заплатил: жизнью невестки, кровью Василия и своей великой невзгодой, когда каждый час думаешь о том, что ты беглец, и знаешь, что тебя в любой час могут поймать. И вот этот час пришел. Самый трудный час. Сколько раз можно терять свою семью? Как потерять Лизу? И как потерять Танюшку, которая невидимо соединяет его с прежней жизнью и в то же время принесла счастье, скрепила его любовь с Лизаветой? Но было еще нечто такое, чего он не хотел оставлять, тоже ставшее близким ему, что навсегда вошло в него и без чего он уже не представлял своей жизни.
Когда Игнат вступал в колхоз, ему жалко было отдавать свою землю, своего коня. Но когда ночью его увезли из родных Пухляков, все это было уже не его, и, пожалуй, он больше жалел оставленный на столе еще теплый медный самовар, чем землю, которую он взять с собой не мог и с которой он уже распростился раньше. О колхозе он просто не думал. Он слишком мало вложил в него своей силы, а, как известно, ценности души тоже создаются трудом. Но здесь, в городе, он построил вместе с другими огромный комбинат огнеупоров, здесь он был каталем, землекопом, каменщиком, и здесь он стал слесарем по монтажу большого и сложного оборудования. И как же ему не думать о том, что сделано его руками, что дало ему новый хлеб и новую жизнь? Даже то, что еще вчера вызывало в нем снисходительное, насмешливое отношение, все эти ударные бригады, соревнование, вывешиваемые в цеху показатели выработки каждого рабочего – все это, с чем он должен был проститься, стало вдруг близким и очень важным. Многое он должен оставить и уйти неведомо куда, может быть в те же Хибины. Ему казалось, что туда он уже ушел, а вот теперь его будет догонять собственная тень. Жизнь потеряла для него свою реальную ощутимость. Как мог он, человек основательный и проживший столько лет, человек, знающий жизнь, оказаться в таком положении? Неужели все произошло из-за Находки? Он спрашивал себя и иного ответа не находил. Судьба человека представлялась ему полной жестоких случайностей.
Утром за столом он сказал Лизавете:
– Афонька на меня накатку сделал. К прокурору вызывают, – и протянул ей повестку.
Лизавета заплакала, припала к столу.
Он тихо проговорил:
– Не надо было нам с тобой расписываться...
Она рванулась с места, закричала:
– И пусть. Пусть вместе ссылают. И сейчас я с тобой пойду.
– Не надо. Я один. Не кулак я, понимаешь? Разве я худое хотел колхозу? Так и скажу. Хватит с бедой в прятки играть. Она все равно тебя застукает.
Он шел к прокурору безбоязненно. Да, он будет защищаться, спорить, бороться. Казалось уже неважным – оставят его в Глинске или вышлют в Хибины. Пусть делают что хотят. Главное – чувствовать свою правоту. И из обоза он бежал потому, что не знал за собой вины.
И все же, когда Игнат вошел в большое каменное здание и оказался в полутемном сводчатом коридоре, вся его недавняя храбрость исчезла. Он не помнил, как протянул какой-то женщине повестку, как она указала ему, куда войти, и он пришел в себя от самого страшного, что только могло случиться с ним в этот день. В комнате он увидел стоящего у окна Сухорукова. Да, того самого Сухорукова, который приговорил его к высылке в Хибины. Это было похоже на наваждение. Как мог оказаться здесь Сухоруков? А, так это он и есть прокурор? Пока окружной прокурор был для Игната человеком незнакомым и как-то сливался с учреждением, призванным карать людей, он испытывал перед ним страх. Но едва этим прокурором оказался человек, которого он знал, испуг совершенно исчез, к Игнату снова вернулась вера в собственную правоту и даже чувство человеческого превосходства над ним. Теперь Игнат настолько владел собой, что мог внимательно рассмотреть постаревшее, болезненное лицо Сухорукова и в его суровых глазах увидеть усталость бессонных ночей и совсем не легкой жизни. Игнат даже улыбнулся. Э, брат, вон какая твоя жизнь! Тебе Глинск хуже Хибин.
Встреча с Сухоруковым была так неожиданна, что Игнат не сразу заметил сидящего сбоку за столом пожилого мужчину. Не Сухоруков, а именно этот мужчина был прокурором, и Игнат это понял, когда начался допрос.
– Игнат Тарханов? – спросил прокурор, не поднимая глаз от какой-то лежащей перед ним папки с бумагами.
– А вы спросите у товарища Сухорукова. Мы с ним старые знакомые. Помню, однажды ночью он мне дал два часа на сборы.
– Не забыл вас, – сказал прокурор Сухорукову и улыбнулся. – Много вы мне причинили хлопот, гражданин Тарханов. Сколько времени ищу.
– И мне было хлопот не меньше. Сколько времени скрываюсь.
– Представляю, – рассмеялся прокурор и спросил у Сухорукова: – Может быть, у вас есть вопросы?
– А чего товарищу Сухорукову спрашивать, – сказал Игнат. – Ему про меня все известно. Что у меня на душе и кто я есть. А главное, как я, простой мужик, не кулак и не торгаш, в раскулаченные попал.
Сухоруков подошел к столу.
– С вами были ваш сын и его жена. Где они?
– На совести у того, кто по мне стрелял. Сына ранили и неведомо где сгинул, а жена его в родильном померла. Запишите это у себя.
Сухоруков хотел задать еще какой-то вопрос, но, словно потеряв нить разговора, умолк. Потом он тихо проговорил, словно стараясь подавить в себе какие-то неприятные воспоминания:
– Вы бежали на лошади? Куда ее дели?
– Она не моя была.
– Поэтому и спрашиваю. Продали?
– Сдал в колхоз. Тут, пригородный, в Коегощах.
– А это правда? – спросил Сухоруков. И впервые Тарханов увидел на его лице улыбку. Потом он внимательно взглянул на Игната и сказал, не то удивленно, не то укоризненно:
– Три года скрывался.
– Я работал. Комбинат построил.
– Знаю.
– Что об этом говорить! Да и тянуть нечего. Куда теперь ссылка? Мне бы только в баню сходить да с женой и внучкой попрощаться.
– Банный день суббота, а сегодня вторник, – рассмеялся Сухоруков. И уже совсем по-простому, как старого знакомого, спросил Тарханова: – Тебе когда-нибудь случалось несправедливо наказывать сына?
– Всяко бывало.
– А ведь от того ты ему отцом не переставал быть? Подумай над этим.
Игнат привстал. Так ли он понял Сухорукова? Боже ты мой! Неужели ему все простили, признали, что его напрасно выселили? Вот она, свобода. И он уже не беглец. И ему нечего бояться. Он чувствовал себя так, словно после долгого забытья к нему снова возвращалось сознание.
– Твое дело уже два года как прекращено, да объявить тебе не могли. А тут вдруг Князев в окружном пожаловал и прямо ко мне: «Сыскал беглеца Тарханова». Хотел не хотел, а пользу тебе сослужил.
– Если бы не он, и вины моей не было бы. Шавкой был, шавкой и остался. – И тут только вспомнил: – А как с сыном моим, Василием? Ему тоже должно быть освобождение?
– Все Хибины обыскали, а Тарханова Василия так и не нашли. Вот видишь, справки.
– Как же так, человек не иголка...
– Думаю, что фамилию он переменил. – Сухоруков поднялся. – А ты, Игнат Федорович, не забывай старых знакомых. Приходи в окружком. Были мы с тобой в сельском хозяйстве, а теперь оба по промышленной части пошли.
Игнат получил бумажку о прекращении дела и поспешил на улицу. Там его ждала Лизавета. Не стесняясь, она обняла его.
– Говори! Что же ты молчишь?
– Все хорошо.
Это было то место в городе, где у всех на виду никто не стеснялся обнять мужа, поцеловать жену, счастливо смеяться и безутешно плакать. И когда кто-то из прохожих, радуясь за Игната, спросил: «Оправдали?» – он охотно и радостно ответил:
– Оправдали!
Игнат и Лизавета возвращались домой. Неожиданно Игнат остановился. По другой стороне улицы шел Афонька Князев. Игнат весь напрягся. Лизавета схватила мужа за руку и умоляюще проговорила:
– Не надо, не трожь его, Игнатушка.
Игнат не ответил, только подмигнул ей и весело окликнул Афоньку:
– Здорово, земляк! Опять свиделись.
Князев подошел настороженный. Игнат взял его за локоть.
– Ты не подумай, что мне халупы старой жалко для друга.
– Я тоже не против по силе своей уплатить, – дружелюбно, с некоторой неловкостью ответил Афонька.
– Сочтемся. Чего тут говорить. Идем, и с рук на руки бери домик.
Афонька недоверчиво покосился на Игната. Не смеется ли над ним земляк? Да нет как будто. Да и надо скорее въезжать в дом, пока не забрали его хозяина, пока думает откупиться от него, Афоньки Князева.
Старый, забытый, вросший в землю дом. Он встретил своих хозяев молчаливо и хмуро, нехотя раскрыл перед ними заколоченную гвоздями дверь. Игнат оглядел стены, невысокий, оклеенный бумагой потолок. Да, хоромы не ахти какие! Потом повернулся к жене и сказал:
– Ты меня, Лиза, прости, а домик придется продать. Вот только не знаю, сколько взять за него?
– Решай сам, – Лизавета недоверчиво, с опаской наблюдала за мужем.
– А ведь я Афонькин должник. И большой должник. Ну, во-первых, за то, что по его милости попал в раскулаченные. Верно, Афоня? Так получай должок! – И, повернувшись, Игнат так ударил Князева, что тот отлетел к стене.
– Ой, что ты делаешь? – закричала Лизавета и бросилась к Игнату.
– Постой, Лиза. Я еще не все отдал, – сказал Игнат, легко отстранив жену. – А теперь пусть получит за то, что во второй раз загубить меня хотел. – На Афоньку обрушился новый удар. И он оказался уже у другой стены. – Ну, вот и квиты. А за то, что ты, Афонька, своей накаткой помог Сухорукову мой адрес узнать, халупу бери. Раз обещал – отдаю. Мне в двух местах все равно не живать, а деньги с тебя брать – душа брезгует.
Игнат смахнул со лба испарину и вышел с Лизаветой на улицу. Он оставил в своей халупе Афоньку Князева, а с ним, как казалось ему, и свое прошлое и все свое мужицкое горе.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Как все, к кому неожиданно приходит счастье, Игнат чувствовал себя растерянным. Ему хотелось сделать что-то необыкновенное, но что именно – он не знал. И поэтому бесцельно ходил по дому, на кухне путал Лизавету своими советами, полез на чердак чистить дымоход, хотя этого нельзя было делать, так как топилась печь. Ему не лежалось, не сиделось, не стоялось. С души свалилась огромная тяжесть, и это вызывало ощущение какой-то внутренней невесомости, потребность двигаться, с кем-то говорить, кому-то поведать о своей радости.
– Лизонька, а не пойти ли мне на комбинат?
– Зачем?
– Одинцова повидать.
– Ты бы прилег, ночь не спал...
– Ну хоть Матвею сказать...
– Успеешь.
– А может, вечерком их позвать?
– Да ступай ты, отдохни. Ступай, говорят тебе.
Игнат повиновался и пошел из кухни в спальню. Но задержался у порога.
– Где твой чемоданчик? Помнишь, еще на Песках купили...
– В чулане он...
– А ну, волоки его сюда.
Лизавета принесла чемодан. Игнат раскрыл его и сказал:
– У тебя сахара много?
– Килограмма три есть.
– Давай сюда.
– Да зачем тебе столько сахара?
– Еще раздобудь постного масла... И обязательно копченых селедок... Водки, само собой, тоже...
Лизавета не могла понять, для чего Игнату потребовался сахар – уж не самогон ли гнать, друзей поить? Но зачем тогда ему постное масло, и чемодан для чего понадобился? Ошалел от счастья мужик! Но когда она увидела, что Игнат подошел к комоду и, выдвинув ящик, достал полотенце, смену белья и новые чистые портянки, она обхватила его за шею и закричала:
– В Пухляки собираешься? Не пущу!
– Не держи меня, Лиза!
– Новую беду накличешь на себя...
– Должен я туда поехать. Пойми ты это.
– Ой, не к добру едешь. Чует мое сердце, не к добру...
– Не могу я.
– Да что ты там оставил? – заплакала Лизавета. – Меня хоть пожалей.
– Эх ты, глупенькая! – Игнат улыбнулся, покачал головой и ласково сказал: – Что я там оставил? Землю, Лизонька! Вот приеду и посмотрю, как-то она там? Хлеб родит иль ивняком поросла? И дом родной там... И на людей охота посмотреть... Сколько лет вместе прожил... С тем же Тарасом Потаниным... И должны они знать, что я теперь не беглец.
Игнат пытался втолковать Лизавете, почему ему так необходимо поехать в Пухляки, но от понимания истинной причины, вызвавшей эту поездку, он был дальше, чем Лизавета, которая смутно догадывалась, что влечет Игната в родные места. Он быстро собрался, по пути к большаку зашел в цех, чтобы взять увольнительную на два дня, и вскоре уже ехал на попутной подводе в сторону Пухляков.
Зимняя дорога вилась берегом Мсты. На противоположной стороне заснеженная пойма реки сливалась с полями, и все вокруг казалось одним полем, без конца и краю, как будто сзади не было Глинска, а сбоку – хвойного перелеска и поселка, где жили шахтеры глиняных шахт. И нетрудно было представить себе, что где-то неподалеку Пухляки. Они прячутся вон за тем коленом Мсты. Не так ли все его прошлое осталось за крутым поворотом жизни? Как будто очень далекое, но ведь если подумать, то совсем близкое.
Игнат ехал по санной, теперь уже редко встречающейся дороге. Где она, эта дорога, натертая до блеска широкими полозьями, с выбоинами от лошадиных копыт, то белая, словно посыпанная крупной солью, то коричневая от навоза? Ныне зимняя колея – бесконечная тисненная по снегу лента автопокрышек или след железных гусениц, с фиолетовым отблеском пятен солярки. Возница, укутавшись в тулуп, что-то рассказывал о какой-то книге про колхоз, а Игнат и слушал и не слушал его, отдавшись нахлынувшим на него даже не воспоминаниям, а каким-то неожиданно пробудившимся в нем ощущениям. Чем старше становится человек, особенно когда ему близко уже к пятидесяти, тем хуже его зрение, притупляется вкус и осязание, и слух теряет свою прежнюю остроту. Но одно чувство с годами становится сильнее – это обоняние. Как никогда, слышится запах клеверов и спрятавшегося за лесом болота, издалека различаешь, где в поле стогуют сено, а утром по запаху догадываешься, что ночью неподалеку от дома останавливался трактор. Видимо, природа позаботилась о том, чтобы самые неясные, легко исчезающие из памяти ощущения человека не слабели, усиливались с годами и пробуждали в нем какие-то дорогие воспоминания, забытые чувства и возвращали хотя бы на мгновение в молодость.
Сквозь толщу снегов Игнат словно вдыхал запах пряной весенней земли, молодой озими и знойной ржаной пыльцы, когда жаркий июльский ветер несет ее дымкой над хлебами. Такие близкие и дорогие сердцу запахи воскрешали чувство прежней радости, с которой он выходил пахать, косить траву или шел в осеннее холодное и ясное утро на ригу – молотить хлеб. За эти последние годы своей жизни Игнат часто думал: а все же, где лучше работать – у станка и машин на заводе или в поле пахать, выращивать хлеб и лен? И чем дальше была от него деревня, тем больше он склонялся к тому, что все-таки жизнь рабочего человека лучше. Нет у него тех тревог, что у крестьянина, знает всегда, что заработает, и уверен он в своем завтрашнем дне. Но сейчас он думал иначе. Какой толк в рабочей выгоде, если нет в ней крестьянской радости? Пыль помольных цехов, обжигающая жара печей, громовой, оглушающий грохот дробилок. Видения прошлого заслонили перед ним настоящее. Он забыл, как на душе было радостно, когда несколько дней назад вместе с другими монтажниками сдавал в эксплуатацию старую прессовую, забыл чувство гордости и торжества, когда во время монтажа прессов удавалось увеличить их пропускную способность. После белого хлеба разве не хочется черного? Да и можно ли сравнивать их? Каждый сам по себе хорош.
На следующее утро Игнат добрался до Пухляков. Он вошел в деревню и в нерешительности остановился посреди дороги. К кому зайти? Деревня родная, а родных никого. Много знакомых, да не у всякого он желанный гость. И подумал о своем доме. Кто бы там ни жил – он пойдет в свой дом. Еще издали увидел остроконечную соломенную крышу, заснеженный палисадник, ивы под окнами. Только подойдя совсем близко к дому, он вдруг увидел в нем что-то новое, совсем незнакомое. С улицы к дому пролегала не тропка, а широкая наезженная дорога, к окнам тянулись провода, а наружная стена была обшита вагонкой. Но самое удивительное произошло со скворечником. Он помнил – незадолго перед высылкой прикрепил скворечник почти у самой ивовой вершины. И хоть было видно, что скворечник никто не трогал, но он почему-то оказался не на вершине, а где-то на середине дерева, меж запутанных заснеженных ветвей. Да ведь это вершина так высоко поднялась! Сколько лет он не был в Пухляках!
Игнат взошел на крыльцо. Неожиданно в сенях увидел Потанина. Тарас в его доме? Этого он не ожидал. Вот так старый друг! Сразу забылись хорошие слова, с которыми он ехал в Пухляки. Словно встретив незнакомого человека, Игнат спросил:
– Хозяином будешь?
– Хозяином...
– И давненько?
– Четвертый год.
– Я ненадолго. Взгляну и уйду.
Тарас пропустил Игната вперед. Игнат перешагнул через порог, остановился в дверях, оглядел горницу. Да тут никто и не живет!
Стоит несколько столов, на стенах плакаты о льне-долгунце, в простенке между окнами телефон, а в углу шкаф. В его доме колхозная контора! А почему же Тарас – хозяин? Ясно – хозяин. С того дня, как убрали Ефремова, он председатель. За столом сидела девчурка лет восемнадцати. Она щелкала костяшками счетов и даже не взглянула на Игната. «Чья это?» – подумал Игнат и прошел в отгороженную фанерной перегородкой маленькую комнату. Теперь ему легче было говорить с Тарасом, только было неловко, что он с неприязнью встретил старого друга. Взглянул на вышарканную у входа в комнату половицу, подумал: «Вон сколько народу ходит», – и сказал:
– Мне, Тарас, оправдание вышло...
– Знаю... Что ж ты так долго не объявлялся?
– Иной всю жизнь от своего счастья уходит...
– Может, ко мне пойдем? С дороги согреться, да и отдохнуть надо...
И только тут Игнат заметил, как изменился Тарас за эти годы. Куда девались всегдашние стоптанные Тарасовы валенки, его дырявая шубейка с торчащими клочьями бараньего меха? На нем был шерстяной костюм, рубашка с повязанным галстуком. И весь он, от ботинок с галошами до хорьковой шапки, – ну совсем был не похож на прежнего Тараса. Казалось даже, что вместе с валенками и шубейкой исчезла его хромота.
– А ты как городской! Совсем как городской, – сказал Игнат.
– Это как – плохо или хорошо?
– Худого ничего нет, а одет ты не по-деревенски.
– А мне казалось, что вид у меня самый что ни на есть деревенский.
– Скажешь тоже!
– Ей-ей! – Тарас даже приложил три пальца ко лбу, словно готов был перекреститься. – Мужики покупают ботинки, и я тоже. Они костюм, и я за ними. Вот ты тоже городской.
– Я живу в городе.
– А мы в деревне городскими становимся. – И весело рассмеялся. – Ну, пошли!
Они вышли из правленческой избы и направились вдоль деревни. Шли сначала молча, а потом Тарас не выдержал и заговорил страстно, словно вступая в спор с Игнатом:
– Недавно встретился мне один человек – из деревенских – и стал нахваливаться: раньше жили в единоличестве – десять пудов сеяли, сто убирали! И до чего люди брехать охочи! Да ежели такие урожаи были, то с десятины мужику оставалось чистых девяносто пудов. Ну, вычтем еще тридцать пудов – корове, поросенку. Остается шестьдесят. Значит, одной десятиной могла прокормиться семья в пять-шесть человек. Так почему же при семье поменьше, да при наделе в три раза больше, в половине деревни только до рождества хлеба хватало? Мужицкая арифметика! Все, что в прошлом, он умножает, что в настоящем – делит, а что касается будущего, тут не то убавляет, не то прибавляет, мужик себе на уме и решает все в уме – в общем, сумма неизвестна. А у нас в колхозе все ясно. Имеет хозяин и жена его семьсот трудодней – значит, получай сто двадцать пудов! И заметь – чистых! На семена уже запасено колхозом, и что надо на свиноферму и для общественных коров – тоже уже взято. И это, заметь, с урожая всего-навсего шестьдесят пудов.
В дымке зимнего утра перед глазами Игната проплывали дома, изгороди палисадников, тропки к колодцам. Мимо проехала вереница саней, груженных навозом. В проулке близ реки виднелась кузница, и в ее раскрытых дверях искрило голубоватое пламя горна. Они шли на другой конец деревни. На пригорке показался новый скотный двор. Дальше, над гумном, висело облако пыли – домолачивали на тракторном приводе пшеницу. За гумном лежали поля. Игнат вдохнул запах снега и хлеба. Он плохо слушал Тараса. Шел, охваченный своими раздумьями и смутно ощущая какое-то беспокойство. Все в нем было наполнено чувством открытия необыкновенного, удивительного мира, и такого близкого, что он сливался со всем его существом и жил с ним биением одного сердца. Он видел этот новый мир по своим, мужицким приметам, которых, может быть, не замечал сам Тарас. Разве вел когда-нибудь Тарас счет заколоченным окнам в домах своего колхоза? Сколько их было! А теперь раз-два и обчелся. На деньги можно построить новую большую ферму, конюшню, крытый колхозный ток. Богатство! Ну, а может быть, и от щедрот государства. Но какие деньги, какие щедроты наполнят заколоченный дом живой жизнью вернувшегося хозяина, детским смехом, оживленными, хлопочущими бабьими голосами? Только человеческая душа, принявшая новую жизнь, может отбить доски с заколоченного дома. Да и сама жизнь так перестроилась, что назад ходу нет. Не растащишь же трактора по дворам, не расклепаешь пятикорпусные плуги на мужицкие сохи, из большого скотного двора не сделаешь сто хлевов.
Все было полно глубокого смысла. По дороге едет воз с сеном, а на возу парень. И вдруг на повороте воз задевает за край изгороди, и на дороге остается небольшая охапка сена. Парень прыгает на землю, собирает сено и бросает его наверх. Все как будто просто: увидел, спрыгнул, поднял. Да, просто, когда это делается ради своего. Сотни лет воспитывалась в человеке эта привычка! А ради общего, которое еще недавно считалось чужим? Надо было переделать сердце, чтобы это общее стало ему жаль, чтобы ради него он оглянулся, спрыгнул с воза и поднял, как что-то очень ценное для него.
Игнат Тарханов шел по деревне и на каждом шагу видел приметы нови. И по этим приметам ему не надо было никого спрашивать, хорошо ли жить в колхозе. Цветы в окнах домов, груженные навозом сани, кузнец, старающийся из маленького куска железа выкроить хоть подкову, – все подтверждало его наблюдения. Надо быть мужиком, чтобы видеть все эти приметы. Но чтобы за этими приметами ощутить и понять, что стало с душой мужика, для этого надо было оказаться на месте Игната, беглеца, человека, оторвавшего себя от земли. Пережитое дало ему возможность сделать великое для себя открытие. Душа мужика вновь обрела себя в колхозе. Душа стала на место.
– Отстаешь, Игнат, – сказал Тарас, и Тарханову показалось, что тот разгадал его думы.
– Замечтался маленько.
– А ты поспевай! – ответил Тарас и продолжал прерванный разговор: – А хочешь, я тебе секрет открою, отчего вот, к примеру, где-нибудь в Волоке и трудодень низок, и люди уходят из колхоза, а у нас в Пухляках дела идут в гору? Ну, что же тебе сказать? Недавно на окружном совещании попросили опытом поделиться. Выступил, рассказал: в первую очередь, конечно, выполняем государственные обязательства, засыпаем семена. Ну, что еще говорил? Бригадиры, конечно, хорошие, ревизионная комиссия и учет на высоте. В общем, выступаю, а сам думаю: «Нет, не все я сказал. Главного не сказал». И отрубил: «Больше верьте мужику! Раз он пошел в колхоз бесповоротно, дайте ему раскинуть своим умом, как лучше хозяйствовать. Ленин о чем говорил? О союзе рабочего класса с крестьянством! Так как же можно союзнику не доверять? А в этом все. Думаете, я не спорю со своими правленцами? Еще как! Но знают люди: я доверяю им; знают они: сделаю все, а не допущу такого, что может повредить хозяйству. И работают спокойно, в полную силу! Иной раз сам не верю – да неужто это вчерашние единоличники?» Что тут было, как сошел с трибуны! Заврайзо кричит: «Антигосударственный подход у тебя!» – «А в чем он? – спрашиваю. – Не хочу за Волок озимые сеять? Верно! Чтобы плановое зерно собрать, я своим зерном волоковский недосев покрою». Кое-кто не прочь был после такого выступления под меня ключи подобрать. А как подберешь? Колхоз-то впереди! – Тарас помолчал и усмехнулся чему-то своему. – Оно, конечно, характер требуется. Но придет время, и все поймут: нужно ленинское доверие к крестьянину. – Он уточнил:– Доверие к колхознику. В этом все. От этого все. И к этому все идет.
Игнат остановился у Потанина. К дому председателя потянулись пухляковцы. Всем хотелось посмотреть на земляка, узнать, как живет, не думает ли вернуться в колхоз. И весь день на столе у Тараса шумел самовар, и если не стопку водки, то уж обязательно чашку чаю Игнату надо было выпить с каждым, кто приходил его повидать. Близилась ночь, когда наконец они остались вдвоем с Тарасом. Теперь Игнат понял, что привело его в Пухляки, почему он вернулся туда, откуда несколько лет назад его отправили в ссылку. Да, только здесь он мог решить, как жить ему дальше: остаться в городе или вернуться на землю. Пусть не на свою, но все же на землю, которую знает и с которой связаны лучшие годы его жизни. Нет, даже не за этим он приехал. Не выбирать, где лучше. Его позвала к себе земля, и он приехал, чтобы насовсем вернуться к ней. И потому, о чем бы его ни расспрашивали, о чем бы он ни говорил с земляками, для него самым важным было понять, как они к нему относятся. Настороженно или дружелюбно, поверят ли они ему, что он хочет вернуться в колхоз, или в его возвращении увидят корысть – приехал-де, чтобы вернуть себе дом, а там поминай как звали. Он наблюдал за земляками и видел, что они в свою очередь хотят разгадать его, услышать – гостем на день-другой приехал или навсегда жить на земле. Пухляки принимали своего беглеца. И когда Игнат уже готов был во всеуслышание заявить, что он вступает в колхоз, в последнюю минуту возникали какие-то неосознанные сомнения, и он спрашивал себя: да все ли он взвесил, чтобы принять такое важное решение? А тут еще подумал о комбинате. А имеет ли право он, слесарь-ремонтник, бросить комбинат, когда заново переоборудуются старые цехи? Что скажет ему старик Одинцов? Он ухватился за эту мысль, хотя и понимал, что дело не в комбинате. Есть что-то большое, что вызывает в нем сомнения и боязнь сказать свое решительное слово... И странно, эти сомнения усиливались каждый раз, когда возникал разговор о новой, крепко слаженной колхозной жизни в Пухляках. Игнат в душе ругал себя: надо было сначала все обдумать, а потом приезжать, а то вот сидишь, и ни взад ни вперед... И сам же оправдывался: а как было не приехать?
Когда Тарас и Игнат остались одни, Игнат сказал:
– На работу мне, Тарас, поспевать надо.
– С утра на станцию Мсту пойдет за товаром подвода... А там поездом до Глинска доберешься...
– Можно и так, – согласился Игнат.
Они помолчали, потом Тарас спросил:
– А дальше как думаешь? Может, в Пухляки вернешься?
– Не знаю, – чистосердечно признался Игнат. Но тут же, словно озаренный чем-то увиденным и понятым только им одним, твердо произнес: – Нет, не вернусь я в Пухляки... Не могу.
– Подумай...
– Из деревни уйти нетрудно, а вот назад как вернуться? Ни коровы, ни овцы... Опять же хлеба требуется на год. Да и жинка у меня городская... – Игнат говорил нехотя, устало, понимая, что совсем не это заставило его отказаться от возвращения в деревню... Но открыть душу перед Тарасом он не мог. Кто знает: вот если бы Пухляки были плохим колхозом – тогда, может быть, он остался бы... Всякие есть люди – одним подай яблочко на блюдечке, а другие – хоть озолоти их – не пойдут на готовенькое... Тем более он не может... Вдруг случится что – могут и старое припомнить: «Раскулаченный, высланный, знаем мы вас!» Прав не прав, а этот камушек всяк из-за пазухи вытащить сможет... Нет, прощай, Пухляки.
Игнат вернулся в Глинск вечером. Лизавета бросилась к нему, умоляюще взглянула в глаза:
– Ну, говори! Говори! Что же ты молчишь?
– Не поеду, – ответил он сумрачно и подумал: «А она поняла меня лучше, чем сам себя... Ишь как колхоза испугалась...»
Лизавета обняла Игната и облегченно заплакала.
– Спасибо, Игнатушка. Сгубил бы и себя, и меня. Ну что бы тебя там ждало? Одни попреки...
Она словно читала его мысли и переживала вместе с ним его заботы. Но его собственные мысли, произнесенные другим человеком, вызвали раздражение, и, отстранив Лизавету, не раздеваясь, он прошел через кухню в горницу.
– Хватит глупости-то болтать! – Он сказал это с неприязнью и впервые с пренебрежением подумал о жене: «И то верно, разве с такой бабой можно жить в колхозе?»








