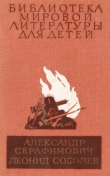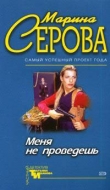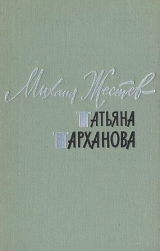
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Шел выпускной вечер.
Когда Татьяна поднялась на сцену, где за длинным, покрытым кумачовой скатертью столом сидели директор школы Станислав Сергеевич, педагоги и представители общественных организаций Глинска, она увидела перед собой актовый зал, заполненный незнакомыми людьми, многие из которых тоже были когда-то в десятом классе, получали аттестат зрелости и выслушивали напутствие в жизнь. Но молодость всегда остается молодостью. Она не задумывается в начале пути о его конце. Жизнь представляется ей такой, какой она ее хочет видеть.
Станислав Сергеевич протянул Татьяне аттестат, крепко пожал руку и почему-то именно перед ней вдруг заговорил о бескрайнем горизонте жизни. Ну конечно, он выделил ее, потому что преподает биологию и считает Татьяну своей лучшей ученицей. Она старалась вникнуть в смысл его слов, но этот смысл ускользал от нее. Хотя она решила стать естественником, ее будущая жизнь представлялась ей очень хорошей, но неясной, лишенной реальных очертаний.
Что значит быть естественником? А конкретно? Преподавать в школе ботанику? Быть лаборантом-биологом в каком-нибудь институте? Естественник может быть и агрономом... Как все было просто в пятом классе, и как все сложно в десятом. Она еще не знает своих склонностей, не решила, чему отдать предпочтение. И хуже всего то, что не с кем посоветоваться... Впрочем, есть с кем, но дома, где ее хорошо знают, не представляют себе, кем может быть естественник, а в школе, где ее считают отличницей, каждый педагог советует ей избрать своей специальностью его предмет. Если их слушаться, то надо стать и математиком, и физиком, и биологом, и географом... Да, легко дать совет другому, но трудно сделать выбор для себя. Оставалось одно: верить, что там, впереди, все решится само собой. Неожиданно она увидела себя в ослепительных лучах нестерпимо яркого света. Кто-то направил на нее прожектор. Что это, предзнаменование? Ее ждет особая судьба? Она видит, что ее фотографируют. Наверное, завтра в газете появится снимок, а под ним подпись: «В добрый час, девушка!» Ну, какая чепуха может лезть в голову, когда не понимаешь, о чем говорит директор! И что он ее держит, как на экзаменах? Скорее бы отпустил.
Но вот наконец директор закончил свое напутствие, вручил аттестаты последним по алфавиту, и после короткого перерыва, во время которого сдвинули к стенам ряды стульев, начались танцы.
Вальс... Он подхватил ее и понес в страну неясных желаний и ощущений. Боже мой, как хороша жизнь! И как велика сила первого школьного вальса на последнем школьном вечере.
Татьяна танцевала с Демидовым, потом ее пригласил Вася Остапенков. Она готова была танцевать со всеми. Коля, Вася, вот, кажется, ее хочет перехватить Егорушка Романов. Она готова с кем угодно кружиться в вальсе, приплясывать в чардаше и скакать в венгерке. Только никто из них не знает, что мысленно она танцует с тем, кого любит. Он в ее сердце. Она не представляет еще, каков он будет, но обязательно встретит его. И он, не зная ее, тоже любит ее, носит в сердце. Только бы случайно не разойтись, узнать друг друга. Демидов, Остапенков, Романов? Ведь они еще мальчишки. Она подумала об этом, танцуя с Егорушкой. А вчера они были ее товарищами. С Колей она даже один раз поцеловалась. Это было в восьмом классе. И все равно они мальчишки. За один вечер она почувствовала себя старше их, более зрелой, и утратила к ним интерес. Ей захотелось быть среди людей, которые не играют в жизнь, а уже вступили в нее, борются, страдают и могут научить ее понимать эту жизнь.
Всех гостей школа, конечно, не могла пригласить к столу. А с другой стороны, без угощения выпускной вечер – не вечер. Поэтому на самой верхотуре, в одной из комнат, где обычно размещались первые классы, был устроен тайный от гостей буфет. Там каждый выпускник мог получить причитающуюся ему порцию портвейна, пирожное, два яблока и бутерброды. Конечно, посетить этот буфет были приглашены и педагоги. Однако сразу сесть всем за стол оказалось невозможным. Кому-то надо было занимать гостей и наблюдать за порядком. И если там, в зале, многие еще чувствовали себя зелеными школярами, то здесь, после рюмки портвейна, они мгновенно повзрослели, у них возникла необходимость высказать свое отношение к жизни, которое они, естественно, считали самым мудрым.
Татьяна так была занята танцами, что только в буфете впервые за весь вечер подошла к Уле. Уля стояла у окна и разговаривала со Станиславом Сергеевичем.
– Я не хочу дальше учиться, не хочу.
– Но ты же окончила десятилетку. Я уверен, что из тебя выйдет отличный педагог.
– Я думаю, что буду и хорошей формовщицей.
– Конечно, всякий труд...
Уля подняла глаза и, не скрывая иронии, сказала:
– А вот вы почти всех перечислили, кто куда идет. А про меня ни слова.
– Я не хотел вносить диссонанс.
– Вы боялись унизить меня?
– Да, как-то отделить от других.
– Напрасно! Я горжусь, что буду формовщицей. Вы меня тем и обидели, что не захотели вносить ваш диссонанс.
Татьяна обняла подругу, прижалась щекой к ее плечу и ласково сказала:
– Улька, перестань бузить. Мы вместе едем в Ленинград.
Уля отстранила ее и все тем же тоном какого-то превосходства продолжала:
– Знаете, Станислав Сергеевич, о чем я сегодня думала, когда вы выдавали нам аттестаты? Что не мы, а вы держите экзамен на зрелость.
– Это как понять?
– Я бы на вашем месте завела тетрадку выпускников, а в ней графу: кто кем стал через пять, через десять лет? Кто знает, может быть, тогда вы внимательней отнеслись бы к их настроениям на выпускных вечерах.
– Как вы можете так говорить, Ефремова? – возмутился директор. – Я начинаю подозревать, что в вас говорит зависть.
– Во мне зависть?
– Улька, замолчи, – пыталась остановить ее Татьяна.
Но Уля словно не слышала ее. Сощурив глаза, она громко сказала:
– Подозреваете зависть? А хотите знать чистую правду? Мне просто противна эта всеобщая лихорадка у вузовских порогов. Я вижу двери, а в дверях люди толкают друг друга, сбивают с ног. Учиться, учиться! А зачем? Спросите многих из них – не знают! Их тянет к легкой жизни, к чистой работе. Это мужичье понимание высшего образования.
– Совершенно верно! И даже к искусству порой подходят с той же меркой...
Татьяна оглянулась и увидела Дроботова. Он ее не узнал и, здороваясь с директором школы, продолжал:
– На днях ко мне в театр пришла одна девица и заявляет, что у нее есть большая просьба. Спрашиваю ее: «В студию хотите ко мне?» – «Нет!» – «На сцену – вы, может быть, раньше играли?» – «Тоже нет». – «Ага, понимаю, вы хотите поступить в театральный институт?» – «Вот именно. Нельзя ли получить от театра туда направление?» Думаете, она хочет быть актрисой? У нее есть влечение к театру? Талант? Нет. Оказывается, из всех дипломов ей кажется предпочтительней диплом театрального института! Он ей больше импонирует... Театральный, видите ли, институт расширяет кругозор и даст ей настоящее культурное воспитание. Это ее слова. И говорит обо всем откровенно, наивно и нелепо, конечно. А в доказательство называет своих подружек, которые поступают в институт, не собираясь быть ни инженерами, ни агрономами... Зачем идут? Так, для общего образования. В общем, как говорится, терять ей в институте нечего, а набить себе цену и заполучить жениха – сможет! – И, словно только сейчас подумав о том, а так ли он говорит при девушках, Дроботов смущенно произнес: – Простите мою откровенность.
– Мы не дети, – поддержала Дроботова Уля. – Иная за женихом не то что в вуз, а на Луну готова полететь...
Дроботов кивнул Уле.
– Хорошо иметь союзников. – И только тут взглянул на Татьяну. – Если не ошибаюсь, вас зовут Танечка, и вы есть та самая девочка, которая...
– Подвела вас, – договорила Татьяна.
– Да, в том турне вы были мне очень нужны.
– Я тогда отца нашла.
– Помню, помню... И очень рад, что снова вижу вас. – И, круто повернувшись, окликнул стоящего у окна молодого человека: – Сергей, иди сюда, я тебя познакомлю... – И представил его Татьяне, Уле и директору школы: – Мой племянник – Сергей Хапров, агрохимик по специальности и тоже рвется в институт, но уже второй раз, и знает чего хочет: звания кандидата наук. Впрочем, должен признаться, для этого у него есть все данные и, насколько я мог заметить, науке предан.
– С такой характеристикой, пожалуй, можно согласиться, – ответил Хапров, протягивая руку Татьяне. – Но она неверна... Не слишком ли далеко только что кончившему институт до кандидата наук? И не слишком ли рано говорить о преданности науке?
– Не притворяйся скромником, – сказал Дроботов.
– Я говорю правду. И в доказательство готов разговор о науке променять на вальс... Таня, вы не возражаете?
Назло всем мальчишкам, которые не терпели чужаков, проявляющих внимание к их девчонкам, Татьяна пошла танцевать с Сергеем. Она не сказала бы, что он танцует лучше Демидова или Романова, но ей всегда казалось, что, танцуя с ними, она кружится сама по себе, а они лишь вокруг нее, а тут она почувствовала уверенную руку Сергея: он вел ее через весь зал, заставляя следовать его движениям, и в этом подчинении была какая-то волнующая и еще не изведанная прелесть.
– Итак, последний день в школе, – говорил он, улыбаясь, и смотрел ей в глаза.
– А через несколько недель – прощай, Глинск.
– Москва, Ленинград?
– Ленинград.
– Филфак?
– Биофак.
– И большой конкурс?
– В прошлом году, говорят, было трое на одно место.
– Не боитесь?
– Нет, но чуть-чуть страшновато.
– Литературы?
– Жизни... Одна, в большом городе.
После вальса Татьяна снова пошла танцевать со своими мальчиками и совсем потеряла Хапрова. Даже забыла, какой он собой. Помнила: высокий, длинные большие руки и, кажется, стриженные ежиком волосы. И все.
Вечер кончился. Музыканты сложили свои инструменты. Актовый зал опустел. Выпускники двинулись сначала к Раздолью, оттуда через новую окраину города свернули на заводскую сторону и как-то незаметно встретили новый день у школы. Всю дорогу шли, держа друг друга под руки и захватив всю улицу, от тротуара до тротуара. Все были уверены – вот так и шагает дружба, вступая в жизнь.
Татьяна возвращалась домой, когда уже поднялось над домами солнце. Еще издали она увидела у калитки деда Игната. Он сидел, низко склонив голову, и что-то вычерчивал на земле коротеньким ивовым прутиком.
– Ты что, деда, не спишь? – спросила Татьяна, присаживаясь рядом на скамейку. – Жарко дома?
– Думы одолевают, Танюшка. Вот сегодня наши плотники из Пухляков вернулись. Плохо там... Сколько лет был хорош Тарас, а тут вдруг перестали его слушаться. Спрашиваю – пьет? Нет! Может, нечист на руку? И сам тому не верю, и люди говорят – честный мужик! Так в чем же дело? А кто его знает! Бегут люди! Кто всей семьей, а кто наполовину. Стараются оставить в колхозе какую-нибудь старушку, чтобы усадьбу не потерять...
– Деда, так чем же ты можешь помочь?
– То-то и беда, что ничем... Ох, трудное ведь это дело – колхоз. Никак загодя не угадаешь, где пройдешь, а где споткнешься.
Игнат вздохнул, потом, словно желая отогнать невеселые свои размышления, спросил, обнимая Танюшку:
– Натанцевалась, повеселилась? Да и от тебя вроде как винцом попахивает.
– Чуть-чуть, какой-нибудь наперсточек портвейна.
– В такой день – можно. Так, значит, скоро в Ленинград?
– Я, деда, буду приезжать на каникулы. Только бы сдать экзамены!
– Ты сдашь. Только объясни мне, Танюшка, такое дело. Вот ты говоришь: биофак, биофак... А как это понять?
– Естествознание, деда. Природа! Понятно? Биология, жизнь природы, как она возникает и развивается.
– Я не о том...
– Кем работать буду? Ой, деда, я и сама еще не знаю. Это так трудно сказать. – И вдруг, вскочив со скамейки, весело воскликнула: – Деда, ты знаешь, что я сейчас вспомнила? Скажи, это правда было, или я все выдумала: мы с тобой на краю поля, и ты говоришь: какая земля красивая! А я совсем маленькая стою рядом с тобой, смотрю в поле, слушаю тебя и боюсь слово сказать: а вдруг исчезнет поле, и за полем лес. А потом мне стало очень жалко тебя, и я тихо-тихо спросила: «Деда, зачем ты уехал из деревни?» Нет, все это я выдумала.
– Нет, не выдумала.
– Значит, кто сделал так, что я пошла по естествознанию? Ты! И ты должен сказать мне, кем лучше быть: учителем ботаники, поступить в лабораторию, а может, стать агрономом?
Игнат словно ничего не слышал. Он молча сидел на скамье и думал: неужто он передал Танюшке свою тоску по земле?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Глинск рос на глазах Татьяны, и ей казалось, что бесконечный людской поток из деревни навсегда оседает в этом городе. Но на вокзале она увидела, что, принимая новых людей, Глинск в свою очередь теряет какую-то часть жителей, которых почему-то не удовлетворяет его жизнь. Объять и понять весь этот сложный процесс перемещения огромных людских масс она еще не могла. Народная мудрость гласит, что от добра добра не ищут. Но если она применима была к тем, кто уходил из деревни в Глинск, то как было объяснить, что из Глинска тоже во все концы страны уезжали люди? Татьяну тоже манил к себе Ленинград. Он сулил ей все, требовал только одного – сдать приемные экзамены. А таких, как она, было в Глинске немало. А сколько уезжало людей, чтобы поступить на работу или просто жить в большом городе? Глинск, вполне устраивавший вчерашнего жителя деревни, для многих коренных его обитателей был наполнен непреодолимой скукой провинциального однообразия, и им представлялось, что стоит приехать в Ленинград или в другой большой город, как вся их жизнь переменится и наступит что-то новое, настоящее, хотя что именно – они сами толком сказать не могли. Если бы Татьяна могла понять все, что произошло за последние годы в Глинске, она бы представила себе волну людей, которые, как и Тархановы, хлынули в город, постепенно занимая не только его окраины, но и угол за углом, комнату за комнатой, квартиру за квартирой на его старых, давно обжитых улицах. А когда там нельзя было селиться, недавний житель деревни устремился в новые дома. Теперь он уже теснил старых, кадровых огнеупорщиков, которых в соответствующих организациях утешали: ну конечно, у вас разрослись семьи, вам тесновато, но ведь в тесноте, да не в обиде. А куда девать пришельцев? Над иными крыши нет. О, этот новый житель города не страдал скукой сбежавшего провинциального обывателя, его не томило какое-то неосознанное внутреннее беспокойство, он смотрел на жизнь трезво и практически. Да разве снилось ему, что придет время – и он займет хоромы, где некогда жил купец, какой-нибудь акцизный чиновник или преподаватель греческого языка? Вот чьи хоромы ему доставались. А вместе с ними он завоевал и город. Шутка сказать – город! Магазины, столовые, кино – все к твоим услугам. И баню не надо топить, и воду таскать не надо, и голиком полы тереть нет необходимости. И милиционеры на улицах! Это они тебя охраняют. И электричество кругом. Это оно тебе светит. И любо по асфальту тротуара степенно пройтись. Чудаки же люди, бросающие такую жизнь! Что им надо, чего ищут по свету? Свою распыленную родню, пристанище для души? Но господь с ними. Освободили квартиры, и за это спасибо. И вот новые хозяева города через семнадцать лет после того, как начали с Раздолья свое вступление в Глинск, посылали сегодня своих детей учиться из маленького города в большой. Это начинало самостоятельную жизнь уже родившееся в городе второе поколение. Дети искали большее, чем нашли отцы.
Поезд из Глинска отправлялся поздно вечером. Провожать Татьяну на вокзал пришли все Тархановы. Даже Лизавета. Последний год она все время прихварывала, а однажды, проснувшись среди ночи, почувствовала, что не может говорить. Но немота сразу же прошла, и ей не придали никакого значения. Только после побаливала правая рука. Ну, да мало ли что болит, когда скоро пятьдесят! То рука, то нога, а то еще поясницу схватит – ни сесть, ни встать. Пожалуй, из всех Тархановых только Лизавета не радовалась тому, что Татьяна уезжает из Глинска. Она так рассчитывала на помощницу – молодую, сильную, которая смогла бы хозяйствовать и по дому и на огороде. У Лизаветы было такое чувство, словно она взрыхлила землю, засеяла ее, и не то что ничего не выросло на этой земле – вырос урожай, и очень хороший, да только вдруг отняли его, не ей он достался. Ради чего старалась? Но она не скажет Танюшке. Пусть едет. И чтобы не подумала – сердита на нее бабка, недовольна чем-то, – надо сказать что-нибудь ласковое, улыбнуться. Но почему так отяжелел язык и лицо словно одеревенело? Да что же это такое с ней? Словно кто-то расколол ее от головы до ног на две половины, и правая половина тянет к земле, а земля вдруг разверзлась, и все рухнуло – деревянный настил перрона, вокзальная крыша, и в голове завыли паровозные гудки, резкие, неумолчные и нестихающие, вызывающие нестерпимую боль.
Игнат едва успел подхватить Лизавету. Кто-то вызывал «скорую помощь», какие-то люди унесли ее в машину с красным крестом, а Игнат шел рядом и только говорил, не будучи уверенным, что она его слышит: «Обойдется, Лиза, все обойдется», – и не понимал, зачем он здесь, на станции, когда у него такая беда. Только после того, как Лизавету увезли, он вспомнил о Татьяне.
– Ты поезжай, а я в больницу.
– Я не поеду!
– Экзамены...
– Я должна знать, что с бабушкой.
– Мы напишем, – сказал Василий.
– Нет, нет, – стояла на своем Татьяна. – До экзаменов еще целая неделя. Я успею.
К перрону подали состав. Василий еще пытался уговорить дочь. Но это было бесполезно. Она твердо решила отложить отъезд и, чтобы положить конец уговорам, не говоря ни слова, сдала в кассу билет.
Татьяна не уехала и вместе с Игнатом прямо с вокзала пошла в больницу. К ним вышел дежурный врач. Словно боясь огорчить их, он сказал, как бы подбирая успокоительные слова:
– У больной правосторонний инсульт... Но никаких особых отклонений от норм нет.
– В себя пришла? – спросил Игнат.
– Больная еще без сознания. Но это естественно...
– Пойдем, деда. – И Татьяна первая направилась к выходу.
На улице Игнат неожиданно спросил:
– Постой, как он эту болезнь назвал?
– Инсульт.
– А что это за болезнь?
– Ну как тебе сказать? – Татьяна замялась, слово «паралич» она произнести не рискнула и ответила неопределенно: – Инсульт – это кровоизлияние... Понимаешь, сосуд лопнул... Ну, вот...
– Правосторонний, – с облегчением произнес Игнат после разъяснения внучки. – Коль с правой стороны – значит, не так опасно. Далеко от сердца. Так что давай завтра езжай сдавать экзамены.
Татьяна промолчала.
Лизавету разбил правосторонний паралич. Пока она лежала в больнице, Игнат и Василий еще пытались уговорить Татьяну ехать учиться. Ну чего торчит девка? Иль без нее они не управятся по дому? Но когда через месяц больную вернули домой, все разговоры об учебе прекратились. Лизавета была совершенно беспомощна. Кому, кроме Татьяны, было под силу ухаживать за ней? Игнату, Василию? Каждый из них был в два раза сильнее Татьяны, но у обоих вместе было меньше терпения, им не хватало ее умения обращаться с больной.
Самыми трудными для Татьяны были утренние и вечерние часы, когда совершенно беспомощную Лизавету надо было поднять и обмыть, перестелить ей постель, а потом, поддерживая одной рукой, терпеливо кормить, делая при этом вид, что ухаживать за ней легко и даже приятно. Татьяна помнила, что ей сказали в больнице: «Если вы хотите, чтобы больная быстрее выздоровела и чтобы дома у вас была нормальная жизнь, сохраняйте спокойствие и соблюдайте чистоту». И Татьяна всеми силами старалась это выполнять, хотя ох как нелегко это было, тем более что бабка с каждым днем становилась грузней и капризней. Как-то само собой случилось, что в уходе за Лизаветой ей перестали помогать Игнат и Василий, они свыклись с тем, что Татьяна взяла на себя заботу о доме и больной, и считали, что помощи от них и не требуется. Да и быть иначе не могло. Не в их характере долго переживать горе. С ним надо смириться. И, если можно, стараться не замечать его. Правда, как могла, Татьяне помогала Уля. Но по вечерам она часто была занята на курсах техминимума, и нередко ее помощь заключалась лишь в том, чтобы отвлечь подругу на какой-нибудь час от тяжелых домашних забот.
Так прошли лето и осень. И каждый день Татьяны был похож на другой и одинаково труден. Она вставала чуть свет, топила печь, готовила завтрак, отправляла отца и деда на работу. Потом она спешила к Лизавете в маленькую комнату, откуда уже доносился жалобный голос больной. Она притворялась веселой:
– Держись, бабушка, крепче, сейчас мы с тобой умоемся, приведем себя в порядок. Ого, смотри, да у тебя уже лучше нога движется, а как рука? Молодец, бабушка! Скоро совсем поправишься!
Напрягая все силы, она поднимала Лизавету, мыла, потом осторожно опускала и переодевала. Ох, как это было тяжело! И когда истощались последние силы и терпение, она убегала в кухню и там, припав к столу, горько плакала. Ну что она может поделать? И опять шла к больной... Но, пожалуй, самым трудным была необходимость торговать на базаре. Уж лучше день и ночь ухаживать за больной. Она всегда не любила базар, а тут эти недоуменные взгляды знакомых. «Татьяна Тарханова торговка? Но зачем тогда было кончать десятилетку? И кажется, она собиралась в Ленинград?» А не торговать было нельзя. Нужны были деньги. Много денег. Особенно на Лизавету. И на питание, и на лекарства, и чтобы каждую неделю отдавать в стирку белье. Быть ко всему прочему прачкой – на это ее уже не хватало. Вся в домашних заботах, вверженная в ограниченный трудный мирок, она все же тянулась к большой жизни и любила по вечерам слушать, как дед с отцом разговаривают о делах комбината, или расспрашивать Улю про ее работу, скоро ли та станет настоящей формовщицей. Игнат, конечно, видел, что Татьяне нелегко, он понимал, на какую жертву пошла она ради него и Лизаветы, и за это платил ей своим доверием, уважением и прежде всего тем, что считал ее хозяйкой дома. Он давал ей все деньги, не требовал отчета в расходах, а когда Василий делал дочери какое-нибудь замечание по хозяйству, он становился на ее сторону:
– Мы с тобой Танюшке не указ! Что к чему – ей виднее...
Со дня болезни Лизаветы прошло каких-нибудь шесть месяцев, а Татьяне казалось, что ее обрекли на домашнее заключение много лет назад и что за это время она стала совсем старая, так она изнемогла и устала. Но даже в этой жизни у Татьяны были свои маленькие радости: пойти на часок к Ульке, сходить за лекарством в аптеку, вырваться в кино.
Февральским вечером Татьяна зашла в аптеку. Но не успела она получить лекарство, как к ней подошел высокий человек в меховой ушанке и короткой меховой куртке, спросил, словно не веря себе:
– Простите, вы – Таня Тарханова? Я не ошибся?
– Да, но я вас не знаю.
– Вспомните выпускной вечер... Сергей Хапров!
– Это было так давно.
– Ну вспомните, мы с вами танцевали вальс.
– Не помню.
– Сергей Хапров...
– Ах, Хапров, извините! – Татьяна вспомнила: ведь их познакомил Дроботов. И они действительно танцевали вальс.
Они вышли из аптеки, и Хапров сказал:
– Вы очень изменились... Но постойте. Вы ж хотели ехать учиться... Не сдали экзамен?
– Семейные обстоятельства, – уклончиво ответила Татьяна. – Пришлось остаться дома. – И сама спросила: – А как ваша аспирантура? Поступили?
– Готовлюсь. И хоть я еще далеко не аспирант, но уже собираю материал для будущей кандидатской диссертации.
– Вы агрохимик? У вас, наверное, очень интересная работа.
– Я люблю ее. Поле, лаборатория, почвенная карта. Но для вас это, может быть, неинтересно.
– Расскажите...
– Берешь рюкзак и направляешься в поле за образцами земли. Многие думают: земля и есть земля. Но это неверно. У нее различный химический состав, разные свойства...
– Когда-то мне говорил об этом по-своему дедушка. Давно, давно, я была совсем маленькой.
– Он ученый, почвовед?
– Крестьянин, имел свою землю.
– И он то же самое говорил? Это же замечательно! Вы меня обязательно познакомьте с ним.
– Хорошо, наверное, ходить по полям?
– Хорошо! Когда я в поле, я чувствую себя путешественником, открывателем неведомого, если хотите Колумбом, Дежневым, Пржевальским... – И, круто повернувшись к Татьяне, спросил: – А не кажется ли вам, что для первого, в сущности, знакомства я болтаю сверх меры? Только честно.
– Говорите, рассказывайте, я вас очень прошу. Я понимаю вас.
– Я беру пробы почвы и читаю землю, как книгу... Уже сейчас я могу написать историю многих полей, их прошлое, настоящее и предугадать их будущее. Почвенная карта должна быть книгой колхоза! Читайте ее, понимайте, и вы будете предсказателем судьбы людей.
– Какой вы счастливый, Сережа!
Неужели она сказала это вслух? А не все ли равно. Да, она завидует этому человеку, завидует всем, кто имеет свою цель в жизни, учится, работает и не прикован, как она, к постели больной, к дому. Никому нет дела до ее судьбы. Да и никто не может ей помочь. А она устала. И в голову приходят самые страшные мысли. Только смерть бабушки может освободить ее... Не хочешь, а думается так. Какая ты дрянь, Танька! Даже иногда раскаиваешься, что отказалась уехать из Глинска. Но все же отказалась. Очень любила бабушку? Нет, по-настоящему они никогда не были близки. Осталась потому, что любит деда? И все это не то. Она, наверное, больше всего любит себя. Даже готова захныкать перед чужим человеком. Ах, какой вы счастливый! Ну и пусть!
Впереди мелькнули огни Раздолья. Татьяна остановилась.
– Дальше вы меня не провожайте.
Хапров услышал в ее голосе отчужденность и, подавшись вперед, заговорил быстро и словно умоляя о прощении:
– Какой я дурак! У вас, наверное, горе, а я надоедаю вам своей болтовней. Скажите, что у вас? Почему вы не поехали учиться?
– Вы мне не поможете.
– Но расскажите. Куда же вы?
Но Татьяна уже была далеко. Она не шла. Она бежала.
Дома на кухне горел свет. Когда Татьяна вошла, она увидела за столом деда и отца. Отец взглянул на нее, потом снова повернулся к деду и сказал сурово:
– Раз Таня здесь, пусть и она послушает. Так вот, батя, больше не допущу, чтобы моя дочь в няньках около больной ходила и еще год потеряла... Надо нанять человека, а не найдем, попросим кого-нибудь из соседей днем заглянуть.
– Бабушка услышит, – испуганно сказала Татьяна.
– Спит она, да и дверь прикрыта. – И Василий продолжал, настойчиво требуя от отца ответа: – Ты пойми, батя, сколько она еще пролежит. Может, год, а может, два.
– И мне Танюшка не чужая. – Игнат порывисто встал, но тут же снова опустился на табуретку. – Только как быть с Лизаветой? Что дитё беспомощная. Как оставить ее на весь день, доверить чужим людям?
– И о Татьяне тоже надо думать. Погляди, на девке лица нет...
Татьяна не вмешивалась в спор. Со стороны могло показаться, что он не имеет к ней никакого отношения. Да и не могла сказать, с кем она. Отец как будто защищал ее интересы, он требовал то, о чем она все время думала, но внутренне, как ни странно, она была с дедом, ее горе уже казалось ей ничтожным рядом с его горем, и когда отец спросил, что же она молчит, Татьяна только отмахнулась, словно хотела сказать: ничего я не знаю, не приставайте ко мне! Но когда дед ушел в горницу, а отец стал стелить себе за занавеской в кухне, она пошла за дедом.
– Тяжело нам с тобой, деда... – И припала к его плечу.
– А что же делать, внучка?
– Ты не слушай, что отец говорит. Я никуда не поеду, я буду здесь. С тобой и бабушкой. – И вдруг расплакалась. – Все работают, у всех есть своя жизнь, а у меня ничего нет.
– Потерпи, Татьянушка. Бог даст, поправится Лиза.
– Ты только не сердись на меня, деда. Я сама не знаю, почему заплакала. А так я сильная. Я все могу. И знаешь, я начну с сегодняшнего вечера готовиться к экзаменам.
Она взяла с этажерки стопку книг. Физика, химия, литература... С чего начать? Она присела к столу и раскрыла учебник физики. Посмотрела, перелистала несколько страниц и отложила в сторону. Нет, лучше взять химию. Ее самый любимый предмет после биологии. Итак, химические соединения... Но что это за формула? Она старалась вспомнить и не могла. Неужели она все перезабыла? Сколько же времени ей нужно на подготовку, даже если бабушка выздоровеет? И что хуже всего, она не только все перезабыла, она просто не понимает многого... Ей хотелось броситься к деду, заплакать, закричать. В восемнадцать лет ей казалось, что жизнь ее кончена.