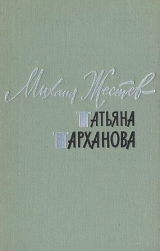
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– Не выдумывай! – крикнула Татьяна. – В газете ни слова о космополитизме.
– Надо читать между строк! Вот Ульяна Ефремова сразу уразумела. Подкованней тебя в политике. Где она сейчас? У Матвея льет слезы сочувствия? А может быть, в парткоме? Тогда тоже слезы, но раскаяния. Во всяком случае, эта история с Матвеем сделает характер сестрицы более гибким и освободит меня от ее моральных наставлений.
Татьяна уже не слушала Федора. Так вот в чем обвиняют Матвея. Пусть! И все равно его защитят. Ее ведь защитили! И Белку спасли. Так неужели на том же комбинате он не найдет защиты? На комбинате, где его все знают и который он строил вместе с дедом Игнатом! И стоило ей подумать о деде, как она ощутила в себе необыкновенную силу. Кто-кто, а дед Игнат первый заступится.
Не попрощавшись с Федором, Татьяна выбежала на улицу. У автобусной остановки она увидела Улю.
– Ты куда?
– К Сухорукову.
– И я с тобой.
Когда Уля и Татьяна пришли в партком к Сухорукову, то, к своему удивлению, они увидели там деда Игната. Старик был рассержен, его седовато-рыжая борода торчала во все стороны, и сам он, возмущенный, наседал на Сухорукова, считая, видимо, его ответственным за все, что имеет отношение к комбинату.
– Ты, Алексей Иванович, можешь на меня смотреть как хочешь! Твое дело. Но в обиду я Матвея не дам. Ишь, выдумали, как это его черти называют? Сам ты только-только сказал это слово.
– Космополитизм...
– Вот именно, я в этом самом раскосполитизме не разбираюсь, но про Матвея я тебе скажу прямо: хотите – милуйте его, хотите – казните, был он мне за сына, сыном останется! Я его обучил, как лопату держать, и знаю, какой это человек.
– Ничего еще не случилось, Игнат Федорович.
– Ничего? Вот так ничего. На весь город человека ославили. И еще, Алексей Иванович, скажу: я в партийные дела ваши не мешаюсь, но мои дом – его дом, и оттуда мы с ним будем правду искать. – Игнат увидел Улю и, подойдя к ней, спросил: – Где Матвей? Ступай разыщи, пусть перебирается ко мне.
– Его с квартиры не гонят.
– Когда у человека такое случилось, должен быть на людях.
Уля что-то хотела возразить, но смолчала.
– Я пойду к нему, – сказала Татьяна.
– А тебя зачем принесло? – спросил Игнат, заметив наконец внучку.
– Мы с Улей.
– И без вас все сказано. Дайте человеку хоть воскресенье отдохнуть.
– Ничего, ничего, – сказал Сухоруков. – Садитесь, девушки. Я понимаю, зачем вы пришли.
– Матвей Осипов – мой жених, – смело и прямо смотря Сухорукову в глаза, проговорила Уля. – И я хочу знать, в чем его вина.
– Ни в чем, – ответил, не задумываясь, Сухоруков. – Ни в чем. Я его справку читал и считаю ее правильной.
– Выступление Дролева – подлость.
– Да, но беда в том, что есть подлости, которые трудно опровергнуть. В статье ничего не выдумано. Но вывод клеветнический. Надо опровергать подлую точку зрения.
– Но как это сделать?
– Пока не знаю.
– Ты, Алексей Иванович, не знаешь, так я знаю, – и Игнат решительно направился к дверям.
– Постой! – Сухоруков заставил его вернуться и присесть к столу. – Говори, что надумал? Кровь тархановская взыграла?
– Я этому Дролеву покажу, как хороших людей изничтожать.
– Во-первых, сегодня воскресенье и редакция закрыта, а во-вторых, тут такое дело, что правоту свою кулаками не докажешь.
– А человека невиновного в обиду давать – это правильно?
– Прежде всего нельзя пороть горячку, – сказал Сухоруков, пытаясь успокоить Тарханова. – Кое-что мне удалось узнать. Хоть статью писал Дролев, но материал прислан со стороны.
– По мне, все одно, – возмущенно отмахнулся Игнат.
– Нет, есть разница. Я выяснил, что в редакцию сначала поступило анонимное письмо за подписью группы рабочих... А это очень важно! Почему рабочие не захотели назвать своих фамилий? А может быть, никакой группы нет, а все писал один человек? И вовсе не рабочий. Ты, старина, понимаешь, к чему я все это говорю?
– Вот когда скажешь: «Не дам Матвея в обиду», я пойму, – решительно ответил Тарханов.
– Да ты пойми, чтобы не дать Осипова в обиду, мне надо доказать, что редакция поддалась на письмо, написанное в корыстных целях.
– Но при чем тут цель? – вмешалась в разговор Татьяна. – Редакция видела справку? Ведь так ни за что можно осудить человека!
Но прежде, чем Сухоруков ответил, зазвонил телефон.
– Я слушаю, – сказал Сухоруков и протянул руку за карандашом. – Да, читал... Мое мнение? Думаю, что редактор газеты, испугавшись, как бы его не обвинили в космополитизме, поспешил увидеть космополитизм там, где его нет... Что, что? Не может быть! А кто эти люди? Опять группа рабочих? В редакцию написала группа, к вам тоже группа... Теперь для меня все ясно. – И, повесив трубку, он повернулся к Игнату. – С прокурором говорил. Он тоже получил письмо. И тоже от группы рабочих. Но с другой песней. Неспроста Осипов раздувает дело Князевой. Хочет набросить тень на коллектив огнеупорщиков.
Сухоруков рассмеялся.
Ульяна резко поднялась.
– И вам весело?
– А почему бы нет? – ответил Сухоруков. – Теперь для меня ясно, что в обоих случаях автор один и тот же. Мало этого: автор не кто иной, как подпольный фабрикант фотооткрыток... Разве это не обнадеживающе? И еще: я считаю неудобным плакать, когда на душе весело, но когда на душе больно и горько, то, честное слово, иной раз полезно и посмеяться.
– Но кто же этот собачий сын? – спросил Игнат.
– Поищем, так найдем, – уверенно произнес Сухоруков. – Хотя искать будет нелегко.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Василий с Сандой уехали в октябре по дороге, осыпанной багряными кленовыми листьями и покрытой на лужицах тонким прозрачным ледком. До отъезда из проданного дома оставался месяц, а нового жилья Тархановы еще не имели. Конечно, Игнат без особого труда мог бы найти комнату в Раздолье, но жить квартирантом там, где все напоминало бы о прежней самостоятельности, не хотелось, и он искал жилье на заводской стороне. Найти же что-нибудь подходящее было нелегко. То комнаты маловаты, то надо было ходить через хозяйскую половину, то кухня была тесновата, а ведь Игнат, главным образом, подбирал такое жилье, чтобы Лизавета могла быть хоть немного независимой и хлопотать, как ей хочется, у своих чугунов. Никогда еще Игнат не жил под чужой крышей. У него был свой дом в Пухляках, и он построил свой дом в Глинске. Даже в самые трудные годы, когда он был беглецом, он нашел себе пристанище в халупе Лизаветы. Но он не жалел потери приобретенного и не испытывал никакого желания вернуть потерянное. То, что когда-то казалось ему самым необходимым, теперь представлялось совершенно излишним. Вот только бы не очень низкий потолок был, а то ночью бывает трудно дышать. А так – не все ли равно, чья фамилия красуется на жестянке, что прибита к углу дома.
И здесь ему на помощь пришел человек, о котором он как-то забыл в эти послевоенные годы. Им оказался давнишний его знакомый, механик Петр Петрович Одинцов, который, вернувшись после войны в Глинск, ушел на пенсию и теперь по-прежнему жил в своем доме на Буераках. Когда был построен этот дом, вряд ли знал сам Петр Петрович. Одноэтажный, с двумя пристройками, он был когда-то приспособлен для жилья тех первых огнеупорщиков Одинцовых, которые положили начало керамическим заводам в Глинске. Может быть, их было три брата, а может быть, отец с двумя взрослыми сыновьями. Но с той поры все Одинцовы жили в этом доме. Воевал в гражданскую войну Петр и после войны сюда вернулся, воевал в Великую Отечественную войну его сын и тоже сюда вернулся. Шли годы, за это время Глинск разросся. Он поднял над Мстой кварталы и целые улицы новых домов. Рядом с ними хибары Буераков казались невзрачными и дряхлыми. И все же потомственные керамики продолжали жить в отчих халупах, носить воду из колодца и мыться не под душем в белых ваннах, а ходить в баню, где к тому же иной раз приходилось стоять в очереди в ожидании свободного шкафчика. Новые дома заселялись пришельцами из деревни. Но обитатели Буераков не очень-то жаловались и сетовали. Их убедили, что новожилы Глинска в жилплощади нуждаются больше, да и многие просто не хотели покидать поколениями обжитые места, где все как бы подчеркивало их рабочую знатность и преемственность старых династий, и съезжали из старых домов при крайней необходимости. Конечно, не последнюю роль в этой приверженности к своей старой халупе играло то обстоятельство, что все-таки в ней человек был сам себе хозяин, он не мешал соседям, и соседи не мешали ему.
Вот сюда, на Буераки, в одну из пристроек одинцовского дома и переселился со своей небольшой семьей Игнат Тарханов. Он как бы попал в другой город, в другую жизнь. В отличие от Раздолья, на Буераках жили основательней, хотя почти никто тут не держал коров и не торговал овощами на базаре. Здешние люди не имели земли, никогда не вели крестьянского хозяйства, и в то же время они выращивали свои сады, ухаживали за яблонями с тем же чувством радости, с каким когда-то он выращивал свою Находку. Бывало, наглядеться не мог на резвого, стройного жеребенка, думал лишь о его красоте и чувствовал, что из глубины души вот-вот вырвутся такие хорошие слова, которых никто, кроме него, не знает. Все в жизни Буераков как-то устроено было лучше. В семьях не было того, чтобы один залетел в поднебесье, а другой сидел за тюремной решеткой. Тут сыновья шли дорогой отцов, обгоняя их на этом пути. Тут не все равно было, где работать дочери – на комбинате или поступить куда-нибудь в артель. В жизни детей невидимо присутствовали отцы и деды. Их жизнь во многом определяла профессию потомков. И никто из этих потомственных рабочих людей не бил себя в грудь: «я рабочий класс», как это часто, бывало, он слышал в Раздолье, где у этого самого рабочего класса еще на сапогах навоз не просох. И тут по ночам стояла тишина. Разве посмел бы внук какого-нибудь знатного горнового идти по улице и орать пьяные песни? Да чтобы его пьяным не увидели, парень пробирался домой через сад, уже трезвея от одной мысли, что он может попасться на глаза деду. И ни один вор не селился здесь на постоянное жительство, а заглянуть сюда из другой части города опасался и подавно, хотя никто не закрывал дверей на тяжелые замки, не держал овчарок и не стоял над Буераками в ночи собачий перебрех.
С переселением на Буераки началась новая полоса в жизни Игната. Жизнь стала и беднее и богаче. Беднее жильем и домашней обстановкой, особенно погребом. В погребе у Лизаветы уже не было припасено на зиму кислой капусты, грибов и моченой брусники. Все это приходилось покупать в магазине и хотя в общем-то не обходилось дороже, но вот беда: государственную капусту квасят в огромных чанах и уж больно она кислая, грибы – те ничего, но все же не то, когда каждый грибок сам проверишь, и, что там говорить, брусника в магазине не того вкуса, а брусника ох как нужна и для сердца, и от ревматизма, и, говорят, даже кровь она очищает от всяких микробов. В общем, во всякого рода соленьях крупное производство еще не на высоте.
Но зато богаче стал Игнат временем, своими раздумьями, теми неожиданными чувствами, что пришли к нему после переезда в Буераки. Если в Раздолье у него было чувство, что он тоже один из тех, кто покинул деревню и где-то внутри, наверное, еще остался мужиком, то на заводской стороне он потерял это ощущение своего далекого крестьянского прошлого. Теперь все, что связано с деревней, не было для него чем-то личным, хотя стало более кровным. О деревне, о ее делах он думал с позиций государственных и по-государственному. Так же, как много лет назад думал старик Одинцов. Не крестьянин, а ведь болел за деревню. Впрочем, разве их роднит только то, что они рабочие? Они рабочие, но и крестьяне. Только разного времени прихода в город и разных поколений. Ох, трудный был этот год для Игната! Арест Санды, продажа дома, а тут еще Татьяна стала невестой Федора, и вот эта беда с Матвеем. Говорят, сердце человеческое с кулак. Какое там с кулак, когда оно столько горя вмещает! Нет океана глубже человеческого сердца, и нет мира необъятней его. Все горести человеческие умещаются в сердце, и еще остается место, чтобы полюбить такую, не совсем складную человеческую жизнь.
В новом корпусе бригада Тарханова устанавливала конвейер для подачи отпрессованных изделий к автоматическим туннельным печам.
– Игнат Федорович!
– Бригадир, тебя кличут, – сказал паренек, помогавший Игнату выверять конвейерную цепь.
Игнат взглянул вниз и увидел Сухорукова.
– Я сейчас, Алексей Иванович!
– Не сходи! Пойдешь с обеда, зайди в партком.
Все утро было беспокойно: что за дело у Алексея Ивановича? За последнее время столько было всяких бед и неприятностей, что невольно думалось: ну вот, еще что-то стряслось. Тут уж не до обеда. И сразу из цеха Игнат пошел в партком. Сухоруков понял: старик встревожен. Вот уж эта наша манера – вызвать человека, а зачем – не сказать.
– Ты извини меня, Игнат Федорович. Спешил очень, ну и не хотел тебя отрывать от дела... Вообще, получилось для тебя одно беспокойство. Давай садись! Посоветоваться с тобой хочу. Ты давно в Пухляках не был?
– В войну разок пришлось побывать. А вот Тараса Потанина совсем недавно видел, в сентябре, пожалуй. Хотел ему Василия своего механиком сосватать, да не вышло. В Хибины уехал.
– Ну, а что Потанин про колхоз рассказывал?
– Жаловался – людей мало осталось, специалистов никаких нету, ну и еще на старость свою... Шестьдесят стукнуло.
– Какая же это старость?
– А нынче каково председателем колхоза быть? В колхозе десять деревень, хозяйство не то что глазом не окинешь, за день не объедешь. Тут резвость знаешь какая нужна! А в шестьдесят, по себе знаю, – где посидеть, а то и полежать охота. И чтобы люди тебя не тормошили, и чтобы беспокойства не было...
– Пришло письмо из Мстинского райкома. Просят нас – может, подберем им в Пухляки председателя колхоза. Жалко Тараса. Может быть, и не в нем дело. Столько лет проработал, человек такой опыт имеет. Сам Тарас не говорил, что хочет уйти с председательской должности? Ты пойми, Игнат Федорович, ведь знаешь, я Тараса выдвинул в председатели, двадцать лет хорош был, а тут мне же говорят: давай другого, негоден стал твой Тарас.
– Это я понимаю, Алексей Иванович. Только и другое в виду надо иметь. В колхозном деле, будь ты и золотой и добрый, а не можешь с делами справиться – хуже злого окажешься. Может быть, веры нет в Тараса, потому и плохо в колхозе дело? Бывало, и в единоличном хозяйстве все шло наперекос, коль сыновья в батьку не верили. А тут не двор, а десять деревень! Так что, ежели просят председателя подобрать, надо подобрать. Только вот кого?
– Есть один человек.
– Я его знаю?
– О нем и хотел посоветоваться.
– Кто же это такой?
– Матвей Осипов.
– Так он же не деревенский!
– Хлеб он, верно, никогда не сеял, – согласился Сухоруков. – Ну а ежели рядом, в помощь, Тараса поставить?
– Тараса? – задумался Игнат. – А что ж? – И решительно сказал: – С Тарасом у них дело пойдет. Матвей – он мозговитый! Ему десять деревень не масштаб.
– Раз не масштаб, – улыбнулся Сухоруков, – тогда вызовем Осипова.
Вечером после работы Матвей пришел в партком. Сухоруков взглянул на его седые волосы и подумал: и сорока нет, а, наверное, выглядит старше Тараса. Но жилистый, подвижной. С чего начать разговор? Сложное у человека положение.
– Вызывали меня, Алексей Иванович?
– Поговорить хочу. Садись. Ну, прежде всего о твоем деле. Ты знаешь мою точку зрения. Тебя оклеветали, и я это прямо сказал в горкоме...
– Но тем не менее горком не стал решать вопрос.
– Надо сначала найти анонима.
– Но редакция с этим анонимом согласилась? И я требую одного: либо признайте, что я виновен, либо назовите клеветника клеветником.
– Послушай, Матвей, ты возмущен, я возмущен, но от этого тебе не легче. Но горком решил оказать тебе доверие как коммунисту и хорошему работнику.
– Мне доверие?
– Да! Поедешь председателем колхоза в Мстинский район?
– В колхоз? Председателем? – на мгновение лицо Матвея вдруг просветлело. Но следом оно стало еще более хмурым. – Это моральная компенсация? Нет, я коммунист и там, где идет речь о принципиальных вещах, не пойду на компромисс. Виновен – исключайте из партий, наказывайте. А оклеветали меня – защитите, не дайте в обиду, накажите клеветника. Только после этого я скажу, согласен ехать в деревню или нет. Только после этого!
Матвей вышел из парткома и не спеша, в раздумье направился к проходной. Его ответ Сухорукову был прямой и решительный, а сейчас его охватило сомнение: а правильно ли он поступил как коммунист? Имеет ли он право ставить партии какие-то условия: разберите мое дело, и тогда я поеду, куда меня посылают? Но должны же понять и его положение. Ну как ехать в деревню председателем колхоза, обвиненным в космополитизме, оклеветанным, с запятнанной честью? Нет, он правильно решил: обвинение или оправдание, а тогда хоть на край света. Раздумья Матвея были прерваны Улей. Вместе с Татьяной Тархановой она ждала его у проходной.
– Как ты долго... Зачем тебя вызывал Сухоруков?
– Предложил ехать председателем колхоза.
– Значит, дело твое решили?
– И дело не решили, и председателем посылают... Я отказался.
Уля ничего не ответила. Молча втроем они миновали проходную и вышли на центральную улицу заводской стороны. Матвей первый нарушил молчание. Весело, словно сбрасывая с себя какую-то невидимую тяжесть, он громко произнес:
– Девчата, предлагаю пойти в кино. А так как я нагнал на вас уныние, то обязан понести все материальные издержки, необходимые для изгнания этого уныния. Нет возражений?
Девчата были согласны на все, лишь бы отвлечь Матвея, и, подхватив его под руки, двинулись в кино. И вдруг у самого кинотеатра Матвей замедлил шаги и тихо сказал:
– Ничему не удивляйтесь, идите за мной. – Он провел их мимо ярко освещенных рекламных окон на другую сторону улицы, свернул за угол и, остановившись, с прежней таинственностью проговорил: – Вы заметили бородатого дядьку у входа в кассы?
– Такой здоровый, в помятой шапке? – спросила Татьяна.
– Торговцы фотооткрытками воспрянули духом! – усмехнулся Матвей. – Но сейчас меня гораздо больше интересует сам дядька. Таня, подойди к нему и купи несколько открыток. Потом отойди и снова вернись: спроси, нельзя ли достать карточки на целый альбом. И скажи, что после сеанса у входа в кино ты его будешь ждать. Понятно?
– И все?
– Больше ничего.
– А мне что делать? – спросила Ульяна.
– Сейчас выясним.
Они видели, как Татьяна подошла к торговцу, купила у него открытки – и вошла в кино. Но тут же снова вернулась. Человек в помятой шапке внимательно оглядел ее и повел к соседнему дому. У ворот он остановился и что-то сказал. Татьяна раскрыла сумочку. Матвей тихо выругался:
– Черт возьми, неужели у нее не хватит денег? Ведь ясно – нужен задаток. – И тут же тихо рассмеялся: – Заплатила...
– Матвей, кто этот человек? – тихо спросила Ульяна.
– Ты его не знаешь....
– Но кто он?
– Старый знакомый. И не мешай... Видишь, пошел открытки добывать для альбома.
Они двинулись следом. Ульяна – не понимая, какого старого знакомого старается не упустить из виду Матвей, а Матвей – вдруг почувствовав себя охотником, выслеживающим старого опасного зверя. Так вот кем ты стал, бандит с большой дороги? И сила уже не прежняя, и идешь сгорбившись, и вот... промышляешь фотокарточками... Эх, Банщиков, Банщиков, видно, плохие твои дела. Он вызывал ненависть и иронию, желание броситься на него, задержать, и какое-то чувство брезгливости оттого, что придется бороться с этим человеком. Если бы не эти лошадиные зубы – он никогда бы его не узнал... Матвей старался себе представить, что мог делать эти двадцать лет человек, который, обрезав ремни трансмиссии, вывел из строя механическую, спровоцировал драку в столовой и хотел убить Тарханова. Сначала, конечно, был в бегах, потом снова где-нибудь устроился и снова занимался своим грязным делом. А в войну, наверное, отсиживался в каком-нибудь лагере... Но как он может так судить о человеке, ничего не зная о нем? Конечно, фотооткрытки уже о многом говорят. И все же... Он мог все эти годы работать, хорошо воевать. А фотооткрытки – так, случайность. И в то же время какое-то внутреннее чувство не хотело признать эту слабую попытку оправдать человека, который когда-то с ножом бросился на Тарханова. Неожиданно Матвей остановился и, продолжая следить за Банщиковым, быстро сказал:
– Уля, немедленно позвони Сухорукову... Нет, так ничего не выйдет... Ты следи, а я быстро добегу до милиции. Но смотри, не упусти... Он явно идет в Раздолье.
Матвей оставил Ульяну и быстро зашагал к милиции. Но едва он вышел на большую улицу, ведущую к речному взвозу, как неожиданно идущая ему навстречу легковая автомашина подошла вплотную к тротуару и резко затормозила рядом с ним. Только после этого он увидел сидящую рядом с шофером Татьяну, и какой-то человек открыл дверцу.
– Потеряли? – спросил незнакомец, и тут только Матвей узнал следователя, который вел дело Князевой.
– Езжайте в Раздолье.
– Садитесь, быстрее.
Они нагнали Ульяну уже в Раздолье. Она сидела на скамейке у чьих-то ворот и смотрела куда-то вдоль улицы. Матвей выскочил из машины:
– Где он?
– К Чухареву зашел.
– Ты не перепутала? – усомнился Матвей. Но тут же бросился обратно к машине. – Пошли, товарищи!
Они столкнулись у калитки с Банщиковым. Он нес завернутую в газету толстую пачку фотооткрыток. Следователь спокойно взял пачку и передал ее Татьяне:
– Это, кажется, вам предназначено?
Банщиков рванулся к забору.
– Не сюда, – преградил ему дорогу следователь. – Придется вернуться в дом… Вот так, прошу.
В окно промелькнуло испуганное отечное лицо Чухарева. Но когда следователь вошел в дом, там никого не было.
– Сбежал, в отчаянии проговорил Матвей. – Как мы его упустили?
– Хозяин дома сам избрал меру пресечения, – сказал весело следователь и, нагнувшись, открыл вход в подпол. В темноте, скорчившись на ступеньке лестницы, трясся Чухарев.
Поздним вечером Матвей и Сухоруков сидели в парткоме, и Матвей рассказывал об обыске в доме Чухарева.
– Подпол на всю горницу, а там сразу два производства: фотооткрыток и патефонных пластинок. А пластинки выпускались на конвейере. Радиоприемник, магнитофон, пластинки. И что ни пластинка – заграница и джаз. Ну, и еще нашли копии писем: в редакцию и прокуратуру. Чухарев испугался, что дело Князевой может привести к его дому, и сам пошел в наступление. Мы об этом догадывались, но теперь, когда разоблачили Чухарева, это ясно... И все же я не уверен, что из всего этого сделают нужный вывод. Надо больше доверять честным людям, не судить о них по анкетам, а знать, кто чем дышит. Нам в нашей практической жизни не хватает человекознания. Мы хорошие социологи, но еще плохие психологи. И социальные типы у нас существуют иной раз вне человеческих характеров. Это неведение нам дорого стоило. И еще может дорого обойтись. Вот вам Чухарев. Я помню, как он грозился: рабочий класс из мужиков, он вам покажет. Это Чухарев раскрывал свое сердце, свои чувства. И раскрыл в подпольном производстве фотокарточек и воспроизводстве заграничной джазовой музыки. А по анкете у него все в порядке: из середняков, агроном, работал на комбинате, воевал. Вы уверены, что такой, как Чухарев, в трудный час будет на нашей стороне?.. Ну, ладно. А теперь один вопрос к вам, Алексей Иванович. В Мстинский район подобран председатель колхоза?
– Мы ждем вашего ответа.
– Тогда можете сообщить в горком – я согласен.
На следующий день Уля зашла к Сухорукову.
– Тебе Матвей рассказал о вчерашнем нашем разговоре? – спросил секретарь парткома.
– Мы вместе едем в Пухляки. Я беру расчет.
– И тебя не смущает, что придется жить в деревне, где знают твоего отца?.. Ну, в общем, ты понимаешь меня.
– Именно поэтому я и еду. И я хочу работать там, где все люди знают, откуда я, кто мой отец и кто я сама. Мне нужна ясность в жизни и ясность на душе.
Он посмотрел на нее внимательными, добрыми глазами. А ведь она вышла из чужой для него среды, скажем прямо, из кулацкой среды. И вот сейчас он думает о ней: как было бы хорошо, если бы все комсомольцы и даже кое-кто из тех, кто родился, вырос в что ни на есть рабочей семье, если бы они были все так идейны, дисциплинированны, принципиальны, как она. Откуда у нее все это? Задумывалась ли она над этим? Вряд ли! Ей, наверное, нравится, что она такая же, как все. Но не все такие, как она. Конечно, она воспитывалась советской школой, всей нашей советской жизнью. И все же... И тогда он подумал: она воспитывалась в нашей общей семье, но в этой семье она чувствовала себя приемной дочерью. И если иную родную дочь мы баловали, задаривали, то ее воспитали строго и справедливо. И, как часто бывает, приемная дочь сохранила на всю жизнь любовь и чувство благодарности к своей не родной по крови семье, а иная родная дочь оказывается совсем другой, она всю жизнь считает, что семья должна ее обслуживать, и покидает ее, не оставляя в своем сердце ни любви, ни уважения к ней. Это было открытие для Сухорукова, и, чувствуя необходимость сказать Уле что-то хорошее и доброе, такое доброе, чтобы она поняла, что она уже не приемная, а родная дочь партии, он проговорил:
– Только уедешь после того, как мы тебя из комсомола в партию передадим.
Сборы Матвея и Ули были недолги. Они уезжали, как уезжают по мобилизации, как на фронт. Без громоздких вещей, без долгих прощаний, чтобы сначала взяться за работу, а потом уже наладить свою жизнь. Близилась весна, близилась битва на полях. Накануне Улю приняли в партию, потом вечером она с Матвеем зашла попрощаться с Сухоруковым и посидеть часок у Тархановых. Вот и все проводы. Тихие, спокойные, без всякой торжественности, если не считать напутственного слова Игната Тарханова, для которого отъезд Матвея имел особое значение. Даже в лучшие минуты своей жизни он чувствовал себя неоплатным должником деревни. Хлеб он ест, а от земли ушел. И вот теперь он может считать свой долг хоть немного оплаченным. Василий не вернулся к земле, так Матвей едет в Пухляки налаживать жизнь. А Матвей за сына. И ничего не сказать ему в напутствие? Ну, как так можно! Но для такого слова нужен подходящий момент. И он наступил, когда Игнат пошел провожать Матвея и Улю в Раздолье. Они шли по широкой раздольской улице, той самой, которой он, Игнат, много лет назад положил начало, и под весенними звездами мартовской ночи, когда небо кажется необыкновенно прозрачным и высоким, когда из-под тающих снегов уже пахнет землей, Игнат говорил о том, что, наверное, много лет вынашивал в своем сердце.
– Хороший ты человек, Матвей. Настоящий человек! И люблю я тебя. Думаешь, я забыл, как ты меня от смерти спас? Не забыл и по гроб жизни не забуду. Дружбой нашей мы, так сказать, смерть попрали. Знаю, как в войну ты себя показал. Не всякому было под силу в первый год ее партизаном быть. Это не осенний листопад сорок третьего года. И многим ты заплатил за войну, от всякой сволочи пострадал. Недаром седой. В общем, так скажу. В сердце у меня ты вровень с Василием. А может быть, и родней. Я тебя научил, как землекопом быть, – это ты знаешь. А вот знаешь ли, Матвей, что и ты меня учил, как жить? Ну да это все к слову. А я тебе о другом хочу сказать. Не обижайся только. Не раз я о тебе думал. О твоей жизни думал. И чудится мне, что ты хоть по дороге идешь правильной, а все же вроде как обочиной, к стенке жмешься. Не как хозяин идешь, чего-то стесняешься, все думаешь: а так ли ступил? Выбрось ты это из головы! Хозяином чувствуй себя. Как я, как Василий, как Сухоруков. А сейчас, когда едешь в Пухляки, будь хозяином особенно. Тебя мужики любить будут. Ты мне поверь. Сам мужицкого рода и мужиков знаю. Они любят, чтобы человек их считал хозяевами и сам был таким. Ну, давай поцелуемся, сынок! Ежели что обидное сказал – прости. Но тебе, Матвей, всегда этой самой земли не хватало. Как хлеб посеешь, вырастишь его, сразу силу почуешь. А ты, Ульяна, береги мужа. Скажу по совести, хочешь обижайся, хочешь нет, а хотел бы, чтобы у моей Татьяны был муж не как твой брат Федор, а такой, как Матвей. Ну да ладно. Прощай и ты, дочка. Будьте счастливы!
Проводы по железной дороге суетны и лишены торжественности. Другое дело, когда машина подходит прямо к крыльцу. Тут нет звонков, тут после погрузки вещей вы имеете время войти в дом, помолчать в родном кругу и торжественно, не спеша попрощаться с провожающими. И главное, никто из посторонних не видит вашего расставания, проводы действительно становятся семейными, и если вы искренне опечалены разлукой, вам не надо за внешней веселостью прятать свою грусть, а если вы безразличны или даже довольны, что наконец расстаетесь с неприятным вам родичем, то нет необходимости на виду у посторонних людей скрывать, что вы с нетерпением ждете свистка паровоза.
Матвей и Уля покидали Глинск на присланной из колхоза автомашине. И хотя проводы были, как полагается, с водкой и без особой торопливости, и даже на минутку молча присели – Татьяне показалось, что их унесло весенним ветром. Только остался во дворе печатный след колес на снегу да ссадина на воротах, которые задел неосторожный шофер.








