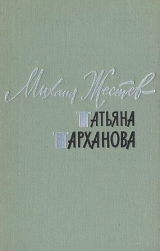
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
– Не найдешь – не возвращайся.
Татьяна поняла это буквально. Поискала в канаве, на дороге – нигде нет. Пошла на край Раздолья, присела на скамейку у чьей-то калитки. Что же теперь делать? Ветер гнал пыль из Раздолья в поле. Потом все стихло. Сумерки опустились на землю. Неслышно подошел Игнат.
– Идем домой, полуночница.
– А тюбетейка? – спросила Татьяна.
– Была бы голова.
– Но мама сказала, чтобы я не приходила.
– Вот как, – рассмеялся Игнат. – Так я тебя принесу. – И, подняв ее на руки, словно защищая от незримой грозной опасности, понес домой.
Он шел через ночное Раздолье. От дома к дому его провожал собачий лай. Ишь, развели! И откуда в Раздолье взялась эта тяга к собакам? Из деревни? Да в крестьянском дворе собаку держат не для охраны, а для удовольствия малым ребятам и полного комплекта домашних животных. А может, собаку привела мужицкая боязнь за свое добро, недоверие к незнакомым соседям? Так или иначе, расплодилось собачье племя, размножилось, и по ночам над Раздольем стоит такой перебрех, что слышно в Глинске. Игнат усмехнулся. Весной из-за собаки он даже с Лизаветой поругался. Ну зачем им четвероногая охрана? Назло ему или чтобы Татьяна не водила во двор мальчишек? А может быть, показать себя хозяйкой дома? Так пусть будет ею. И пусть живет как хочет. Своим домом, огородом, базаром. Каждому свое. И, думая так о Лизавете, он в то же время понимал, что с ней пройдет всю жизнь до конца своих дней, что надо как-то примириться с ее характером и не замечать ее недостатков – иного выхода нет. Великое счастье найти себе хорошего спутника. Но когда выбор оказался неудачным и надо терпеливо нести свой крест до конца – требуется мудрость.
Татьяна забралась в свою кровать, что стояла в сенях, и сразу заснула. Ее разбудил громкий голос. На кухне горел свет, и она слышала, как мать сказала отцу:
– Хватит, больше с девчонкой я возиться не буду.
– Да что она тебе далась...
– Твоя любимица всегда права.
– Перестань.
– Нет, не перестану. Не обязана я из-за чужой девчонки страдать!
– Вон как заговорила?
– Ищи ее отца! А не найдешь, отдавай в детдом. Тебе она внучка, а мне она кто? Никто! Думала за мать ей быть, а она вон какая!
– Никуда она не пойдет. Матери у нее нет, умерла, а отец неведомо где.
– Хочешь, чтобы я ушла?
– Уходи! Только допрежь я тебе бока за твою дурь намну. Чтобы помнила: была замужем за Игнатом Тархановым.
Лизавета сразу утихла.
А Татьяна лежала ошарашенная, безмолвная, еще толком не осознавшая услышанное. Привычные представления о близких людях, все ее чувства к ним – все казалось разрушенным, и ей уже было неважно, что отец принял ее сторону и решительно защищает от нападения матери. Все было ничтожно перед неожиданно раскрывшейся тайной. Мать – чужая ей женщина. Не мать, а самозванка, присвоившая себе то, что ей никогда не принадлежало.
Не сразу до нее дошло, что Игнат – дед, отец отца, очень близкий ей человек. В сумятице мыслей и чувств не так-то легко было преодолеть всю эту неожиданно возникшую неразбериху родственных отношений. Только после этого она в состоянии была осмыслить нечто более важное: ведь у нее была и настоящая мать и настоящий отец. А теперь она одна. У нее нет ни матери, ни отца. Да, отца тоже нет. Где он? Если мать она жалела, мысленно оплакивала, то ее отношение к отцу было двойственно. То ей казалось – он бросил ее, не хочет знать, и тогда все ее существо охватывало возмущение и ненависть к этому неизвестному человеку. То, повинуясь чему-то доброму, она думала о том, что отец ее любит, но почему-то не может приехать. И тогда ее сердце смягчалось. Она представляла себе, как он ее найдет и возьмет к себе. И все-таки как тяжело сознавать свое одиночество. Ведь еще несколько минут назад такое простое и жалостливое слово «сирота» на ум не приходило. Она, Татьяна Тарханова, сирота! Она не заснула. Ее охватило забытье. И лицо застыло в каком-то страхе, словно где-то там, за окном, в близком утре ее полузакрытые глаза видели огромное надвигающееся горе.
Когда яркое июньское солнце разбудило Татьяну, то первое слово, которое она услыхала, было «война!» Спросонья она никак не могла понять – с кем война? Какая война? Наверное, это говорят про нее и Лизавету. Между ними война. А может быть, мальчишки затеяли какую-нибудь там войну? И вдруг услыхала воющий гул самолета. Затем в той стороне, где дымила ГЭС, раздался взрыв.
Игнат крикнул:
– Бомбят комбинат! – и выбежал на улицу.
Так, значит, настоящая война. И не от того, что упала бомба, а от сознания этой простой истины ей стало страшно.
Детство, казалось, осталось где-то в далекой тишине минувших лет, хотя ее отделяло от него одно лишь мгновение.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Татьяна никому не сказала о подслушанном ночном разговоре и по-прежнему называла Игната отцом, а Лизавету матерью. Но с того первого дня войны она жила лишь мыслью о неизвестном, родном ей человеке. Как найти его? Она даже не знает, как его зовут, почему он оставил ее. Кто ей расскажет о нем? Конечно, легче всего спросить обо всем у деда. Но это простое было самым трудным. Ее сердце заполнил другой человек, и она понимала, как тяжко будет деду Игнату узнать, что она уже не считает его своим отцом.
Он по-прежнему был ей дорог и близок. Особенно в те дни, когда после суток бессменной работы, усталый, еле волоча ноги, приходил домой и, сумрачный, садился за стол к горшку картошки.
– Опять наши отошли, – сокрушенно говорил он и тер слипающиеся от бессонницы покрасневшие глаза. – Псков отдали, Новгород...
Как-то он сказал Лизавете:
– Война, а ты дома сидишь. Пойдешь в мою бригаду смазчиком.
– А как же с огородом? – спросила Лизавета. – Картошка вся в земле, капуста не убрана.
– Как-нибудь втроем уберем. Не днем при солнце, так ночью с фонарем.
– С фонарем нельзя, – предупредила Татьяна. – Затемнение.
– А мы фонарь синькой выкрасим.
Теперь, когда Лизавета пошла в цех на комбинат, Татьяне часто приходилось до глубокой ночи быть одной в доме. После школы она убирала комнаты, копала картошку или срезала кочны капусты и с тех пор, как началась война, ни разу не играла в войну. Теперь она и ее сверстники были участниками настоящей войны. Они помогали рыть щели во дворах, выносили воду к дороге, когда по ней шли к фронту воинские части, и внимательно следили за светомаскировкой. Город Глинск оказался особым городом. Он не стал фронтовым, но он не был и тыловым. Линия фронта к осени проходила где-то километрах в восьмидесяти. Из Глинска эвакуировали на Урал оборудование комбината. Остались лишь механические цехи, где делали снаряды и минометы. В Глинске расположилось санитарное управление фронта, и это придавало городу особый отпечаток. Глинск был городом-госпиталем.
Трудно сказать почему, но после бомбежек первых дней войны Глинск не знал налетов. То ли он не представлял для немцев большого значения, то ли они, рассчитывая на дальнейшее продвижение, берегли его для собственных тылов, так или иначе, а небо над городом давно не оглашалось воем фашистских самолетов. И какой-то шутник-солдат в госпитале пустил слух о том, что в Глинске живет теща Гитлера, потому его немцы и не бомбят. Этот слух расползся по городу, и некоторые старушки, принимая его за истинную правду, приглядывались друг к другу. Что поделаешь, война тоже шутит. И, случается, между боями дает солдату час-другой даже насладиться жизнью. Особенно когда он оказывается в таком городе, как Глинск.
Но зимой над Глинском неожиданно разразилась бомбовая гроза. Это был даже не налет. Фашистские «юнкерсы», не допущенные к Ленинграду, чтобы освободиться от опасного груза, в беспорядке сбросили бомбы над Глинском.
В этот день Татьяна возвращалась из школы как обычно, около двух часов дня. Шла не спеша, понимая, что торопиться ей некуда и незачем. Уроки готовить? Какие там уроки! Задают их мало, а спрашивают совсем не строго. Нет, чем сидеть одной до вечера и ничего не делать, лучше дольше побыть на улице. А может быть, пойти к кому-нибудь из девочек? И уроки вместе сделают, и погуляют. Можно успеть покататься с горы. Ведь еще не скоро стемнеет. Но прежде чем Татьяна решила, к кому из подружек ей пойти, в тишину зимней улицы ворвался протяжный вой воздушной тревоги. В Глинске к нему привыкли, за ним обычно не следовали налеты, и Татьяна продолжала свой путь. И вдруг она услышала прерывистый гул самолетов и взрыв, от которого качнулось небо, задрожала земля и где-то за Раздольем рванулось ввысь пламя. Налет, бомбят... Взрыв, еще взрыв... Татьяна бросилась к канаве. Скорей зарыться в снег. Нет, лучше спрятаться за забором... Вот за тем, что около магазина. Она металась из стороны в сторону, то падала на землю, то поднималась и снова куда-то бежала. Кто-то схватил ее за руку, и в следующую минуту она увидела себя в погребе, рядом с какой-то девочкой, чье лицо в полутьме трудно было разглядеть.
Когда бомбежка утихла, девочка сказала:
– Я все видела. Ты, Тарханова, как сумасшедшая бегала.
– А ты кто?
– Я Уля Ефремова.
– Ты из пятого «а»?
– Да.
– И тебе не страшно?
– Страшно, – призналась Уля. – Но бегать нельзя... Сразу убьют...
Они вышли из погреба, Татьяна спросила:
– Я очень боюсь, можно, я к тебе пойду?
– Пойдем... Ты ела?
– Спасибо, я не хочу...
– Когда поешь, не так страшно.
Уля Ефремова жила на другом краю Раздолья. Старше Татьяны на полтора года, она перед войной лишилась матери и в тринадцать лет была уже полновластной хозяйкой дома. Она топила печи, готовила для отца и брата Федора, даже распоряжалась их деньгами, которые они давали ей на общий семейный стол. Уля накормила Татьяну, а потом пошла ее провожать. Они шли держась за руки, как будто подружились давным-давно. И, наверное, оттого, что Татьяна чувствовала руку Ули, ей уже не было так страшно.
– Жалко, что ты из пятого «а», а я из пятого «б». Вместе уроки готовили бы...
После недавней бомбежки пахло дымом, гарью и болотом. Теперь было ясно, что сброшенные бомбы упали в поле за Раздольем – и если не считать выбитых стекол, они не причинили особого вреда.
– А как же теща Гитлера? – весело спросила Татьяна.
– Убита! – ответила Уля. – И больше не воскреснет...
У дома Татьяну встретили Игнат и Лизавета.
– Слава богу, жива...
– Хорошо, что Уля затащила меня в погреб.
– Все равно ничего бы с тобой не случилось, – сказала Уля. – Ведь бомбы упали в поле.
С этим трудно было спорить. И все же Татьяна считала, что Уля ее спасла. Ей хотелось чувствовать рядом с собой кого-то старше и опытней себя, чувствовать друга, который оберегал бы ее.
После бомбежки Тархановы заколотили дом и переехали жить на комбинат. Игнат работал по-прежнему бригадиром-ремонтником и, как старый солдат, был назначен еще помощником начальника противовоздушной обороны комбината. Они поселились в одном из бункеров старой котельной, переоборудованной и приспособленной под жилье.
Татьяна временно оставила школу, и ее жизнь оказалась подчиненной комбинатскому расписанию. В семь утра она вставала и шла вместе со взрослыми в столовую. Туда же она спешила к двум дня на обед и в восемь вечера к ужину. Она не работала и одна из первых занимала очередь в столовой для Лизаветы и Игната. На это преимущество вскоре обратили внимание их соседи по бункеру и стали поручать Татьяне занять очередь и для них. Она стала как бы управляющей очередью.
– Танюша, где я стою?
– За Иван Васильевичем.
– А я где?
– За Иван Петровичем...
– А где моя очередь?
В бункер попадали через подвал, где всегда стояла вода. Надо было пройти по узкому деревянному настилу, и сделать это в полумраке едва освещенного подземелья было не так просто. Женщины не раз звали на помощь Татьяну. С «летучей мышью» она выводила их из бункера. Одни в шутку звали ее «Том Сойер из бомбоубежища», другие – «комендант бункера», и как-то так случилось, что Игнат стал посылать ее в цехи по делам штаба ПВО. Она стала связной. Ей выдали ватные брюки и ватную куртку. Новая одежда сделала ее шире в плечах и скрыла худобу. Высокого роста, она могла сойти теперь за шестнадцатилетнюю. Только мягкий детский овал лица да походка выдавали в ней двенадцатилетнюю девчонку. Но она этого не знала и сама себе казалась в ватнике совсем взрослой. Вот бы на нее посмотрела Уля! Теперь, пожалуй, еще не известно, кто из них может считать себя старшей. Татьяна хотела съездить в Раздолье, но ее не отпустили. Тогда она написала Уле письмо, пригласила к себе. Уля ответила лаконично: ездить на комбинат и искать ее там у нее нет времени. И как бы между прочим просила передать родителям, что она присматривает за их домом и особенно за изгородью, которую долго ли растащить на дрова. По вечерам Татьяна не раз увязывалась за Игнатом и вместе с ним обходила посты ПВО. Случалось, их заставала воздушная тревога. В такие минуты ей очень хотелось оказаться в надежном бомбоубежище, но ничего не поделаешь, приходилось быть при командире и следовать за ним по цехам. Лизавета волновалась:
– Ну где вы пропадали?
– Исполняли службу.
– Горе мне с вами.
Лизавете было тяжело. В сорок лет нелегко лазить с масленкой по трансмиссиям механического цеха. Но война есть война. Да к тому же лучше самая тяжелая работа, чем день и ночь беспокоиться за Игната. Не молодой уж, за пятьдесят перевалило. И по вечерам, когда не было воздушных тревог, она чувствовала себя даже счастливой. Вся семья вместе, живут хоть и не очень сытно и не дома, а в тепле.
Война как-то заставила ее забыть свою неприязнь к Татьяне. Что ей жаловаться на приемную дочь? Может быть, даже хорошо, что она такая самостоятельная. Таким война не так трудна. Ну, а что дальше будет – зачем об этом думать? С ней Татьяна или не было бы ее, все равно надо с Игнатом век свой доживать, ежели только войну переживут.
Татьяна любила вечера, когда они втроем сидели в углу бункера и, отделенные от других повешенным на веревке одеялом, разговаривали о своих семейных делах, о доме, в который они обязательно вернутся весной. Жизнь в доме представлялась совсем иной. Все свое будущее Татьяна связывала с отцом, а с ним все будет по-другому. Она должна его разыскать. Но как это сделать? Прежде всего надо узнать его имя. Ведь ее отчество не по отцу, а по деду.
Однажды, когда Лизавету вызвали по каким-то делам в цех, Татьяна спросила Игната:
– А у тебя только я одна? Никого больше не было?
– Был сын.
– А как его звали?
– Василий.
– А где он?
– Без вести пропал.
– Как так без вести? Уехал и ничего не написал?
– Может, и написал, да я тоже уехал, вот и потеряли один другого.
– И больше у тебя никого, никого не было?
– Кроме тебя, никого.
Теперь она знала, что ее отца зовут Василием. Василий Игнатьевич Тарханов. Значит, она может начать поиски. Но как начать? Написать в Москву? А куда? Есть главный адресный стол. Но ведь отец, наверное, воюет. Значит, надо писать в Москву, военному командованию. Там должны знать, где какой солдат воюет. Однако вскоре она отказалась от этого плана. Зачем ей посылать куда-то письмо и ждать, пока наведут справки да ответят, – ведь самое простое объявить по радио, как это делают другие, и отец сразу узнает, что его ищет дочь. Как это раньше она об этом не подумала? И в тот же вечер она втайне от своих написала в Москву письмо, где просила дорогую радиоредакцию объявить по всем городам и фронтам, что Василия Тарханова разыскивает его дочь Татьяна Тарханова, которая живет в Глинске, на комбинате огнеупоров.
Она не сомневалась, что радио поможет ей в розысках и что, бесспорно, отец ее услышит. Но прежде чем услыхал ее тот, к кому она обращалась, ее услыхали те, от кого она так тщательно скрывала свои поиски. Как-то вечером, когда в бункере было полно народу, голос диктора объявил:
– Продолжаем передачу писем родных и знакомых. Василий Игнатьевич Тарханов. Вам пишет ваша дочь Татьяна Тарханова. Она сейчас живет в городе Глинске, ее адрес...
В первое мгновение Татьяна от радости даже бросилась к репродуктору. Вот оно, письмо! И сейчас, наверное, ее слышит отец! Но, увидев перед собой растерянное лицо Игната и смущенную Лизавету, она поняла, что совершила страшную ошибку.
Схватив ватник, она выбежала из бункера. Во дворе у штабеля ее нагнал Игнат.
– Кто тебе сказал?
– Слышала, как вы говорили. Перед самой войной.
– Понятно! Так вот что, Танюшка. Пока Василия нет, я тебе отец, а Лизавета мать. Ясно? А найдется отец, перейдем в другую должность – деда и бабы.
– Где отец? Почему он не с вами?
– Не знаю.
– Он бросил меня?
– Ничего он о тебе не знает. И мы о нем тоже ничего не знаем...
Зимняя ночь. Без огней, глухая в своем кажущемся безлюдье и, пока небо в тучах, сулящая спокойный сон, без воздушных тревог и бомбежек. Пользуясь нелетной для фашистских «юнкерсов» погодой, через город к фронту бесконечной вереницей тянутся колонны машин, формируются за каменной стеной комбината воинские эшелоны. Как хороша облачная темная зимняя ночь! Пройдут годы, закончится война, и люди вновь будут восторгаться лунными ночами и звездным небом. А пока пусть их не будет над Глинском совсем. Именно в такую ночь Игнат мог спокойно оставить свой объект и на пустынном берегу Мсты, сидя на заснеженном валуне, рассказать Татьяне и об отце, и о матери, и о том, как он, дед, оказался ее отцом.
Они вернулись в бункер, когда все уже спали. Татьяна сняла ватник, широкие длинные ватные штаны и легла на топчан рядом с Лизаветой. Раньше она не раз думала о том, что вот около нее лежит чужая женщина, которая только по какой-то странной и непонятной ошибке стала ее матерью. После той ночи в канун войны Татьяна очень просто объяснила свои раздоры с Лизаветой. Какая она мать! С родной дочерью иначе бы разговаривала, да и не смотрела бы на нее придирчивыми, злыми глазами. Татьяне казалось, что ее, сироту, мачеха обижает и что это так – подтверждали книги, которые она читала, хотя бы та же «Золушка», уж не говоря о других бесчисленных сказках, где мачехи всегда злы. Думать так было удобно. Виноватой всегда казалась Лизавета, и при случае можно было даже всплакнуть, вспоминая при этом самые жалостливые слова из самых трогательных рассказов о судьбе сироток. И вот сейчас, когда Татьяна уже знала, как Лизавета стала ее матерью, привычное неприязненное чувство к ней исчезло: как будто ничто не изменилось, а мысли Татьяны приняли совершенно неожиданный оборот, и то, что прежде возмущало, теперь вызывало раскаяние. Ведь Лизавета действительно была ей матерью. А разве нет? Она совсем не обязана была заботиться о ней. И ночи недосыпала, и чуть свет вставала. Ради кого? И, охваченная одним желанием искупить свою вину, Татьяна прижалась к Лизавете, обняла ее и, целуя, тихо сказала:
– Прости меня, мама. Я тебя очень люблю.
И почувствовала, что щека Лизаветы мокрая от слез.
Рядом на столике, словно метроном по радио, тикали размеренно и успокаивающе большие серебряные часы деда Игната. Ночь была тиха и не сулила тревог.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Татьяне уже не надо было скрывать свое сокровенное желание найти отца. Но слышал ли он радио? Вместе с Игнатом она высчитывала, сколько может идти письмо из самого отдаленного уголка страны. Выходило месяц, не больше, даже если учесть, что в войну письма ходят дольше. Ну, а вдруг отец ничего не знает, не слышал радио? Она спросила Игната:
– Когда ты воевал, было на фронте радио?
– Тогда про радио кое-что хоть и слыхали, а какое оно – и в глаза не видели.
– А сейчас есть?
– На передовой вряд ли. Ну, а на командном пункте обязательно.
Письма от отца все не было...
Еще зимой было решено, что комбинат создаст свое подсобное хозяйство, и заведующей этим хозяйством была назначена Лизавета.
– Жаль, меня не спросили. Как это можно завзятой огороднице доверить такое дело?
Игнат подтрунивал над Лизаветой, а в душе гордился. В трудную пору войны не скулит, не хнычет, не хуже других работает на производстве. Вот тебе и огородница! Не понимал бабу. А сейчас он хитрил, притворялся, что его не спросили, прежде чем назначить ее заведующей подсобным хозяйством. С ним говорили. Понимал – нелегко будет Лизавете, понимал – и ему трудно будет. Но знал: ежели Лизавета возьмется за дело – заставит землю родить. Будет комбинат обеспечен и картошкой и капустой.
Вскоре на завод пришел наряд на семенную картошку. Надо было съездить на базисный склад фронта, узнать, что за картошка, как ее оттуда вывезти. Все это было поручено сделать Игнату. И ранним утром он выехал на одну из ближайших к Глинску станций.
Склад фронта находился в одном из бывших совхозов, и с контрольно-пропускного пункта Игната направили на край поселка к картофелехранилищам.
– Там, во втором слева, их картофельная канцелярия, – сказал бородатый солдат.
Тарханов без особого труда разыскал картофельную канцелярию. В небольшой, оклеенной газетами комнатке сидел за столом не кто иной, как земляк Игната, бывший агроном Семен Петрович Чухарев. Чухарева нетрудно было узнать, но вид у него был такой изнуренный и болезненный, что Тарханов невольно спросил:
– Ты, Семен Петрович, здоров ли?
Чухарев не ответил. Он молча взял у Тарханова наряд и повел его из пристройки в дальнее картофелехранилище. Игнат осмотрел семенной картофель и договорился, как лучше весной перебросить его в Глинск. Они возвращались по тропке, ведущей к станции. Чухарев шел впереди, поскрипывая хромовыми сапогами и позвякивая связкой ключей. Неожиданно он остановился и сказал Игнату:
– Вспоминал я недавно твоего Василия.
– С чего это?
– Слыхал, как по радио дочка разыскивает его. Ну как, отозвался?
– Пока никаких вестей нет.
– Дурак он, что ли. Сидит небось в своей ссылке, и нет ему ни бомбежек, ни артогня, ни переднего края. Эх, зря мы эту войну затеяли.
– Не мы ее затеяли, нам ее навязали.
– Все одно – война. Сколько людей сгубили.
– Твоя передовая – картофелехранилище. Что тебе? – зло сказал Игнат.
– А ныне всюду передний край. Меня вот сегодня утром чуть не убило. Ехал с фронта – под артогонь попал.
– Так бы сразу и говорил, – усмехнулся Тарханов. – Спужался, вот и идет от тебя дух нехороший.
– А может, он идет не только от меня? Вот мы с тобой про Василия твоего говорим. Ведь не знаешь, где он? А вдруг он не в ссылке?
– Не в ссылке да жив – так воюет.
– Только где воюет?
– Фронтов много.
– Да еще у каждого фронта две стороны. Одна наша, другая немецкая.
– И в партизанах воюют.
– И в полицаях ходят.
Игнат схватил Чухарева за грудь.
– Говори начистоту, что знаешь про Василия?
– Ничего я не знаю про него. – Чухарев отвел руку Игната и спокойно продолжал: – Ты мне про дух, и я тебе про дух.
– Так какое же у тебя право о сыне моем так говорить? Да за такие слова я знаешь что с тобой сделаю?
– Брось, Тарханов, я тебе добра хочу.
– Добра? – крикнул Игнат. – Твое добро хуже дерьма! Да ежели мой Васька где-то там у немцев, в полицаях, я его своими руками прикончу.
– Твой сын – твое дело. А я тебе, как человек вхожий в штабы, хочу совет дать. Отрезанный ломоть Василий. Пропал без вести – и точка. А ты ищешь. Чего ищешь? Свою погибель. Да знаешь, что с тобой и со всем твоим семейством сделают, ежели окажется, что твой Василий – полицай?
– Никогда Тарханова сын не будет предателем.
– А ты знаешь, кто такие полицаи? В колхоз гнали – к немцам загнали. И воюют они за свою землю.
– Какую землю? – ожесточенно выкрикнул Игнат.
– Мужицкую.
– Да ежели немец нас одолеет, не видать нам жизни. Дурачье только этого не понимает. А сволочь знать не хочет. Рассчитывает – может, за подлость что-нибудь перепадет. Нет, не мужики эти люди, а сволочи.
– А из кого же немцы себе помощников вербуют?
– Из таких, как ты! – бросил ему в лицо Игнат и, круто повернувшись, пошел к станции.
Он вернулся в Глинск в самом мрачном настроении. Прилег на топчан и, накрывшись с головой одеялом, лежал с открытыми глазами, все думая о Василии. Где он? Почему не отвечает? А вдруг Чухарев прав? Нет, не может Тарханов на такое пойти. А если приневолили? Попал в плен, поставили в строй, дали ружье – попробуй откажись. Нет, лучше смерть. И все равно он будет искать Василия. А теперь особенно. Чем жить и не знать ничего, пусть уж сразу конец. Он сбросил с себя одеяло, поднялся и решительно сказал Лизавете, которая сидела рядом и чинила его ватник:
– Я воевать пойду!
– В твои-то годы?
– Была бы сила.
– Да ну тебя, – отмахнулась Лизавета. – На комбинате воюешь, а там обузой будешь.
– Оно конечно, какой я вояка...
И снова думал о сыне. Почти бредовый сквозь сон слышался ему спор с Чухаревым. И рядом кто-то плакал. Но кто именно, он не знал. Василий, Лизавета, а может быть, Танюшка? Господи, ведь позор отца падет на нее. Он проснулся. У койки сидела Татьяна. Да, это она плакала. Игнат ничего не спросил, он сразу все понял.
– Дай письмо!
Но письмо было не от сына. Игнат не сразу вспомнил, кто же такой Крутоярский. А письмо Татьяне так и начиналось: «Пишет тебе Крутоярский. Хотя тебя назвали дочерью, но я знаю, что ты ищешь своего мужа Василия Тарханова. И сообщаю все, что знаю о нем. Видел его, когда жил в Хибинах. Работал я тогда санитаром при «скорой помощи». И вот однажды вызвали нашу карету в поселок, и там я видел Василия. Лежал он в бараке на полу, крепко пораненный. Его порезали урки. Он меня узнал и сказал: ежели придется встретиться с отцом и женой, передай привет. Что с ним дальше стало – не знаю: помер ли или выжил – все от бога. Только вы его ищете как Тарханова, а он был не Тарханов, а Концевой. Это я сам по документам видел, когда сдавал его в больницу».
Игнат обнял внучку.
– Не плачь, Танюша, бог даст, все будет хорошо.
Письмо успокоило Игната. Урки напали на Василия – значит, не сжился с ними, не потерял совесть! Теперь понятно, почему он не мог его найти. Искал Тарханова, а не Концевого. Но почему Василий переменил фамилию?
– Скажи, мы его найдем? – спросила Татьяна.
– Обязательно.
Они вдвоем начали поиски. Запросили хибинскую больницу, объявили розыск через адресное бюро. Концевых оказалось слишком много, и поиски снова зашли в тупик. Война все перепутала, перемешала, и в этой путанице, когда десятки миллионов людей были сдвинуты со своих насиженных мест, когда линия фронта пересекала всю страну, найти человека было очень трудно. Он мог быть на переднем крае и в партизанском тылу, он мог быть по-прежнему в ссылке или уже лежал в братской могиле где-нибудь на обочине Волоколамского шоссе. Это было время неисполнимых желаний. И тем неугасимее они были.








