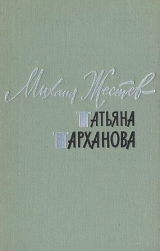
Текст книги "Татьяна Тарханова"
Автор книги: Михаил Жестев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Михаил Ильич Жестев
Татьяна Тарханова
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Еще до рождения Татьяны Тархановой грозные события вмешались в ее судьбу. И все произошло так потому, что ей суждено было появиться на свет в семье Игната Тарханова.
Игнат Тарханов не был потомком тех тархан, что буйствовали на порожистой Мсте при Иване Грозном и по каким-то законам могли безнаказанно отнимать чужое добро и умыкать соседских жен. Он не имел ничего общего с Тархановыми, которые много позднее промышляли в здешних местах лесом и держали в самом большом мстинском городке Глинске торговлю мануфактурой. Не были ему родней и Тархановы барышники и скупщики, про которых говорили, что они уходят на промысел с пустым мешком, а возвращаются с полным кошельком.
Какое дело Игнату Тарханову до всех этих однофамильцев, державших некогда в своих руках всю здешнюю округу? Он вел свою родословную от крепостных мужиков, имел в Пухляках небольшой крестьянский надел и, чтобы как-то прокормить семью, уезжал по зимнему первопутку в Глинск возить на заводы огнеупорного кирпича голубоватую мстинскую глину. Одни Тархановы владели поместьями, другие ворочали капиталами, а Игнат жил лишь мечтой иметь вдоволь земли. И эта мечта в дни Октября вернула его с германского фронта в Пухляки.
Стояла сухая осень. Теплая, безветренная. Но над деревней словно пронесся вихрь. Встрепанные крыши, покосившиеся избы, поваленные изгороди. Время, не знающее работящих мужицких рук, не менее разрушительно, чем война. На пригорке за Пухляками высилась помещичья усадьба с большим белоколонным домом. Этот дом всегда казался Игнату могущественным существом, перед которым в речной низине, словно выпрашивая милости, стоит на коленях деревня. Но теперь исчезла его прежняя гордая сила, он стоит, дожидаясь суда над собой, готовый сам упасть на колени. В речной низине занималось пожарище багряной, еще не облетевшей осиновой листвы, сиреневый дым оголенной березовой рощи тянулся к белым колоннам помещичьего гнезда.
На мельничьей плотине бушевал народ. Там всему головой был Тарас Потанин. В солдатской шинели с повисшим на одной пуговице хлястиком, опираясь на костыль, он метался по высокому деревянному настилу.
– Время пришло помещичью землю делить. Вы слушайте, мужики, что говорит нам Ленин. Вот он, декрет о земле!
– Ленин, говоришь? – выкрикнул Еремей Ефремов.
– Подписал собственноручно.
– Эсеры о том же толковали.
– Ты что же, эсерам сочувствующий? – рванулся к Еремею Тарас.
– Я тому сочувствующий, кто мне сочувствует. Орешь: эсеры такие-сякие, а сам их программу объявляешь.
– Ну и что же? – ничуть не смутился Тарас.
– Выходит, никакой разницы.
– Нет, есть! Твои эсеры у власти были? Были! Так почему они землю не разделили? Выходит, их слова – обман! А большевики только взяли власть – сразу сказали: берите, мужики, помещика за бока! А может, кроме тебя есть эсерам сочувствующие? Проверим. Кто по Временному правительству плачет? Отзовись! – Тарас оглядел безмолвную толпу. – Может, тебе, Еремей, потому с эсерами по пути, что не дай им большевики коленом под зад, они бы последнюю мужичью землю кулакам пораздавали. И тебе бы досталось. А как же? Арендатель мельницы! Верно я говорю, мужики?
Игнат Тарханов получил восемь десятин. Своя земля. Корова, лошадь. Надо бы вторую, да куда там!
В гражданскую войну он воевал за Советскую власть, за свою землю. Все тогда было для него ясно. Деникин, Врангель – надо бить врага. Но после вдруг оказалось, что иметь свою землю – еще не значит жить в довольстве и быть счастливым. Дважды был недород. Хорошо еще – волисполком дал ссуду. Кое-как устоял на ногах. А второго коня так и не приобрел. И жена надорвалась на тяжелой работе. Год поболела и приказала долго жить. И словно кто душу ему подменил. Гордость свою потерял. Игнат Тарханов, тот, что пять раз ходил под Тихорецкой в атаку на казачьи сотни, теперь ходит на поклон к арендатору мельницы Еремею Ефремову. Не даст ли в долг до нови мешок муки, жбан льняного маслица? У, подлое кулачье! Он ненавидел кулаков. И нежданно-негаданно сам угодил в раскулаченные. Неисповедимы пути господни. Но разве сравниться им с путями человеческими?
В тот год, весною, рослый, плечистый, русобородый с рыжинкой Игнат Тарханов, еще не подозревая, что ждет его впереди, обходил свое надельное царство. Широко шагая, он шел от поля к полю, и хоть весенняя земля была гола и только у перелеска кучерявилась озимь, казалось ему, что в руках у него невидимая коса и к его ногам падает высокое густотравье. Когда на земле ничего еще не взошло, нетрудно представить ее обильной, сулящей много хлеба и спокойную жизнь. Но проходит весна, близится к концу лето, собран урожай, и та же земля в преддверии осени кажется голой, обеспложенной, ничего уже не сулящей. Хватит ли хлеба прокормить семью, лошадь, корову, оставить на семена? Опять нехватки, жизнь из куля в рогожку...
Идет Игнат и все высматривает, не отрезал ли кто его землю на закрайках, не запахал ли с соседской межи. Его царство-государство изгибалось седловиной между двух холмов. У вершины холма Игнат остановился. На фоне золотисто-голубого вечернего неба он был похож на бородатого великана, стерегущего свою землю. Но как он бессилен перед ней!
Он возвращался с поля вечером. Спина согнута, голова поникла. Тяжелы мужицкие раздумья.
Однажды зимним вечером в Пухляки приехал инструктор райкома партии Алексей Сухоруков. В унтах, треухе и коротком ватнике, он шел, слегка согнувшись, почти не отрывая ног от снежного наста. Внешне производил впечатление человека медлительного, увальня, тугодума. Однако пухляковцы знали, что в действительности инструктор остер на ядреное словцо, любит веселую шутку и мастер рассказывать о всяких международных делах. Со смешком и прибауточкой, где пословицей, а где и побасенкой он расписывал английских лордов, любящих загребать жар чужими руками; немецких социал-предателей; японцев, получивших по носу, чтобы не совались в чужие дела. После таких бесед пухляковские мужики считали себя первейшими знатоками международных событий и не прочь были посоветовать самому Литвинову, с кем дружить, кого остерегаться, а кому – раз-раз, и в морду!
В этот вечер прямо с дороги Сухоруков направился к Тарасу Потанину. У Потанина он пробыл недолго, и вместе они пошли к Ефремову. Потом, уже поздно ночью, от Ефремова постучали к Чухареву.
И тогда мелькнула догадка: колхоз! Сухоруков приехал колхоз создавать. Утром все зашумело вокруг. В избах, на улице, под крышами гумен. Не сговариваясь, пухляковцы повалили в читальню. Спор начался еще до собрания. Известно, мужик горбатился на своей полосе, нельзя иначе. А что это за жизнь была? Без просвету, в вечной нужде! И самый великий спор шел в душе мужика наедине со своими мыслями. От нужды его бросало к колхозу, а страх перед неведомым будущим заставлял цепляться за свое поле. Кто ответит – как быть мужику? Но когда Сухоруков подтвердил: да, в Пухляках должен быть колхоз, – ему стали задавать такие вопросы, как будто люди пришли на собрание из любопытства.
– Что такое коммунизм и когда он придет?
– А лошадь сдавать с уздечкой или можно без нее?
– Как быть, ежели, к примеру, мужик подастся в колхоз, а баба упрется в свою единоличную стезю?
Кто-кто, а Сухоруков умел разговаривать с мужиками. Главное – знать, когда мужик всерьез спрашивает, а когда с ухмылкой! Разгадать затаенный смысл мужицких вопросов – значит найти дорогу к сердцам. Нельзя мужика обидеть словом, быть глухим к крику его души. Но в тысячу раз хуже принять всерьез его подковыристые вопросы и оказаться в его глазах дураком. И Сухоруков отвечал с обычной веселой усмешкой:
– Вот товарищ Князев спрашивает – когда коммунизм придет? А я ему свой вопрос задам. Как он думает, коммунизм – это второе пришествие, что ли? С неба? Вторым Иисусом Христом объявится? Рыба в бредне, и ту вытащи, а коммунизм надо своими руками сделать. Сработать его надо, как хлеб. Вспаши, посей, вырасти. Но есть тут одно затруднение. Мужика к коммунизму тянет, а баба на единоличной стезе топчется. Как по-вашему, кто кого держит? Думаю, все-таки мужик бабу. Ему и колхоза боязно, и перед обществом неудобно. Вот и валит на бабу! И как тут быть – скажу. Разрешим этой бабе коня в колхоз сдать без узды, а той уздой стегануть мужика своего, чтобы он сам не топтался на единоличной стезе.
Игнат слушал Сухорукова и примеривался к будущей колхозной жизни. А ведь ему, Игнату, если подумать, колхоз даже сподручнее. Вот уже год, как умерла жена, пора подумать о новой хозяйке, не старый он, только сорок исполнилось, а как новую жизнь начать, если в доме сын Василий и с ним жена его Татьяна? Сейчас ему Василия никак не отделить. Откуда взять второго коня, еще одно гумно, новый хлев, сенной сарай? А будет колхоз – ничего этого человеку не надо. Построил дом – и живи!
Зимняя ночь долга, крепка на сон, но всю ночь люди не спали. Народ провожал старую вековуху – единоличную жизнь и встречал новую, неведомую еще жизнь колхозную. В окнах избы-читальни занимался лиловый зимний рассвет, когда наконец проголосовали за колхоз. А кому быть председателем? Большинство стояло за Еремея Ефремова. Мужик хозяйственный, оборотистый. Хитер, чтобы чужих обмануть, умен, чтобы со своими не лукавить.
Сухоруков взглянул на Тараса Потанина: «Видишь, не по-нашему выходит. Надо бы тебя председателем, а люди требуют Ефремова». Тарас мог спросить: «Не с вас ли, мужики, Еремей шкуру дерет за помол? Не к нему ли на поклон по веснам ходите – дай мучицы до нови?» Не докажешь, что он чистый кулак, – мельница числится за обществом, а главное, что там ни говори, Ефремов действительно лучше его хозяйствовать сможет. И Тарас тихо сказал Сухорукову:
– Я на себя конюшню возьму.
– Давай, – согласился Сухоруков. – На первых порах, должность конюха, может быть, даже поважней.
Проголосовали за Ефремова. Потанин стал его заместителем и старшим конюхом.
Через неделю Игнат запряг свою единственную лошадь Находку, положил в розвальни плуг, железную и деревянную бороны, хомут с летней упряжью и повез этот немудреный паевой капитал на общий колхозный двор, в бывшее помещичье имение. Он въехал под навес и, чтобы продлить расставание с Находкой, долго чистил на конюшне ее денник. Тарханов отдавал лошадь, как тысячи и тысячи мужиков: с грустью и тоской. Но, расставаясь с ней, он меньше всего предполагал, что его любимица будет причиной многих его несчастий, которые вскоре обрушатся на его семью и даже на еще не родившуюся внучку. Да, если бы не Находка, кто знает – может быть, все сложилось бы иначе.
Временами Игнату казалось, что в Пухляках ничто не изменилось. Краем речного обрыва тянулась знакомая, такая привычная для глаза улица бревенчатых, крытых соломой изб. Отстроенные уже после революции, они были на одно лицо – в три окна, с высокой завалинкой, с потускневшими от солнца и дождей венцами. Октябрь поравнял пухляковцев, наделив их одинаковой землей. И не потому ли дом арендатора мельницы Ефремова Еремея ничем не отличался от дома Игната Тарханова? Даже на задах деревни, там, где за огородами высились гумна и риги, одно хозяйство походило на другое. Люди старались строиться так, чтобы ничем не отличаться от соседей, чтобы, упаси боже, не выглядеть богаче других. Только сами пухляковцы хорошо видели, что хозяйство хозяйству рознь. Все знали, что Еремей Ефремов пахал свою землю, и его же хлеб рос на земле Афоньки Князева. Афонька своего хозяйства не вел. Всем было ведомо и то, что торговал с черного хода мануфактурой и кожей бывший лавочник Крутоярский. Да, многое было как прежде. Правда, коней перевели в бывшее помещичье имение да свалили в одно место все плуги и бороны. Ну, еще собраний стало побольше. Насчет семян – собрание. Строить или не строить кузницу – опять собрание. И не обойтись без собрания, ежели надо решить – какие установить поля, как порушить межи. И что ни собрание, то до петухов. Но в остальном ничто еще не изменилось. Главное – хлеб ели свой, единоличный. Еще никто не пробовал колхозного. Тут бы думать да думать мужикам, ночи не спать, все прикидывать: что к чему, как дальше сообща хлеб растить? А жизнь стала словно какой-то беспечной. Неужели свалились с плеч пухляковцев извечные мужицкие заботы?
Игнат с мужицкой осторожностью ко всему примеривался. То казалось ему, что он стал хозяином всей пухляковской земли, то вдруг его охватывала тоска по своему наделу. Тогда тайком он пробирался на свою полосу, разгребал снег, гладил зеленую поросль озими. Он хотел убедиться, что она живет и дышит под белым зимним покровом. А ведь этот будущий хлеб уже не был его хлебом. Не поедет Игнат осенью на базар, не будет прикидывать – сколько выручит денег, хватит ли их на колеса для телеги, сбрую. Эх, базар, базар! Услада и мужицкие слезы. Дешево продай, дорого купи. И хоть себе в убыток, а любил Игнат ездить на базары. Походить по рядам, поторговаться, показать себя самостоятельным человеком. Хочу – куплю, а не подходит – на место положу. И пусть в кармане всего лишь несколько рублишек! Он им хозяин! А теперь ни базара, ни заботы. Хорошо это или плохо – не знать заботы? Игнат еще не чувствовал себя прочно связанным с колхозом. Все его привычки, взгляды на жизнь, его душа – все было еще в прошлом, хотя сам он уже шагал по дороге будущего. И потому он часто не осознавал, что делал, и был полон всяческих сомнений. В одном не сомневался: он всегда жил и будет жить землей.
Размеренный, годами сложившийся в единоличном хозяйстве распорядок нарушился, а новый еще не создался. Мало было установить правила выхода в поле. Все требовало переделки. И прежде всего – характер и душа крестьянина. Ведь надо же понять, что жизнь разлучила со своим наделом самого великого собственника. Земля была для него всем: основой жизни его семьи, надеждой на счастье.
Уже солнце высоко, а люди только выходят на работу. Раньше каждый хозяин собирался на свое поле до рассвета, а нынче надо было еще узнать, куда идти, что делать. Артель требовала управления. Считали, надеялись – Еремей Ефремов наладит дело. А пока он что-то там налаживал, Игнат Тарханов, чтобы заполнить утренние часы, ходил на конюшню и до наряда чистил денник, где стояла его Находка, кормил ее с ладони корками хлеба. Нет, он не жил надеждами на то, что ему вернут Находку. Его влекла к ней та же любовь крестьянина к лошади, как и к земле. Он с гордостью говорил Тарасу Потанину:
– Моя-то чалая, ей-ей, не хуже ефремовского битюга.
– Ничего не скажешь, добрая кобылка.
– В плугу работница, в бричке рысак. Ты, Тарас, поглядывай, чтобы не опоили ее.
– Колхозом жить – надо каждого коня беречь, – отвечал Тарас и мечтательно добавлял: – Вот только бы приладиться друг к дружке. А там дела пойдут, Игнат! Вот помяни мое слово, пойдут! Все у нас есть для хорошей жизни – и земля, и семена, и кони. Паши, сей, убирай. – И повторил уже задумчиво и с тревогой: – Только бы приладиться!
Зимним утром Игнат сортировал на колхозном гумне пшеницу. Мимо на Находке ехал Афонька Князев. Стоя на задке груженных навозом саней, он гнал лошадь рысью. Игнат выбежал на дорогу.
– Не масленица, ишь, раскатался.
– Ужо и бубенцы навешу, – встряхнул вожжой Афонька.
– Не дам Своего коня гнать!
– Был твой, а теперь колхозный.
– Да где это видано, чтобы с таким возом да рысью?
– А ежели мне прокатиться охота? – заломил шапку Афонька. – А ну, не держи!
Игнат хмуро пропустил мимо себя Князева. А тот свистнул, причмокнул губами и, весело оглянувшись, снова погнал. На повороте воз занесло в сугроб. Афонька гикнул и громко выругался:
– У, язви твою душу!
Находка попятилась, наседая на передок саней. Афонька спрыгнул и стал ожесточенно бить ее черенком кнута.
– Дура, куда прешь!
Игнат подбежал, оттолкнул Афоньку.
– Тебя бы кнутом! – Он приналег на сани, помог лошади выбраться из сугроба и вернулся на гумно.
Весь день Игнат только и думал о том, как избавить Находку от Афоньки. Вечером зашел к Ефремову. Ведь должен Еремей понять его. Председатель, да и бывший дружок. Три друга их было: Тарас, Еремей и Игнат. Вместе церковноприходскую школу кончали, вместе по гулянкам ходили. Не раздружила их даже женитьба. Но война разделила. Одна судьба выпала Игнату и Тарасу и совсем другая – Еремею. Игнат и Тарас ушли на фронт, а Еремей остался в Пухляках. По глазам не подошел. Близоруки, да еще раскосые. Из-за них и девки его не жаловали. А тут стал первым парнем на деревне. Пожалуй, даже единственным. От свах отбою не было. Но Еремей не спешил, только ждал, и еще подождет. Зато выберет. И выбрал старшую дочку торговца мануфактурой и кожевенным товаром Филиппа Крутоярского. С домом, с капиталом, со всей справой, что требуется в каждом крестьянском хозяйстве. За войну дворы Тараса и Игната совсем оскудели, а Ефремов взял в аренду мельницу и разбогател, спекулируя хлебом. Да и не только хлебом. Нет-нет, с тестем Крутоярским где штуку-другую сукна перекупит, где пар пятьдесят солдатских сапог. Нажитые на военной беде ефремовские деньги разделили старых друзей. Но колхоз, как казалось Игнату, должен был возродить старую дружбу. Ведь сдал Еремей коня и одну корову в колхоз, отойдет и мельница, и не будет он больше пахать чужую землю. Теперь Еремей председатель. Он, Игнат, тоже за него голосовал.
Ефремов сидел в горнице за самоваром. Рядом с ним – его жена Евдокия с годовалой Улькой и пятилетним Федькой. Все тут было как прежде. Вдоль стен, оклеенных обоями, стояла добрая дюжина гнутых стульев, посреди горницы с потолка свисала большая лампа со стеклянным колпаком, а в простенках между окнами высились три шкафа: один – под посуду, другой – для одежды, третий – набитый холстами и обувью. Все это было приобретено Еремеем в голодный год где-то в Глинске, в обмен на муку, и теперь продолжало украшать его горницу, как будто ничего в жизни не изменилось. Только в углу, где всегда поблескивал позолотой иконостас и горела неугасимая лампада, было пусто, пыль лежала там, как тень исчезнувших святых. Нет, жизнь все же ворвалась в дом Ефремова, и оттого, что не стало в нем иконостаса, Игнату показалось, что горница покосилась.
Игнат присел у окна и стал рассказывать, как Афонька Князев измывается над Находкой. Ефремов перебил его.
– Нашел печалиться о чем – всех нас загнали в сугроб и бьют кнутовьем.
– Нет, ты мою Находку закрепи за мной, – настаивал Игнат. – И что ни день, давай на нее урок. Ведь эдак и коню лучше, и колхозу больше пользы.
– Мне моя шкура дороже лошадиной, – отказался наотрез Ефремов. – Я тебе дам твою кобылу, а что скажет Тарас Потанин? «Ты зачем мужика обратно к единоличному хозяйству толкаешь?» Тарас неспроста конюхом стал.
– Ты что туману напускаешь? Не видать Афоньке моей Находки! – крикнул Игнат и вскочил со скамьи.
Ефремов остановил его у порога.
– Я Афоньке не потатчик. Он твою кобылу до смерти загоняет. Так что, как сумеешь, бери свою Находку. Я как председатель ничего не скажу. Но помни: ты со мной не говорил, и я тебе ничего не советовал.
Ночью Игнат разбудил сына.
– Пойдем на колхозную конюшню.
– Батя, а может, не стоит связываться? – нерешительно проговорил Василий. – Чего печалиться о Находке, не наша уже она.
– Тебе что! Не ты ее растил.
– Не ходите, батя. – Татьяна, жена сына, схватила его за руку. – Как бы худа не было.
Игнат оттолкнул невестку.
– Пошли, Василий... Пусть что хотят со мной делают, а измываться над Находкой не позволю.
Удивительные, порой странные вещи происходят в жизни. Еще в те годы, когда только что освободили крестьян, поселился в Пухляках предок Игната, и оттого, что он был до этого крепостным князя Тарханова, прозвали его Тархановым, а потом так и записали в подворную книгу. В те же годы у того же князя Тарханова жила в дворовых девках пухляковская Аграфена, и прижила она от князя мальчонку, которого в деревне стали звать «Князев», да так и записали в ту же книгу. Мужик Тарханов стал работать на земле, а княжеский сынок, потомок Тарханова
….. [1]1
Здесь и далее пропуски в тексте из-за того, что был оторван уголок одного листа в бумажной книге. – Прим. верстальщика.
[Закрыть] без его родовитости и богатства, пошел
….. жеский дом. Внук его Афонька то
….. может быть, не подозревал о с
….. но, видать, унаследовал от пре
….. нивый характер и жестокую
….. ждено было оказаться в т
….. чала в казачках у князя Тарханова, потом перешел в услужение к Тарханову-лесопромышленнику, а после революции пристроился на лесную биржу. Он вернулся в деревню за несколько лет до коллективизации. Потребовал землю – дали. Но не работал, а сдавал в аренду и тем жил.
В колхозе Афонька увидел новую возможность кормиться не работая. Его жена, бывшая тархановская горничная, была неспособна к крестьянскому труду, но и она и выводок ребят требовали еды. Афонька писал в колхоз заявления о ссудах, о вспомоществовании хлебом или одеждой. В городе он был приказчиком, а в деревне числился бедняком, жил на подаянии у Советской власти. Да, удивительные, странные вещи бывают в жизни. Княжеского отпрыска Афоньку она делает бедняком, а Игната Тарханова, потомка крепостного, обиженным середняком. И невдомек этому середняку, что в великое время крутых поворотов самый маленький необдуманный поступок может привести к самым большим и очень печальным последствиям.
Игнат и Василий шли на конюшню по широкой, усаженной березами дороге. Ночь была лунная, морозная, и все вокруг – сугробы по обочинам, стволы берез и заснеженные поля – сияло, искрилось бирюзовым светом. Игнат не таился. Он даже хотел, чтобы на конюшне был Тарас Потанин. Старый друг поймет его и отдаст Находку. А как же иначе? Ведь Афонька истязает не коня – душу человечью...
На колхозной конюшне горел тусклый огонек закоптелого фонаря. В ночной тишине мягко постукивали копыта, едва слышно позванивала цепь в деннике жеребца да похрустывало сено, словно кто-то осторожно ступал вдоль кормушек. Изредка тишина нарушалась призывным ржаньем. Тогда спросонья
….. ись в сторону и заливались на разные голоса
….. жеребята.
….. Находку и повел ее из конюшни.
….. Афонька Князев. Но не успел он
….. увидел Тараса. В стоптанных,
….. валенках, слегка припадая на
….. амывающей походке покачивая «летучей мышью», он шел вдоль конюшни. Игнат заспешил ему навстречу.
– А я думал, обязательно зайду, предупрежу, чтобы утром не искал, беру Находку!
– Поставь на место!
– Не ездить Афоньке на ней. Мой конь!
– Не Афонькин и не твой. Общий конь, наш, стало быть! – и протянул руку к узде.
Игнат оттолкнул Тараса:
– Не тронь! Сначала научи всех животину оберегать, а потом и делай общей. Не дам, чтобы Находку на живодерню сволокли.
– Подумай, что делаешь, Игнат! – вновь подступи им к Тарханову Тарас. Против себя идешь. Не могу я тебе лошадь отдать. Ты возьмешь, а за тобой бросятся другие. Что с колхозом будет? Ведь толечко на дорогу становимся. – И, взметнув фонарем, схватил узду и закричал на Тарханова: – Уйди отсюдова!
Игнат и Тарас стояли бок о бок, не желая уступить друг другу Находку. Неожиданно Игнат кинулся Тарасу под ноги и, повалив его на землю, крикнул сыну:
– Скачи домой!
Но Тарас уже смахнул с себя Игната и бросился к Василию. Василий, верхом на лошади, метнулся к воротам. Тарас изловчился, схватил его за полу полушубка и стащил на землю. А Игнат уже снова наседал на Тараса. Не выпуская поводка, Тарас упал на землю и увлек за собой Игната. Игнат хрипел:
– Вот какой ты друг!
– Сволочь ты, а не друг!
Испуганная Находка рванулась и, почувствовав свободу, вымахнула на улицу. За ней побежал Василий.
Неизвестно, кто первый узнал, что Тарханов увел из колхозной конюшни свою лошадь. Едва рассвело, вся деревня двинулась в бывшее помещичье имение. Толпа вплотную подошла к воротам конюшни. Зашумела требовательно, возмущенно:
– Где председатель? Пусть открывает!
– Еремей еще ночью смотался.
– Тогда тащите сюда Тараса.
– Чего его тащить. Он запершись в конюшне.
– Ломай ворота! Бери своих коней!
Из конюшни вышел Тарас. В руках он держал железный засов. Толпа отступила. Этот партийный с характером! Еще двинет!
– Не дело задумали, мужики, – оглядывая толпу, сказал Тарас. – Колхоз развалить хотите?
– Мы за своим пришли.
– Коль меня растопчете – берите. Но первому, кто сунется, несдобровать. – И он слегка приподнял засов.
– А почему Игнату отдал?
– Силой взял. И за это ответит.
– Не бойся, мужики! Не посмеет ударить. Только стращает.
Люди колыхнулись. Кто-то напирал сзади. Толпа наседала. Тарасу стало ясно: уговоры не помогли, угроза не подействовала, засовом не открестишься. Надо придумать что-то другое. И, как неожиданно появился из конюшни, так же неожиданно скрылся за тяжелой дверью, успев сунуть в скобу засов. Толпа застучала кулаками по дубовым доскам, нажала на ворота. Ворота заскрипели, качнулись, но выдержали натиск.
– А ну, взяли!
Кто-то притащил бревно. Толпа сторукая подхватила его и ударила в ворота. Полетели доски, крестовины, все окуталось дымом сенной трухи. Тарас едва успел отскочить. Он видел, как люди бросились по денникам. В сумеречной темноте конюшни не сразу разобрались – где чья лошадь. Кричали друг на друга, вырывали узды, налетали с кулаками:
– Не тронь, убью!
Тарас растерянно смотрел на всеобщую суматоху. Кого-то с обиды даже ткнул в спину. Но быстро пришел в себя, вскочил на ефремовского битюга и погнал в район.
Он вернулся к вечеру. И не один, а с Сухоруковым. Инструктор райкома приехал как представитель чрезвычайной тройки по борьбе с кулацким саботажем. Тут же приказал собрать общее собрание, сам взял на себя председательство и предоставил себе первое слово.
– Может, кто из пухляковцев объяснит, что за происшествие случилось в колхозе? Было на конюшне сорок лошадей, остался один ефремовский битюг. Куда остальные девались? Какие такие конокрады увели коней? – Сухоруков помолчал, перегнулся через стол и спросил Тараса: – А может быть, ты, Потанин, плохо кормил коней? Вот и решили люди денек-другой у себя их подержать, свое сенцо им дать. Спасибо за сознательность. Сознательность сознательностью, только кому ворота чинить? Думаю, так надо будет решить: кто последний вернет лошадь, с того и взыщем. На этом собрание считаю закрытым. Продолжим завтра. А то не понять, кто тут собрался. В колхоз вошли, а у каждого во дворе своя лошадь стоит.
На следующий день, после того как лошади были возвращены на колхозную конюшню и собрание было снова открыто, Сухоруков предложил вместо Ефремова выбрать председателем Потанина.
– Чем Ефремов не гож?
– Не соответствует новому этапу развития колхозного движения, – замысловато ответил Сухоруков. – Неделю назад никто не сказал, что не общество, а он арендатор мельницы, а теперь вот сказали. Рост? Рост! Новый этап? Новый этап! – И не то серьезно, не то из любви к острому словцу добавил: – В общем, сознательности стало больше. Вчера растащили коней, нынче вернули.
Игнат был на обоих собраниях. Сухоруков ни словом не упомянул о нем. И это страшило. Что будет дальше? Поздним вечером вместе с Потаниным Сухоруков пришел к нему домой. Внимательно разглядывая Игната, словно впервые видя его, сказал:
– Так вот ты каков! Говорят, боевой был, против помещиков шел, воевал за Советскую власть.
– Это точно, Алексей Иванович, – подтвердил за Игната Тарас.
– А теперь против колхоза всю деревню повел? Не велика цена такому герою. Так этот самый Игнат Тарханов тебя избил, Тарас Антонович?
– Чего там обо мне говорить, – отмахнулся Тарас. – Колхоз развалил. Все надо снова начинать.
– Вот и начинай с того, что объяви решение чрезвычайной районной тройки.
Тарас взял у Сухорукова лист бумаги и что-то пробормотал насчет того, чтобы Игнат на него не обижался.
– Ты без предисловий, – сказал Сухоруков.
– Я это так.
– Читай!
Тарас развернул лист, прочитал слово «решение» и отдал Сухорукову.
– Не могу, Алексей Иванович. Друг он мне.
– Что-то у тебя друзья – подкулачники? Читай!
– Да друг ведь.
– Был друг, а теперь недруг. – И, не ожидая, когда Потанин найдет в себе силы объявить Тарханову решение районной тройки, Сухоруков выхватил из рук нового председателя колхоза лист бумаги и громко, твердо прочел:
– «За развал колхоза подрывателей новой жизни Игната Тарханова и его сына Василия выселить из Пухляков и выслать, как опасный элемент, в Хибины, чтобы там они искупили свою вину перед народом».
Татьяна с криком бросилась к Сухорукову:
– И меня ссылайте. Не останусь я здесь. Помирать, так вместе.
– На сборы дается два часа, – сказал Сухоруков и у дверей повторил: – Два часа!
Игнат и Василий молча и удивленно взглянули друг на друга. Они, казалось, не верили тому, что произошло. А может быть, все им привиделось? И этот Сухоруков, и его поздний приход, и приговор тройки? Татьяна заметалась по горнице, натыкаясь на стол своим большим животом. Ее остановил Игнат. Спокойным, будничным голосом сказал:
– Поставь-ка самовар. Кто знает, может, там, в этих Хибинах, и чайку попить не придется.
Ровно через два часа под окном заскрипели сани. С собранными наспех узлами Тархановы вышли на крыльцо. Василий повернулся к Татьяне:
– Останься. Рожать скоро тебе.
– Нет, куда ты, туда и я, – упрямо ответила Татьяна. И первая пошла на улицу. У ворот нетерпеливо била копытом запряженная в возок Находка. Тарас передал Игнату вожжи и сказал:
– Люди всюду живут.
«Да, всюду», – подумала Татьяна, почувствовав, как внутри у нее толкнулось к самому сердцу живое, еще неведомое ей существо.








