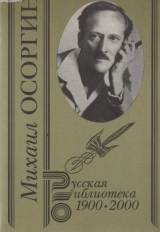
Текст книги " Старинные рассказы. Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Михаил Осоргин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 51 страниц)
ЧЕРНЫЙ КАБИНЕТ
В подъезд почтамта близ арки с часами походкой пожилого человека, который знает, куда идет, потому что он идет сюда в тысячный и более раз, – вошел Пимен Миронович, чиновник секретной экспедиции и совершенно замечательный человек. Пальто не снимая, поднялся в третий этаж, проник без доклада и без стука в кабинет старшего цензора Мардарьева, с которым молча поздоровался, затем подошел к большому желтому шкапу и, как это ни странно, исчез: из кабинета не вышел, но и в кабинете не остался. Впрочем, это исчезновение доказывало не чудесное качество чиновника, а лишь любопытное устройство шкапа, служившего тайною дверью в самое секретное отделение – в Черный Кабинет петербургского почтамта.
И все-таки мы не напрасно назвали Пимена Мироновича совершенно замечательным человеком. Он был едва ли не талантливейшим из двенадцати служащих, работавших в угловых комнатах третьего этажа (тот самый угол здания, где внизу снаружи висели невинные почтовые ящики). Пимен Миронович не только знал множество языков, но и свободно определял по внешнему виду письма, по качеству бумаги, по конверту, по манере наклеивать марку и особенно по почерку, кто кому и приблизительно что пишет и стоит ли вскрывать письмо. Не то чтобы соображал или догадывался, а просто – знал. Первые пять лет службы он еще иногда ошибался, последние десять лет – никогда, и если бы хоть раз ошибся, то был бы сам поражен и восхищен, потому что никогда не ошибаться очень скучно. Кроме того, он сразу видел, есть ли приписки химическими чернилами (у простаков – молоком, луковым соком), отлично понимал (лучше, чем адресат) все условные словечки и выражения, читал все шифры, вплоть до самых замысловатых («по стихотворению»), и почти не имел надобности заглядывать в табличку имен и тетрадку с образцами почерков, потому что он вообще знал всех и все наизусть, – разве что появится новичок по приемам «конспирации», повторяющий наивности многоопытных, прошивающий письмо ниткой, сообщающий свой секрет бисерным почерком под почтовой маркой (о дети, дети!), вкладывающий белокурый или кудревато-черный волос (будто случайно!), ставящий едва заметный крестик на внутренней стороне конверта, стряпающий слово из начальных букв замысловатой фразы, или еще что-нибудь древнеисторическое.
Все это Пимену Мироновичу давным-давно известно-переизвестно, и, усмотрев невероятно «тонкую» хитрость, он часто добродушно говорил:
– Ах, Петя, товарищ Петя! Зачем эти глупости!
Неизменно улыбался Пимен Миронович, когда в куче писем, вскрытых паровой машинкой, он находил два письма от одного и того же лица: одно – конспиративнейшее, измененным почерком, иногда даже довольно ловко, и в той же почте другое, на такой же бумаге, адресованное мамаше или сестре, простым почерком, с простой подписью «Твой сын Ваня», «Твой любящий Володя Г.», с изложением маленьких житейских дел и поклонами родным. Стоило в первом письме расчеркиваться псевдонимом и указывать условный адрес, когда второе письмо выдает с головой! До чего люди просты!
Раньше Пимен Миронович сидел сначала на иностранных бандеролях, потом на письмах посольских, министерских и особо отмеченных влиятельных лиц. Прошел также курс подделывания печатей, старым способом (воск, гипс, отливка), более новым (серебряный порошок и амальгама; тот способ, который бывший начальник Кабинета продал Австрии), наконец – новейшим, при котором в несколько минут получались печатки идеальной четкости из твердого металла, – тем самым способом, за который изобретатель его, тоже чиновник, получил от царя, по представлению Столыпина,[268]268
Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), русский государственный деятель, реформатор. Занимал пост министра внутренних дел, а с 1906 г. – председателя Совета министров.
[Закрыть] Владимира 4-й степени «за полезные и применимые на деле открытия». Затем долгое время Пимен Миронович занимался шифрами иностранных дипломатов, но после стали эти шифры покупать тут же, на месте, в Петербурге, или, в редких случаях невозможности достать быстро, – стали их приобретать через очень популярную брюссельскую шпионскую контору: коды греческий, испанский, болгарский по цене грошовой (полторы-две тысячи рублей), другие европейские от пяти до пятнадцати тысяч, американский и японский – за несколько десятков тысяч; исполнение заказов быстрое и точное, с гарантией и извещением о происшедших переменах (тогда, конечно, плати особо). Но при спешной надобности Министерство иностранных дел доверяло дело почтамтским чудодеям, и Пимен Миронович, покорпев над телеграммой несколько часов, возвращал ее с переводом на надлежащий язык. Наконец, отчасти за долгую службу, отчасти ввиду проявленной склонности, Пимен Миронович был окончательно назначен заведующим перлюстрацией переписки революционеров. Работа тихая, легкая, не требующая особой спешки (какая требовалась, например, с посольскими пост-пакетами и портфелями!), на вид простая, но с каждым годом все более ответственная.
Теперь Пимен Миронович жил как бы в атмосфере семейственности: Петя, Ваня, Абрам, товарищ Волжанин, у нас в Женеве на Каружке, в Париже на Бульмише, Иван Николаевич «в командировке», Сережа заболел и едет за Урал, «духи высылаю», «товар подмочен», «спешно прекратите закупку' жмыхов» – милый знакомый язык, книжки с подчеркнутыми буквами на странице 41-й, помнишь ли, как мы певали «Не осенний мелкий» (разумей – новый шифр), – все так наивно, и, по-видимому, пресимпатичные ребята! Впрочем, почему «по-видимому»? Сколько переснято фотографий, посланных маме, тете и всяким тургеневским «дурам-святым»! Многих Пимен Миронович видит перед собой с полной отчетливостью.
Собственно – ему-то какое дело! Снятые копии куда-то посылаются, и не куда-то, а в департамент полиции, но чиновника цензуры это не касается ни в малой степени – он не сыщик, не судья, не следователь, он – графолог, психолог, свободный художник. Ему даже смешны иногда «заказы» департамента вынимать и перлюстрировать письма таких-то и таких-то. Заказ выполняет добросовестно, но сколь очевидна ему департаментская близорукость – ему, мысленно живущему в этой революционной семье! Он посылает детскую чепуху пера товарища Пети, – но и не обязан и не имеет ни малейшего желания знакомить с интересной во всех отношениях перепиской Паши Гусева с итальянской Ривьеры, потому что о Гусеве его не спрашивают и в списках его фамилии нет. Сам он письма Гусева читает, как и ответы «твоей Маруси», знает их делишки и их совместные планы, следит, что из этого может выйти, догадывается, что транспорт литературы благополучно прибыл в Киев, – но он ограничивается своим чисто научным интересом и не обязан помогать полицейским. Иногда он с увлечением наблюдает, как обернется дело с побегом «тети Нины» из Акутая («Тетя Нина закончила тяжелую работу на даче и хочет отдохнуть на теплых водах…»), с удовлетворением узнаёт, что «тетя Нина» уже в Ницце, откуда пишет кучи открыток и могла бы подвести этим ряд друзей на родине, а эти департаментские олухи ждут ее цидулек из Москвы в Париж. «Тетя Нина» положительно мила в купальном костюме на открыточке, посланной ею какой-то другой тете; открыточка без задержки и без отметки следует по адресу – до нее нет Пимену Мироновичу никакого дела.
За годы работы в Черном Кабинете Пимен Миронович пришел к твердому убеждению, что почти все люди без исключения фальшивы и продажны, но что их основное качество все-таки глупость. Министр путей сообщения догадался дешево купить земельку на имя жены на участке, который подлежит отчуждению для новой дороги. Подлец, конечно. Но он же ведет об этом обстоятельную частную переписку, упуская из виду, что все письма министров и сенаторов читаются в Черном Кабинете: это ли не глупость! В каждом посольстве есть свой предатель, продающий слепки ключей, приносящий разорванные бумажки из посольской корзины, готовый исполнить любой заказ; поэтому каждый новый посол меняет всю прислугу и привозит свою; остаются только дворник, швейцар, истопник или полотер. Но полотер оказывается языковедом и человеком со средним образованием, а скоро и приезжая горничная жены посла начинает зарабатывать немалые деньги. Секретарь посольства по ночам трудится над зашифровкой секретнейших донесений, текст которых он уже отправил в российское министерство за не очень высокую мзду. Продают все, кто что может, ибо мир населен жуликами. Против этого мира жуликов выступают клиенты Пимена Мироновича – революционеры, самые наивные и доверчивые люди, самые смешные в своей непроходимой честности, – хотя и среди них встречаются предатели, посылающие из-за границы донесения своему начальству. Из любознательности Пимен Миронович не записал (это ни к чему), а запомнил несколько адресов какой-то Марьи Ивановны в Петербурге да Анны Петровны в Москве, а в действительности, конечно, жандармских ротмистров охранной службы. Донесения любопытные, и его любимец Паша Гусев напрасно ведет дружбу с неким Подосеновым, подписывающимся «Женичкой», но деньги получающим в Генуе на собственное имя. Если Паша соберется нелегально съездить в Киев, – его сцапают на границе, а затем «ликвидируют» и «твою Марусю». Эх, ребята, ребята!
И вот именно так и случилось: Женичка спешно уведомляет Марью Ивановну; что Паша складывает чемоданы и едет с паспортом Мориса Дюбуа, доверенного парфюмерной фирмы. О том же туманно, без имени, эзоповским языком («Тоска по родным местам пробудила активность…») пишет Марусе и сам Паша. Летит мотылек на огонь – Марье Ивановне большая радость. Черт его знает, почему Пимену Мироновичу так полюбилась эта парочка, Паша с Марусей. Их имена в списке не значатся, и не будет нелояльным разрушить Женичкину махинацию, пока Марья Ивановна ничего не знает. Ядовито улыбаясь, он сует в карман Женичкино письмо, а в письмо Паши вписывает Пашиным же шифром и почерком и точно подобранными чернилами: «Старайтесь скрыться немедленно». Затем запечатывает письмо и швыряет в ящик возвращаемых в общее отделение почтамта. Маленькое озорство, которое открыться не может, потому что даже сам Паша должен будет признать, если когда-нибудь увидит, приписку своей собственной; но нужно думать, что Маруся письма все же уничтожает, хотя от этих простачков можно всего ожидать. А Марья Ивановна останется с носом, если Морис Дюбуа не наделает новых глупостей.
Шутка сказать, за день проходит через Черный Кабинет до двух тысяч писем, отобранных внизу опытным чиновником – по спискам, по догадке, по внешней подозрительности. Из них на долю Пимена Мироновича приходится сотни две для просмотра и лишь десятка три для копий, фотографирования и выписок. И все же работа утомительная.
Дома ждет обед и долгий пустой вечер; Пимен Миронович одинок и нелюдим; люди подлы и глупы, исключения случайны. Из служебных комнат он выходит другим выходом – из подъезда против почтовой церкви, что в Почтамтском переулке. Так уж принято – входить через шкап, выходить без особых фокусов.
Собственно, зачем он утаил письмо Женички и набедокурил в письме к Марусе? Кстати – первое письмо он старательно сжигает дома, так как сам к числу глупцов не принадлежит. Противно видеть, как неплохие, в сущности, ребята, во всяком случае, искренние и некорыстные, глупейшим образом попадают на крючок рыболовов в темной воде. Паша с Марусей получат каторгу или ссылку, Марья Ивановна – орденок, Женичка – подачку на пропой души, – обидно как-то! Хочется хоть раз дать щелчок в нос достойному, хотя, конечно, никого этим не исправишь.
Долгий вечер Пимен Миронович проводит за книгой по химии или по философии. Химия пополняет знания, философия укрепляет в человеке веру в полную тщету всяких знаний. Химик изобретает новые невидимые чернила – и тут же отличный для них реактив. Философ смотрит на химика и дивится его напрасным стараниям. Но химика с философом может легко объединить бутылка отличного коньяку, которая делит одиночество Пимена Мироновича.
К ночи он добрее к людям и разговорчивее с самим собой. Наливая последнюю рюмку, сонным голосом говорит:
– Все минется, все переменится, – а что останется? Человеческая глупость и, конечно, Черный Кабинет. Ну, за здоровье Паши и Маруси!
СОСЛУЖИВЦЫ
Фамилия Алексея Ивановича была Жекмаки. Откуда такая фамилия у православного человека? Был другой человек, такой же специальности, и звали его Ричард Фремель; и был не только лютеранином, а и германским подданным, а в России только помогал нашему правительству в труднейшее время и в труднейшем деле. Это понятно. Но фамилия Жекмаки у обыкновенного русского человека могла появиться только в городе чудес – Одессе. Так оно и было: Алексей Иванович служил в Одессе долголетним штатным агентом сыскного отделения – по части розыска воров и краденых вещей. Получал за это хорошие деньги, шестьдесят рублей в месяц. Значит, был особо полезным человеком, потому что такого жалованья никто из других агентов не получал. Он служил в самые тревожные времена – с 1900-го по 1913 год: как раз захватил первую революцию. Не то чтобы в те дни было особо много краж, а было другое, именно то, за что и вознаграждался Алексей Иванович дополнительно и не в пример прочим. В аттестате числилось, что Жекмаки «вел себя честно, трезво и все возложенные на него поручения исполнял с успехом и с полным знанием полицейского сыска».
Сам одесский градоначальник отлично знал и очень уважал человека с фамилией Жекмаки, считал его преданным, честным и совершенно незаменимым работником. Кроме того, Жекмаки знали – кому знать надлежало – в Тифлисе, Севастополе, Симферополе и Херсоне, но не везде под его собственной фамилией, которая уж слишком легко запоминалась и была редка. Иногда Жекмаки превращался в Сидорова, а то в Поликарпова, разумеется, получал временно и документ на эти имена. Сверх того ему был выдан, да так у него и оставался особый наряд: черное домино и маска, точно для маскарада.
Вообще жизнь этого человека была особенная, и особенным было общее к нему отношение, а не как к агенту уголовного розыска. Когда Жекмаки куда-нибудь приглашался работать по его главной и негласной специальности, то прежде велась довольно сложная подготовка, особенно в 1906–1909 годах. Сначала собирались почтеннейшие люди в мундирах, говорили, думали, обсуждали, решали, постановляли. Потом в соответствующем месте под руководством Алексея Ивановича выстраивали сооружение из двух столбов с перекладиной, приводили туда отмеченного судьбой и приговором человека, – и Жекмаки, надев домино и маску, приступал к привычному занятию: перекидывал веревку, обычно намыливал ее для свободного хода, ставил человека на табурет, просовывал его шею в петлю, подтягивал, укреплял, потом слезал и ловким ударом ноги вышибал табурет. Все это кажется очень просто, а в действительности нужна большая опытность и хорошая практика, так как человек, над которым все это производится, не всегда ведет себя спокойно и с иными приходится немало повозиться-. На помощников никакой серьезной надежды возлагать нельзя, потому что они помогают с крайней неохотой, только по принуждению и никакого искусства в свою работу не вкладывают, а больше стараются увильнуть от всякого участия. Не сознают люди ответственности, не чувствуют всей важности для государства быстрой и отчетливой работы по ликвидации преступности; мало того – с недостаточным уважением относятся к настоящим мастерам своего дела, каков Жекмаки, почему и приходится ему менять имя и надевать театральный костюм, в котором работать далеко не так и удобно, в особенности когда подлежащий операции человек, по малодушию или неуклюжести, сам портит дело напрасными телодвижениями, так что приходится подтягивать его весом собственного тела, пока он наконец выправится и успокоится.
Все это Алексей Иванович выполнял с большим знанием дела, нужным спокойствием, не позволяя себе вредной чувствительности. Разумеется, привык не сразу, и его первые клиенты, Корниченко Михаил и Пустовойтов Владимир (оба в один день – ноября 11-го, в день холодный), имели основания быть недовольными недостаточной отчетливостью движений исполнителя законного приговора. Зато ранее чем через год Алексей Иванович управлялся с пятерыми-шестерыми одним махом и одним духом так, что смотреть было приятно, особенно когда попадалась партия одной национальности, скажем – Войченко, Черниченко, Семенюк, Половчук или там – Вейгерман Лейба, Трейгер Кельман с братишкой Янкелем, Оренбах Абрам, а то Абдул-Меин-Седеман-Оглы, Асан-Абиль-Таар-Оглы, Абельтыре-Ибрагим-Оглы, – если только не перепутаны несколько трудные имена в тетрадочке, которую аккуратно, для счета голов, вел Алексей Иванович. В тетрадочке – шутка сказать – около трехсот имен! Есть офицеры: Глинский штабс-капитан; есть и неизвестный, так и отправившийся на тот свет неизвестным в ночь с 30 октября на 1 ноября. До чего народ упрямый! Есть, наконец, некий Херхулидзе, из-за которого и вышла большая неприятность.
А неприятность вот какая. Херхулидзе был не из революционеров (эти – народ спокойный, их и вешать просто и приятно), а из бандитов. Жекмаки пришлось заняться им в Тифлисе, было их трое или пятеро, вообще – ничего особенного. Но случилось, что в Одессу был назначен начальником сыскного отделения брат этого Херхулидзе, тоже, конечно, из бывших бандитов, потому что эти люди свою среду хорошо знают и могут быть очень полезны розыску. И вот, узнав из бумаг сыскного отделения, что «исполнять» его брата выезжал в Тифлис Алексей Иванович Жекмаки, новый начальник розыска невзлюбил мирного и заслуженного работника и стал его преследовать:
– Это ты, сволочь, моего брата убил?
Жекмаки даже обиделся:
– Как так убил? Я никого не убивал, не тот человек. Я приговоры исполняю.
– Ты и меня так убьешь!
– Ежели вы заслужите и прикажут, будет и с вами то же.
Иначе Жекмаки и ответить не мог; ответил достойно, как честно правительству служащий, нужный человек.
И, однако, пришлось ему со службы уйти – очень Херхулидзе преследовал, а мог свободно и впутать его в какую-нибудь историю, так что и сам окажешься на веревочке. По сыскным делам, да еще в такое тревожное время, человека запутать ничего не стоит, потому что часто и разобраться невозможно, кто сыщик, а кто и сам бандит. И Жекмаки предпочел на время устраниться ото всяких дел и даже скрывался.
Херхулидзе между тем выслужился и был назначен на пост и ответственный, и более покойный – приставом перекопского участка, почти военным человеком и у начальства на виду. Жекмаки попробовал вернуться в сыскное, но уж на этот раз по вольному найму. Работы по специальности стало в то время меньше, кого нужно – перевешали, год подошел 1913-й, сравнительно спокойный. По вольному найму жалованья положили только 25 рублей – это человеку с такими заслугами!
Но и на эти деньги жить было бы можно, так как у каждого к сыску прикосновенного человека бывают доходы случайные, так сказать – от удачного и заботливого ведения дел. Однако Херхулидзе, человек злопамятный, решил и тут погубить «исполнителя» своего брата: дал о нем такой отзыв, по которому выходило, что правильнее всего его, Жекмаки, отправить прямым путем на каторгу.
Вот что делает злоба человеческая! Доносить дурное про заслуженную личность, собственноручно повесившую триста человек! Конечно, мог Алексей Иванович защищаться и доказывать, что никаких темных дел за ним нет и быть не может, что служил он честно и исполнительно и ничего, кроме всеобщего уважения, не заслуживает. Но бороться с влиятельным человеком, с приставом, нечего и думать, – лучше тихонько смыться и поискать правды в другом месте. И уж где же искать правды, как не в Петербурге, как не у самых сильных людей?
И Жекмаки отправился в Петербург, прежде всего – в департамент полиции. Там люди всегда были нужны – но люди с тонким образованием, которые не ударили бы лицом в грязь в самом избранном обществе: осведомители, секретные сотрудники. Жекмаки был простой человек, без светского разговора, годный только в исполнители. И все же по первому его обращению департамент не отказал ему во временном пособии – выдал 50 рублей. Долго в столице на такую сумму не просуществуешь. Откровенно говоря, дешево ценили у нас доблестных работников! Дать 50 рублей вознаграждения – это выходит как бы по 17 копеек за голову, не считая других услуг.
Жекмаки купил лист бумаги и написал не то прошение, не то личное письмо старому начальнику, бывшему одесскому градоначальнику, а потом заседавшему в Сенате. Конечно, разница в положении между ним, отставным сыщиком – исполнителем приговоров, и блестящим сенатором – огромна; однако работали вместе, над одним делом, в полном согласии, каждый свою часть исполняя.
И нужно сказать, что бывший градоначальник не оставил вниманием старого товарища и вступился за него. Он просил весьма известного Степана Петровича Белецкого позаботиться о Жекмаки, предстательствовать за него у нового одесского градоначальника и рекомендовать ему опытного исполнителя с самой лучшей стороны.
Строки из письма Белецкого:
«N. N. принимая особое участие в судьбе Жекмаки и всячески желая помочь ему ныне в его безвыходном положении, между прочим, оттеняем то обстоятельство, что Жекмаки в смутный период 1906–1908 гг. оказывал весьма ценные услуги в деле ликвидации в Одессе судебными приговорами к высшей мере наказания, назначаемого военно-полевыми судами».
Официальный язык обладает прекрасной способностью смягчать грубые понятия. Слово «палач» невыносимо, как и слово «убийство»; плохо звучит и «казнь» – между тем как «ликвидация приговором» и «высшая мера наказания» не оскорбляют чувствительного уха.
Но если легко смягчить понятия на бумаге, – далеко не так просто отмахнуться от живого видения. Оно заходит не без робости и просит доложить о себе. Не принять его невозможно – как-то жутко отказать в этом человеку, удалившему из жизни триста человек. Человек оказывается потрепанным, приниженным, уважительным к начальству. Он, конечно, не осмеливается протянуть руку, исполнявшую приговоры, – он прячет ее за спиной. Но он говорит:
– Окажите милость, ваше превосходительство, не дайте погибнуть с голоду! Сколько годов сряду работал, всякое ваше приказание исполнял аккуратно. Вот, извольте посмотреть списочек, ваше превосходительство…
И он вынимает и протягивает засаленную тетрадочку, некоторым образом – дневник совместных с его превосходительством занятий. Никакой литературы – простой перечень:
«4 августа – Савочкин, Шмановский Хуна, Боржиков, Барон Сруль, Ройтман Нахман. 13 августа – Грабовский Станислав, Бойко Роман. 26 августа – Козленко Яков, Козликов Янкель, Поганасянц, Яценко Архип, Демченко Дмитрий…»
Иногда же без имен, просто: «Солдаты», «За ограбление 14 тысяч», «10 за побег из тюрьмы», «8 то же».
Он носит свою тетрадочку в кармане у сердца – как почетный послужной список. Но его превосходительство брезглив к тетрадочке и не смотрит в лицо впавшему в несчастье сослуживцу. Его превосходительство готов все сделать, оказать всяческую поддержку, только бы ушел этот странный и страшный человек, руки которого, опять спрятанные за спину, вероятно, потны и волосаты, тогда как белы и выхолены руки его превосходительства, ни разу не коснувшиеся веревки.
Он вздыхает облегченно, когда палач выходит из приемной. Следовало бы отворить окно – оздоровить воздух, отравленный грязным дыханием. Увы! – защита интересов страны сопряжена с тяжкими необходимостями! И, как это ни ужасно, приходится прибегать к услугам субъектов, так сказать, отрицательного порядка…
И он говорит секретарю:
– Пожалуйста, напишите там, чтобы этому, вот который был, оказали помощь и выдали бы на проезд… и вообще…







