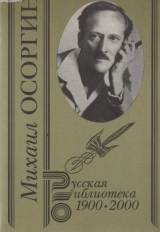
Текст книги " Старинные рассказы. Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Михаил Осоргин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 51 страниц)
ПАРНАС ПОМЕЩИКА СТРУЙСКОГО
Читатель приглашается в гости к помещику Николаю Еремеевичу Струйскому[127]127
Н. Е. Струйский скончался в 1796 г.
[Закрыть] в село Рузаевку Инсарского уезда Пензенской губернии. Форма одежды – екатерининский камзол.
* * *
Именье не малое: из центра крутом верст на тридцать, с населением в тысячу душ. Самое село Рузаевка окружено крепостным валом – неизвестно от каких врагов. В селе три церкви, из них две построены последним барином, Николаем Еремеевичем, поэтом и вольтерьянцем. Эти церкви расписаны итальянскими художниками, и нельзя сказать, чтобы бабы охотно молились безбородым святым и веселым мадоннам.
Барский дом – сама красота. Комнат в нем несчетно, потому что и семья Струйского не малочисленна: жена и восемнадцать человек детей. Всего роскошнее зала в два света, с мраморными стенами, с расписным плафоном работы крепостного живописца. И еще примечательны две комнаты: одна – хозяйский кабинет в верхнем этаже и называется «Парнас», другая – в этаже подвальном, таинственная и мрачная.
Хозяин – человек дородный, важный и приветливый, с бритым лицом екатерининского вельможи, но не из крупных: околачивался в Санкт-Петербурге, допускался к ручке, потом был губернатором во Владимире и выказал себя самодуром, но безвредным; теперь – на покое, если можно назвать покоем его кипучую деятельность. Примечательнее всего одежда хозяина: при фраке парчовый камзол, подпоясанный розовым шелковым кушаком, чулки белые, туфли с бантиками, к парику привязана длинная прусская коса.
Первое, что оценит посетитель, – культ великой Екатерины: ее портреты, ее бюсты, ею подписанный пергамент в роскошной раме. Это она изображена в виде Минервы на расписном потолке. Минерва восседает на облаке, попирая ногами крючкодейство и взяточничество, которых сразу можно признать по эмблемам лихоимства: сахарные головы, мешки с деньгами, бараны. Их поражает стрелами двуглавый орел, парящий над головою Минервы. Окружают богиню гении и атрибуты поэзии.
Славу императрицы делит Вольтер, бюстом которого украшен хозяйский кабинет. Творения Вольтера не заперты в книжный шкаф: они всегда под рукой у хозяина. Тут и полное собрание большого формата в зеленых переплетах, и отдельные томики в коже, и переводы в прозе и стихах. Есть, конечно, и майковский перевод[128]128
Василий Иванович Майков (1728–1778), поэт, сатирик, драматург, переводчик.
[Закрыть] «Меропы, Трагедии господина Вольтера»:
Царица, истреби мечтания ужасны,
Вкушай приятности надежды в дни прекрасны…
Но почетнейшее место в библиотеке Николая Еремеевича занимают все-таки его собственные труды: до двадцати книг, им написанных[129]129
Н. Е. Струйский издал 32 книги.
[Закрыть] и им же изданных, большинство – в собственной типографии, в собственном селе Рузаевке, безо всяких цензур и одобрений, не для продажи – для личного употребления и преподношений.
Иные заводили конюшни, другие – псовую охоту, третьи – винокуренный завод. Было всего этого понемногу и у помещика Струйского, но великую славу и бессмертие создала ему типография, отменная и превосходная, на которую он тратил большую часть доходов. На него работали известные граверы и художники Набхольц и Шенберг[130]130
И. К. Набгольц и X. Г. Шенберг гравировали виньетки к большинству книг Струйского.
[Закрыть]. Его книги печатались не только на александрийской бумаге, но и на белом атласе. Подносились императрице, некоторым высоким особам, личным друзьям автора и всем членам семьи – каждому по экземпляру каждого произведения, с обязательством непрестанно читать и изучать. И случалось, что, вызвав одного из сыновей, Николай Еремеевич задавал ему вопрос:
– Какой стих находится на такой-то странице, на такой-то строке в такой-то книге?
И сын должен был отвечать не задумываясь и с полной точностью, чтобы доказать, что с папашиными книгами не разлучается и их старательно изучает.
Творил Струйский исключительно на Парнасе, куда никто не допускался, даже для уборки. Был на Парнасе поэтический беспорядок, валялись рукописи, корректурные листы, оттиски гравюр, и лежала многолетняя пыль, которую хозяин называл своим стражем: «По ней вижу тотчас, был ли кто-нибудь у меня и что он трогал». И когда хозяин удалялся на Парнас – жизнь замирала не только в доме, но и во всей округе, потому что за помеху вдохновению ожидала виновного жестокая расправа. Лишь в крайних случаях допускался староста, но не на Парнас, а к его подножию, к нижним ступеням лестницы, где и выслушивал краткие приказы барина с высоты Парнаса. Было на Парнасе немало оружия – на случай злонамеренных покушений на свободу поэта. И родные подтверждали, что Николай Еремеевич иногда остается на Парнасе по два дня без пищи и питья, не покладая пера, отдавшись высокому творчеству.
Отличительным качеством поэтического дарования Струйского была независимость от грамматики и здравого смысла. Музы заводили его в лабиринты слов и фраз, куда за ним невозможно следовать и откуда он не всегда благополучно выбирался. Он был поклонником Сумарокова[131]131
Александр Петрович Сумароков (1718–1777), издатель, драматург, директор российского театра.
[Закрыть], которого считал едва ли не гениальнее самого себя и которому подражал в торжественности и напыщенности стиля. Сумарокову он посвятил свою Первую книгу[132]132
Она называлась «Апология к потомству от Николая Струйского, или Начертание о свойстве нрава Александра Петровича Сумарокова…» (СПб., 1788).
[Закрыть] – «Апологию к потомству», напечатав ее и в собственном французском переводе, столь же безграмотном. А когда один критик посмеялся над «Апологией», разгневанный Струйский пригвоздил своего врага новой книгой, под заглавием «Для Ховрика ни проза ни стихи». И тут были строки:
Всем нравится моя Апология.
Ховрику не нравится моя Апология,
Ховрик вмещает в себе всех гадов!
Которых Апология моя омержает;
И когда Ховрика она уже усекнула,
Усекнет и прочих гадов!
В книге отличный виньет с изображением гадов и крыс, сидящих в большом числе на болоте. Так расправлялся Николай Струйский с критиками.
Он писал Епистолы, Елегии, Епиталамы, Оды, Еротонды,[133]133
Об изданиях Н. Е. Струйского подробнее см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725–1800. Т. III. М., 1966. С. 177–179.
[Закрыть] письма, критические статьи и кончил изданием «Акафиста Покрову Пресвятой Владычицы». Он описал в стихах потолок своей залы для поднесения императрице, приветствуя ее словами:
Милостивая Циана,
Мать правосудия,
Кроткая и щедрая Богиня
Наперсница небес!
Хоть я Тебя не именую,
Но знают все Тебя, кто Ты.
И кто Ты есмь:
Мой дух Тебя всех больше знает!
Но ему была свойственна и элегическая грусть:
Взойду на брег реки и уду опущу;
На солнце прогляну и паче загрущу!
И, скорбя о смерти друга, он «шествовал за ним в мрачное поле и ту разверстую хлябь, где тени и ничто», – строка, какой мог бы гордиться и современный поэт.
Наконец, он не чуждался и политики, и в книге «О Париже» заклеймил разом бунтарей и масонов-мартинистов:
Что делают в тебе Мартышки Каглиостры?[134]134
Книга «О Париже», называющая масонов «мартышками» и высмеивающая Калиостро, была написана под явным влиянием пьес Екатерины II «Обманщик», «Обольщенный», «Шаман сибирский».
[Закрыть]
Поставили во грудь тебе кинжалы остры!
Лютейша Кромвеля и Гизов воскреся.
И вот этот поэт – вольтерьянец и служитель культа Екатерины – сидит в кругу родных и друзей. Как всякий поэт, он немного деспот. После очень сытного обеда гости не прочь отдохнуть, но хозяин приготовил для них лучшее развлечение. Из кабинета он приносит сверток стихов, прекрасно переписанных крепостным писцом или оттиснутых на листах белоснежной бумаги. Читает он без устали и с увлечением.
Никому и в голову не придет задремать, потому что у хозяина есть привычка: во время чтения щипать не только невнимательных, но и тех, чьи лица выражают неподдельный восторг. Щипками он как бы подчеркивает сильные места, особенно в стихах сатирических. К щипкам его привыкли и жена и гости: у каждого гения свои странности.
Не одним этим славен хозяин Рузаевки. В пензенской глуши он – единственный настоящий европеец, читающий Вольтера с пониманием. Он – враг беззакония и произвола. Он мог бы, подобно другим, бить своих крестьян кулачным боем без суда и следствия. Но, просвещенный юрист в душе, он держится строгих форм судопроизводства: «Лучше десять оправдать виновных, чем одного невинного казнить».
В подвальном этаже его дома есть комната, куда приводят обвиняемых. В первой степени судопроизводства, не вполне согласно новым веяниям в области правосудия, допускаются пытки. Но при пытках хозяин присутствует редко – они не любезны его поэтической натуре. Когда же виновность установлена допросом с пристрастием, – лишь тогда начинается настоящее служение Фемиде. Он сам пишет обвинительный акт, сам оглашает его в публичном заседании, в большом зале, в присутствии семьи и гостей. Иногда он выступает прокурором, произнося обвинительную речь, – и это плохо для подсудимого. Но нередко он берет на себя защиту, – и благо тому крепостному, адвокатом которого выступает сам барин Николай Еремеевич!
В сильной речи, прекрасно построенной, порою переходящей в стихотворную форму, он низвергает обвинение и превращает обвиняемого в белую голубицу. Его речь пестрит выдержками из творений Вольтера и императрицы, словами о высоком милосердии, призывами охранять человеческое достоинство и знатного и подлого человека. По его ланитам текут искренние слезы, сквозь которые он видит на потолке светлый образ Минервы. В пензенской глуши раздаются призывы, делавшие честь Франции вплоть до дней революции и до тех же дней находившие живой отклик в творениях милостивой Цианы. Порок наказан – добродетель торжествует.
Но столь еще велика была тьма в ту славную эпоху, что крестьянин предпочитал быть высеченным розгами наверняка, чем ожидать, захочет ли барин быть его прокурором или защитником. Особенно же боялись мрачной подвальной комнаты, где были и плетки, и щипцы, и жаровня, и хитро устроенная дыба – дань прошлому, еще не стертому высокими идеями нового правосудия.
В одном Струйский был, несомненно, искренен: в своем поклонении Екатерине, «всепресветлейшей Героине», матери отечества и богоподобной царице. Он не был изыскан ее милостями – во всяком случае, не больше других рядовых дворян. Он «пел» ее не за страх, а за совесть, с той же искренностью, как пел Вольтера и Сумарокова и как обливал негодованием Княжнина[135]135
Яков Борисович Княжнин (1742 (1740?) – 1791), русский драматург.
[Закрыть], «трагика, рыгающего в Бога», за его трагедию «Вадим».
И силу своей любви к Екатерине он доказал не только словами. Когда «бессмертная Богиня и наперсница небес» скончалась самым благополучным образом, – Струйский был поражен в самое сердце. У него не нашлось слов для торжественной и печальной оды: получив известие об ее кончине, Струйский заболел горячкой и лишился языка. Его типография стояла без работы, в подвальной комнате не раздавались стоны, в парадном зале не собиралась публика на праздник правосудия. Попрятались Музы, поник головой мраморный Вольтер, пылью покрылись белые атласные и глазетовые переплеты, и вся Рузаевка обратилась в «мрачное поле и хлябь разверстую, где тени и ничто».
Певец и верноподданный не оправился: он умер, не сказав больше ни слова, не написав ни строчки, промучившись недолго. Создав себе нерукотворный памятник книгами, не их содержанием, а их редкостной пышностью, он остался только в памяти книголюбов. Две-три заметки о нем и его типографии найдутся в старых журналах; вскользь упомянул его имя Ключевский, говоря о «цивилизованном варварстве». И даже не всякий историк литературы знает, что был во дни Екатерины поэт, тем знаменитый, что считался «бездарнее Тредиаковского».[136]136
Василий Кириллович Тредиаковский (1703–1768), русский поэт, филолог, академик.
[Закрыть]
НАСТИНЬКИНА МАЕТА
Для молодой барыни со щипаной бровью и красными поганочками на ногтях – всякого романа занятнее должен быть модный журнал. Ну, а мы, козлиная порода, смотрим – не понимаем, в чем интерес: облизанные полудевы в изгибе, точно если стекольщик скатал промежду ладоней замазку, на головах шляпки-бляшки, на дощатом животе пуговица, прочие принадлежности срезаны перочинным ножиком, и материи на копейку. Смотреть нечего: то ли бальное, то ли постельная рубашка!
Ах, не так рядились в старину! Погасла радуга и увял сад цветущий! Было раздолье для выдумки, и праздничная толпа, что на бале, что на улице, играла огнями красок и радовала прихотливый глаз. Даже и на нашей памяти были, например, шляпки, подобные осеннему возу зрелых овощей и фруктов или заморскому попугайному курятнику. А плечи с буфами-фуфырами, а истово подбитый подушками круп, столь прекрасно тончивший талию, а стоверстый шлейф, собиратель блох и окурков, а высокий корсет, стальная чаша для живого мрамора! Какие мамы и какие девушки, и сколько было на них шкурок и таинственной шелухи: не нынешний вылущенный боб, а подлинный артишок, отрада гастронома!
Но если по-серьезному говорить об искусстве наряда, то нужно отдалиться ко временам мудрой императрицы Екатерины Великой, матери отечества, когда и мужчина недалеко отставал от женщины, соперничая яркостью камзола с дамской робой. От тех времен остались нам в поучение и модные журналы, и записи благодарных воспоминаний.
* * *
Графинюшка Настинька вышла в невесты. Лет ей шестнадцать, глаза лучисты, личико худовато от частых балов да от Клуба и Воксала, костяк хрупкой, но юность говорит за себя, а приданое – две тысячи душ и столько сундуков, сколько наберется добра до свадьбы. Этим делом она сейчас и занята, под руководством тетеньки Параскевы Михайловны, женщины и основательной, и бывалой, видавшей и Париж, и Версаль, сподобившейся причесываться у великого придворного версальского волосочеса Леонара. Граф-батюшка отвалил достойной сестре на расходы по покупке дочери приданого такую кучу денег, что только Параскева Михайловна и способна глазом не моргнув истратить все и еще попросить. Теперь все московские модистки завалены работой, и жизнь Настиньки стала трудовой и беспокойной: с утра до вечера покупки, примерки, заботы, огорчения, некогда и с женихом повидаться.
Вставать приходится рано, в десятом часу, и с утра одеваться хоть и просто, а по-модному, потому что у больших модисток встречается целое общество щеголих, бывают и мужчины, а в Гостином ряду настоящее гулянье. Дома причесывает простая босая девка Глашка, и перечесываться приходится в заведении у Бергуана, который по утрам на дом не приходит, а торгует помадой для плешивых, нитяными париками, салом и пудрой, накладками для дамских головок, гуляв-ной водой, амбровыми яблоками, лоделаваном, лодеколоном и всякими при гираньями и румянами: кошенилью, огуречным молоком, отваром усопа, зорной и мятной водой. Есть у него и пудермантели, и щипцы, и ложные букли, и расписные веера, и презабавные мушки, от мелкой в соринку – до большой, в монету, а вырезные – лисичкой, петушком, жучком, даже каретой цугом и с гайдуками, чтобы налеплять их на щечку (согласна!), под носом (разлука!), у правого глаза (тиран!), на подбородок (люблю, да не вижу!). Много всяких значений – и все их знает модный волосочес.
Чтобы ехать к нему, Настинька, в сопровождении пожилой мамки, сначала заезжает за тетенькой, а дальше уже в ее карете. Приходится думать о том, чтобы не замарать в великой московской грязи красный каблучок башмаков; для этого с крыльца на дощатый тротуар и до самой каретной подножки девка Глашка настилает половик, а Дунька смотрит, подобрана ли роба, не волочится ли хвост. Батюшкина карета проста, без золота и без форейторов; у тетеньки выезд расписной, на дверцах изображены пасторали, стекла граненые, ободки с золотом, позади гайдук на высоком сиденье, впереди едет выносной с ременным кнутом.
Когда едешь с тетенькой Параскевой Михайловной, особенно на бал, люди смотрят с удивлением и завистью. Тетенька сидит неподвижно, нагнувшись, чтобы не смять о крышу свою высокую прическу в виде висячего сада а ля Семирамид. Тетенька любит вышитые робы с глазетовой юбкой и русскими рукавчиками позади, а фижмы[137]137
Фижмы – в XVIII – начале XIX в. каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку, а также юбка с таким каркасом.
[Закрыть] так велики, что и Настиньку прикрывают и высовываются в отверстое каретное окно. С фижмами в карете вдвоем, конечно, не уместиться, но Настинькино девичье платье всегда проще: летом – сюртучок из тарлатана[138]138
Тарлатан – легкая хлопчатобумажная или полушелковая ткань, из которой шили женские платья в XIX в.
[Закрыть], зимой к нему – бархатная шуба с золотыми петлицами и ангорской муфтой длинной шерсти. Причесываться в последнее время ей как молодой тетенька указала с пострижкой шейного волоса, как для гильотины, – очень модно и заведено французскими беглыми аристократами.
Лошади месят грязь через пол-Москвы, и только к полудню удается добраться до знаменитой модистки мамзель Виль, которая, как завидит богатых заказчиц, – бросает всех и пре-несносно лебезит. И вот тут поистине разбегаются глаза и разум темнеет. Время такое, что от тяжелых роб стали переходить к платьям легким и воздушным. Конечно, женщина в годах, как тетенька, хоть и великая модница, не оденется Дианой, Галатеей или весталкой, но все же и ей наскучили польские и немецкие фалбалы и палатины, и она завела себе, на случаи менее парадные, де-буффант волосяной материи вместо обычных фижм. Однако при парадном приеме Параскева Михайловна выплывает всегда в круглом молдаване с хвостом из бархата, штофа, атласа либо люстрина, гродетура, гроденапля. На малый выезд, в Клуб и Воксал, – сюртучок с фраком, воротничок узенький и высокий, вроде туркеза, рукавички расшнурованы цветными ленточками, лацканы на пуговках, юпка из линобатиста, а шляпа непременно колоколом. Все эти наряды шьет себе теперь и Настинька, потому что не во всяком доме появишься, как смелые щеголихи, Авророй и Омфалой[139]139
Омфала – в греческой мифологии царица Лидии, к которой был отдан в рабство Геракл.
[Закрыть], в тонкой шелковой рубашке хитоном, с сандальями на ногах и прической а ля Титюс! Да этого и папенька не позволят, пока не стала мужней женой и от семьи отрезанным ломтем.
В мастерской мамзель Виль глаза разбегаются еще больше, чем в самых лучших модных лавках «О тампль де гу» [140]140
«Au temple dé goût» – «В храме вкуса» (фр.).
[Закрыть]и «Мюзе де нувоте»[141]141
«Musée de nouveauté» – «Музей новинок» (фр.).
[Закрыть]. Самое замечательное у нее – готовые на все вкусы шельмовки, шубки без рукавов, из всякого цвета и всякой добротности материй, и глазетовая, и аглинского сукна, и стриженого меха, и с вышивкой, и с кружевом, и с лентами, и с красной оторочкой. На шельмовках вся Москва помешалась! А как начнет мамзель Виль показывать распашные кур-форме, да фурро-форме, да подкольные кафтанчики, да чепцы всех сортов, величин и форм, всех цветов и материй, да рожки, да сороки, да а ля греки, да «королевино вставанье», да башмачки-стерлядки или же улиточкой, – нет сил оторвать глаза, и хочется забрать все и целый день примеривать дома. В платье, ей заказанное, мамзель Виль советует непременно вставить для пышности проклеенное полотно, прозванное лякриард, потому что оно не только держит материю несмятой, а и само шумит и привлекает всеобщее внимание. Сейчас без этого лякриарда хоть и в общество не показывайся, никто замечать не станет; а вот на балах – не годится, очень размокает, если вспотеешь в модном танце – вальсоне.
От мамзель Виль приходится ехать к другой знаменитой модистке, к мадам Кампиони, которой заказано платье самое поразительное, последний парижский крик, хотя по виду простенькое неглиже. Вы представьте себе белый с пунцовым карако а ля пейзан: коротенький пиеро из белого лино ажур, без подкладки, с маленькими клиньями и белыми флеровыми рукавами, и все сие обшито пунцовою лентою; юпка такая же, как пиеро, конечно, без фижм, но на бедрах с пышностью; на шее белый флеровый, пышной, однако полуоткрытой платок, как бы говорящий: «Скрываю прелесть, но не жесток»; чепец белого лино гоффре с маленькими круглыми складками, убранный пунцовою ж лентою, к платью подобранный в полном совершенстве; всенепременно носить при этом большие круглые золотые подвески. Говорят, что в Париже стало недостаточно золота, потому что все щеголихи носят его на себе в виде блонд, ожерелий с большими сердцами, серег, бахромы, колец и обручей, даже и на ногах. Но приятнейшее в сём модном неглиже – это пунцовые башмачки, при ходьбе и в танце мелькающие огоньками и обжигающие и глаз, и чувствительное сердце. Помилуй, сколь желаннее цвет пунцовый, нежели желтый с черным а ля контрреволюция, который тщились ввести французы, однако у нас не понравился! Нужно прибавить, что неглиже а ля пейзан требует особой прически а ля кавальер, с весьма толстым шиньоном и мужескими локонами.
От модисток Настинька с тетенькой спешат домой, где ждут купцы с бельевыми тканями: все белье шьется дома, но из холстов покупных, а свои, деревенские, идут только на дворовых. Опытные девки с утра до ночи кроят и шьют для Настинькиного приданого епанчи, исподницы, камзолы спальные, юпки и юпочки, платки на покрыванье, наволочки на одну и на две особы, на оконишные подушки, на стулья и канапеи, да занавесы постельные и подъемные. Тетенька сама выдает нитки и иголки, кричит на девок, наказывает за плохой шов. И не только о белье думает, а во все входит самолично: аптекарю приказала доставить всяких трав и снадобий, необходимых для домашних притираний: и травы нюфаровой, и воды бобовой, и лимонного соку, и дикой цикории, и уксусу, и козьего сала, и лаудану, и росного ладана, мужжавельных ягод, фиольного корню, гумми бенжуанской и даже тертого хрусталю.
А назавтра с утра ехать смотреть мебели, иногда даже с папенькой, который по этой части сам большой любитель и знаток: сразу отличит, которая мебель по модели Давида, которая работы Жакобовой,[142]142
Жакоб – семья французских мастеров художественной мебели.
[Закрыть] а которая русских мастеров – Воронихина, Шибанова[143]143
Михаил Шибанов (ум. после 1789) – крепостной живописец.
[Закрыть], Тропинина. Всего же приятнее бывать с папенькой на гулянье, где все ему кланяются, он же первым кланяется только большим вельможам и старым госпожам. И сколь парадна и пышна московская знать! Сколь ненаглядно одета бывает приезжая из Санкт-Петербурга графиня Разумовская, та самая, которая прославилась убранством головы: ей великий Леонар, из Версаля бежавший, сделал прическу из красных бархатных штанов, случайно на глаза попавших, – и все щеголихи на придворном бале позеленели от зависти! Из мужчин первый щеголь – старик Нарышкин, знаменитый своим кафтаном: весь кафтан шит серебром, а на спине вышито целое дерево, и ветки, сучки, листья веселым блеском разбегаются по плечам и рукавам. Пожилые мужчины во французских кафтанах, в белом жабо, в чулках и башмаках, в париках пудреных. Князь Лобанов-Ростовский каждый день с новой тростью – у него их не меньше сотни, иные с драгоценными камнями, и, в отличие от других, князь носит бархатные сапоги. Молодежь одета по-модному и в своих волосах, иные выходят на гулянье во фраках с узкими фалдами, в жилетах розового атласа, в огромных галстуках, закрывающих подбородок, четырежды обмотанных вокруг шеи, в широких сапогах с кистями. Но на молодых людей девушке заглядываться не пристало.
День за днем – суета и маета, отдохнуть некогда. До свадьбы еще далеко, девичье личико бледнеет, и рада Настинька, когда вечером, ежели тетенька не везет на бал, с облегчением снимает с худенького тела ужасного тирана корпа, железными тисками сковывающего ей бока и грудь; зато талия у нее совсем в рюмочку – зависть подруг. И кажется: вот проходи еще час-два в мучительном корсете – сердечко станет, дыханье прекратится, и случится, как бывает с тетенькой, столь модный ныне обморок коловратности…







