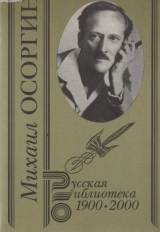
Текст книги " Старинные рассказы. Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Михаил Осоргин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 51 страниц)
РОЗА БЕЗ ШИПОВ
В поисках идиллического прошлого – мудрых правителей, их славных сподвижников, гражданского благоденствия и прочих достопамятнейших событий нашего отдаленного прошлого, в поисках весьма трудных и утомительных, но обязательных для бытописателя, заподозренного в пристрастии и желающего обелиться, сочли мы за благо остановиться в восхищении перед останками храмика Розы без шипов. Этот храмик стоял, а может быть, и посейчас красуется на холме у овражка в местности между Павловском и Царским Селом. Сейчас эти имена исчезли и заменились новыми; точно так же в течение прошлого века, без помощи революции, менялось имя сада, в котором стоял храмик. Современники могут помнить его как Анненкову дачу; раньше он назывался Салтыковской мызой; но создан и крещен он как Александрова дача, создан императрицей Екатериной для любимого внука.
У державной бабушки была слабость, великим людям простительная: не довольствуясь сочинением замечательного «наказа», она писала повести, пьесы и юмористические фельетоны обличительного характера. Не обладая ни художественной фантазией, ни достаточной грамотностью, она не составила бы себе литературного имени, если бы, на счастье, не была императрицей. В качестве таковой она без труда находила издателей и пользовалась лестным вниманием критиков, в частности Державина, который устроил отличную рекламу нравоучительной сказке Екатерины о царевиче Хлоре (имя, по тому времени не звучавшее слишком химически), взошедшем «на ту высоку гору, где Роза без шипов растет, где добродетель процветает».
Сказка забыта; мало найдется охотников ее перечитывать. Но обиднее всего, что давно-давно исчезла из памяти великолепная иллюстрация к этой сказке, созданная по мысли и по плану удачливой писательницы. Можно с уверенностью сказать, что никогда и никому ни раньше, ни позже не доводилось так иллюстрировать свое маленькое литературное баловство! «Сказку о царевиче Хлоре» Екатерина повторила в символической распланировке лесной дачи под Царским Селом, названной Александровой в честь очаровательного мальчика, будущего царевича, также мечтавшего о Розе без шипов, и будущего царя, при котором Роза выродилась в колючий шиповник.
По счастью, жил в те времена поэт С. Джунковский[156]156
Степан Семенович Джунковский (1762–1839), учитель английского языка у великих княжон; числился в штате лейб-гвардии Преображенского полка. Его поэма «Александрова увеселительный сад…» впервые была издана в 1793 г., переиздана в Харькове в 1810 г.
[Закрыть], бездарный, но вдохновенный. Восхитившись увеселительным садом великого князя Александра Павловича, он описал его в поэме, роскошно изданной в лист, с четырьмя гравюрами, – издание ныне редчайшее и ненаходимое. С увеличительным стеклом склоняемся мы над этими превосходными старинными гравюрами и наконец находим в себе благорасположенность без всякого искусственного напряжения вдохновиться идиллиями минувших времен.
* * *
Кто этот добрый ратай, идущий за легким плугом, влекомый дюжими волами? По простоте одежды его можно принять если не за простого мужичка, то за духовного пастыря. Белыми руками он держит рукоятки плуга, как ни один пахарь их не держивал. Острая сталь режет надвое судорожно извивающуюся змею. Другая змея с любопытством смотрит с камешка на страдания своей родственницы. Сквозь тучи потоками низвергается солнечный свет, в лучах которого парит голубь, слегка напоминающий утку. На ветке огромного дуба пахарь повесил суетное – генеральскую ленту и орденские знаки. На горизонте – сжатая нива и огромный сноп с перевязью и латинской надписью, гласящей: «Просвещение народа». Справа в отдалении и возвышении – круглый храмик с курящимся жертвенником.
Змея – невежество. Пахарь – генерал-аншеф граф Николай Иванович Салтыков[157]157
Генерал-аншеф граф Николай Иванович Салтыков (1736–1816) – обучал великих князей Александра и Константина Павловичей по учебной библиотеке, составленной Екатериной И, в которую входила и так называемая «Бабушкина азбука». В состав последней была включена и «Сказка о царевиче Хлоре». См.: Сочинения Екатерины II. СПб., 1893. T. I. Примечания. С. XIII.
[Закрыть], воспитатель великого князя. Ему была подарена Александрова дача, и он по праву изображен за мирным занятием на гравюре заглавного листа. Это он вспахал великокняжескую душу и засеял ее благими намерениями; он научил Александра «восчувствовать особливо высокость и справедливость мыслей», державным пером вложенных в сказку о царевиче Хлоре.
Храмик Розы без шипов стоит на холме, окруженном водою. К воде сбегает вьющаяся тропинка, и у берега ждет ботик с Андреевским флагом. Лебеди с выгнутыми шеями, кудрявые дали, арка изящного моста, сельские домики, в которых благоденствуют пейзане, совсем на горизонте церковка, в которой эти пейзане по праздникам воссылают благодарственные молитвы за сыплющиеся на их головы благодеяния. Сельский труд – в мирном сожительстве с искусствами. Против храма Цереры, на круглой крыше которого урны и встреча двух голубков, скромно красуется избушка, крытая соломой. Перед избушкой поле, уставленное скирдами в таком изобилии, что диву даешься, откуда на малой полоске могло уродиться столько хлеба. Два крестьянина толкуют о своих делах; у одного на плечах сноп и коса, в другом по бороде можно угадать старца и мудреца; в стороне собачка, верный сторож.
О чем говорят пейзане? Конечно, они обсуждают надпись на каменной глыбе, соседствующей с избушкой. Надпись гласит: «Храни златые камни» – символ незыблемой основы благосостояния России при Екатерине: ее «Наказа».
А вот на берегу группочки людей, одетых просто, но со вкусом. Дамы сидят на лужайке; юноши рассматривают какой-то чертеж. Возможно, символ строительства. Вдали юноша, стоя на утлом челне, рукой указывает на холм; вероятно, это-царевич Хлор, отправляющийся в далекое путешествие. Среди богатой зелени виден дом; к нему ведет прямая недлинная аллея.
Прекрасный вход дорога открывает,
Полна цветов, и кратка, и пряма,
Блажен ну жизнь младенцев представляет;
Забавы их премудрость чтит сама;
Но вдруг, поворотясь, стезя пестреет,
Там нежные цветы, там тень имеет,
Излучисто предходя поле, лес.
Действительно, за поворотом дорога превращается в лесную тропинку и приводит к месту, украшенному трофеями. На пути водный ключ, носивший имя матери Александра, Марии Федоровны, а также пещера нимфы Эгерии, мудрой наставницы Нумы Помпилия. Многозначительное сочетание имен и эпох! Пройдя через мост, подымемся на холмик храма Розы.
Роза без шипов процветала в урне посередине храма; современным садовникам ее порода незнакома. Плафон храма был расписан фресками, изображающими Петра Великого. С небес великий преобразователь радостно взирает на блаженствующую Россию: символы богатства, науки, всяческого изобилия. Промышленность опирается на щит с изображением Фелицы. Орел ломает когтями лунный серп – предприятие довольно бесплодное, но доказывающее презрительное отношение орла к светилу ночи и склонность его к свету дневному. Слава трубит в рог, извещая весь мир о победе над безбожными турками, а может быть, над злодеем Пугачевым, пытавшимся смутить легковерных пейзан благоденствующей России. Два ангела с крестом – дань христианской религии, несколько потревоженной изобилием богов и полубогов римских и греческих. Отсюда прекрасный вид на протоки и заливчики озера, на лодочки, парусные ботики, лебедей, на колоннаду храма Цереры и строгие линии еще одного храма, посвященного Флоре и Помоне, божественным покровительницам цветов и садоводства.
Таков был, по описаниям и по гравюрам, увеселительный сад «Александрова дача», долженствововаший иллюстрировать сказку Екатерины о царевиче Хлоре. Непонятно, почему он был подарен Салтыкову; уже на плане Павловска 1789 года он именуется Салтыковскою мызой. Позже он переменил очень много владельцев, и из всех его архитектурных украшений до недавнего времени сохранились только останки семиколонного храмика.
Он был задуман как символ; он и оказался красноречивым символом жизни и царствования Александра Павловича.
Мечтательное детство, вдохновенная юность. Прилежный ученик нимфы Эгерии,[158]158
В римской мифологии Эгерия была пророчицей-нимфой ручья, из которого весталки черпали воду для своего храма; возлюбленная и наставница царя Нумы Помпилия, который, согласно традиции, был вторым царем Древнего Рима; учредил религиозные культы в городе.
[Закрыть] безвредного Салтыкова и превосходного человека, чувствительного писателя, культурного европейца Михаила Никитича Муравьева. Прямая и краткая дорога к храму славы, усыпанная цветами лучших намерений. Блестящее окружение молодежи, готовой на подвиги строительства. Правда, нелегок переход по мостику из долины мечтаний к высотам возможностей, но символический орел ломает когтями лунный серп мрачного павловского правления. С небес великий Петр и великая Екатерина благосклонно взирают на первые шаги преемника на путях преобразований. Царевич Хлор тянется к мистической Розе – и больно накалывает руку.
Оказывается, что Роза без шипов встречается только в сказках. Неведомо откуда появляется непредусмотренный сказкой персонаж – Бонапарт. Царевич совершает подвиги, конечно, за счет благоденствия пейзан и сказочного урожая. Промышленность передает щит богу Марсу, Слава трубит в рог в честь Священного союза. Два ангела с крестами принимают личины князя Александра Голицына и фанатического чернеца Фотия; Флора и Помона переименовываются в Татаринову и госпожу Крюднер[159]159
Екатерина Филипповна Татаринова, урожденная Буксгевден (1783–1856), руководительница мистической секты «Союз братства». Подробнее о ней и ее секте см.: Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Екатерина Филипповна Татаринова и Александр Петрович Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 10–12; 1896. № 1–2. Варвара-Юлия Крюднер, урожденная Фитингоф(1764–1824), проповедница мистицизма, «пророчица», как и Татаринова; знакомая с 1815 г. императора Александра I, который покровительствовал ей. Подробнее см.: Пыпин А. Н. Госпожа Крюднер// Вестник Европы, 1869. № 8–9.
[Закрыть].
Путаются тропинки, разрушаются мостики, тонут ботики, белоснежные лебеди взлетают черными воронами. На алтаре храма Цереры гаснет пламя бессмысленных мечтаний Александровой молодости. В ссылке Сперанский, в силе Аракчеев. В угоду Фотию закрыты масонские ложи. Сбившись с пути, неудачливый император неожиданно и безвременно умирает в Таганроге.
Легенде хочется продлить сказку: она превращает Александра в старца Федора Кузьмича, ушедшего от мира и скрывавшегося в медвежьем углу. Вместо Александра похоронен солдат. Легенда держится долго и упорно, до наших дней. Будто бы вскрывают гроб – и он оказывается пустым: ни императора, ни солдата. Легенда порождена обидой: мудрый и чистый духом старец Кузьмич – бывший царевич Хлор, лучшее, что было или что предполагалось во внуке Екатерины, не оправдавшем ожиданий просвещенных современников.
Прежде всего исчезли декоративные снопы и скирды в увеселительном саду. Ботики продырявились и затонули. Цветники по обеим сторонам дороги заросли мокрицей и лопухом. Мальчики отбили нос Церере, пририсовали усы богоподобной Фелице и утащили урну с бесшиповой Розой. Заглохли тропинки, пруд затянулся ряской. Голубь действительно обратился в утку и в дни перелета крякал на образовавшемся болоте. Завалился искусственный грот и исчез больше не нужный мостик. Камни храмов заросли или разбрелись на менее художественные, но более полезные постройки. Скоро высохло и болото, и на месте прихотливых рукавов и извилин пруда к нашему времени остались небольшие овражки. Но местность не перестала быть живописной, и Анненкову дачу посещали влюбленные парочки; на колоннах уцелевшего храма Розы без шипов они увековечивали свои уменьшительные имена химическим карандашом, на коре старых дубов вырезывали перочинным ножиком. Теперь дубы, вероятно, вырублены как не соответствующие символике нового времени.
Нам кажутся наивными сказки старого времени и забавной чувствительная слезоточивость предков; все эти урны, розы, добрые пахари, Хлои и Хлоры. Наше время желает казаться железобетонным даже в поэзии. Но как былая идиллия не препятствовала овечкам, где нужно, показывать зубы, так и холодная рассудочность наших дней может на поверку оказаться только новой формой детских мечтаний. Едина судьба небоскреба и храма Розы без шипов; она отлично выражена надгробной надписью осьмнадцатого века:
Бех – несмь.
Есте – не будете.
ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ ДВУХ МЕЙЕРОВ
Жил в Гамбурге еврей Мейер, богатый человек, купец, фабрикант; у него была жена, были дети, и прекрасные кушанья подавались не только в праздники, но и в любой день недели.
И жил-был, во всяком случае, существовал, в Митаве тоже еврей Мейер, и тоже имел жену и уж слишком много деточек, гораздо больше, чем стоило бы заводить бедному еврею, у которого не было фабрики, а кушанья подавались такие, что дети спрашивали мать: «Еще что-нибудь будет?» – и она отвечала: «Или вы хотите полопаться?»
Одному человеку дается больше, другому меньше, третьему почти что ничего – и это очень мудро, иначе не было бы разнообразия и никто бы не работал, чтобы догнать и перегнать другого. И столь же мудро, что еврей богатый и еврей бедный могут иметь одну фамилию, потому что Мейеру из Митавы приятно, что есть в Гамбурге богатый Мейер, а Мейеру из Гамбурга безразлично, есть ли в Митаве Мейер бедный. Таким образом, если обоих Мейеров оставить в покое жить, то они найдут способ устроиться и не мешать друг другу: один будет жить в Гамбурге, другой в Митаве или же наоборот, и каждый будет ковать свою судьбу, ожидая часа, когда оба будут призваны на суд Того, чье имя неназываемо.
Так и было с обоими Мейерами до месяца июня 1800 года. Но случилось, что в последних числах этого месяца богатый гамбургский фабрикант Мейер приехал в Митаву повидаться со своим старым другом Исааком Шнейдером. И хотя он приехал только повидаться, однако они говорили только о делах, после чего, пробыв в Митаве пять дней, богатый еврей Мейер выехал обратно за границу через Палангенскую заставу. И больше ничего.
Больше ничего, если считать за ничто Французскую революцию, заразившую весь мир духом якобинства. Единственной страной, где эта зараза встретила серьезное сопротивление и успеха еще не имела, была Россия, управлявшаяся императором Павлом Петровичем, верховнейшим магистром Священного воинского ордена иерусалимского, издревле храбростью отличавшегося, в те же дни гонимого и водворившегося под сенью крыл всеавгустейшего монарха.
Не то чтобы якобинская зараза совсем не проникала в Россию, но, во всяком случае, она пресекалась при самом появлении, иногда же и до появления, то есть на самой границе государства. Для этого в чужих странах проживали российские резиденты, имевшие в числе других поручений и таковое: быть оком недреманным; а на границе российской проявляли высокую бдительность таможенные инспекторы, чиновники невысокого класса, но в известных делах – первеющего значения. Так, например, в Гамбурге, где обычно проживал еврей Мейер богатый, российским резидентом был Муравьев[160]160
Иван Матвеевич Муравьев-Апостол (1768–1851), писатель, член Российской Академии, затем посланник в Мадриде, отец декабристов Сергея, Матвея и Ипполита Муравьевых.
[Закрыть], человек образованный, знаток иностранной литературы, не чуждый и знания древних языков, автор занятных книг, как то: «Ошибки, или Утро вечера мудренее», «Наставление знатному молодому господину» и прочее. Однако по причине увлечения литературой Иван Матвеевич не удосуживался достаточно внимательно следить за тем, кто едет из Гамбурга в пределы России и сколь этот человек способен быть носителем якобинской заразы. Зато в Митаве, где проживал еврей Мейер бедный, таможенным инспектором был другой Муравьев, чиновник седьмого класса, литературой не занимавшийся и весьма бдительный, хотя и несколько склонный к мздоимству.
Вся путаница дальнейшей истории, которую мы тщетно старались распутать по документам эпохи, заключается в том, что точно неизвестно, который из Муравьевых, гамбургский или митавский, раньше узнал и известил подлежащие высокие полицейско-дипломатические сферы о приезде богатого Мейера в город, где проживал Мейер бедный. При всей быстроте тогдашних курьеров собственный экипаж богатого Мейера передвигался настолько быстрее, что богатому Мейеру успела наскучить Митава раньше, чем хранитель исконно русских начал граф фон дер Пален[161]161
Граф фон дер Пален Петр Александрович (1745–1826) – в 1798–1801 гг. петербургский генерал-губернатор, один из организаторов заговора против императора Павла I.
[Закрыть], петербургский военный губернатор, переслал письмо которого-то Муравьева первоприсутствующему в коллегии иностранных дел графу Ростопчину[162]162
Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826), впоследствии генерал от инфантерии, член Государственного совета, московский военный генерал-губернатор.
[Закрыть], каковой, в свою очередь, послал сообщение в Митаву барону Дризену, курляндскому гражданскому губернатору. Если же к этому прибавить, что о том же была переписка еще и с графом Паниным Никитой Петровичем[163]163
Н. П. Панин (1770–1837), сын генерал-аншефа Петра Ивановича Панина.
[Закрыть], вице-канцлером, бывшим не в лучших отношениях с графом Ростопчиным, то станет понятным, сколько времени должно было занять одно начертание в письмах имен, титулов и званий.
Не может нас, конечно, не заинтересовать, почему такую междуведомственную суматоху вызвал краткодневный наезд в Митаву богатого еврея Мейера. Нужно заметить, что именно этот пункт и является самым темным в деле, так как никаких сведений о Мейере ни у кого не имелось, за исключением того, что он еврей и, следовательно, легко мог быть якобинцем, хотя и был фабрикантом. Поэтому в переписке он именуется «злодеем» и «приверженцем якобинства». Сверх того известно с достоверностью, что незадолго до его приезда было донесение о собиравшихся проникнуть в Россию эмиссарах французского правительства Бейере и Мооре, а также некоем Мелнере, якобы имевших поручение, «клонящееся к нарушению спокойствия общего». Вероятно, эти три фамилии от частого их повторения слились в одну в тот самый момент, когда еврей Мейер представил свой паспорт гамбургскому резиденту Муравьеву и таможенному инспектору Муравьеву же. Что касается до примет, то описания наружности богатого Мейера не сохранилось, вообще же на границах существовало предписание наблюдать, не попытается ли проникнуть в нашу’ страну изверг со следующими приметами: «Ходит в прическе и косою, нос длинный с горбом… Носит белый фрак с красным воротником и в голубых панталонах». Таковым предполагался типичный портрет якобинца. И, однако, достоверно известно, что в подобном костюме никто не пересек отлично охранявшейся границы, быть может, потому, что белый фрак по тогдашним грязным и пыльным дорогам не был достаточно практичным одеянием.
Коротко говоря, богатый еврей Мейер был совсем ни при чем и, конечно, хорошо сделал, что не задержался в Митаве. Вероятно, он так и не узнал, какая опасность ему угрожала и как ждали его обратного проезда на таможенных заставах не только Палангенской, но и Бржестской, Гродненской, Юрбургской и Ковенской. Но если не было Мейера богатого, то был в Митаве Мейер бедный, там родившийся и там проживший пятьдесят четыре года на той же улице, в том же доме и в тех же двух комнатах. Зачем еврею менять квартиру, как будто он перелетная птица? И что скажут, когда узнают, что портной-починщик Мейер уже не живет там, где жил? Скажут: если уж он переехал, то это что-нибудь да значит, и могут от этого выйти разные неприятности.
Дальше все понятно. Барон Дризен, не поймавший в пределах своего ведения злодея Мейера, получил из Петербурга нахлобучку. Со своей стороны, барон Дризен дал нахлобучку губернскому таможенному инспектору Муравьеву, охранявшему по должности границы. Поставленная на ноги городская и таможенная полиция без особого труда установила, что человек с длинным горбатым носом действительно приезжал в Митаву в собственном экипаже и уехал обратно раньше, чем узнали, что он изверг и приезжал в злонамеренных целях распространения развратных мыслей якобинства. Однако в списках уехавших за границу имени его не нашли, хотя был тщательно отмечен проезд прусского седельного подмастерья Фридриха Полкана, мясничного дела подмастерья Теодора Шпека, рижского купца Христиана Позвона, американского дворянина Роберта Муррея со служителем Леоном и многих других. Следовательно, гамбургский Мейер мог и не выехать к себе на родину, а остаться с тайной целью нарушения общего спокойствия.
Естественно поэтому, что в один очень неприятный день забрали бедного еврея Мейера в тот самый момент, когда он примерял старому Лейзеру уже в четвертый раз перевернутый и сорок раз штопанный праздничный длиннополый наряд. Забрали и не погнали пешком, а посадили в хорошую коляску и привезли в приличное помещение, где приезжий из Петербурга чиновник задал бедному Мейеру несколько таких вопросов, каких ни один человек за всю жизнь Мейера не задавал ему даже в шутку. Так, например, он спросил Мейера, нет ли у него фабрики в Гамбурге и доброго дорожного экипажа, не носит ли он белого фрака при голубых штанах и не водит ли дружбы с Исааком Шнейдером, самым богатым, почтенным и гордым евреем в Митаве?
И, конечно, бедный Мейер понял, что на такие лестные вопросы просто отвечать нельзя. И он отвечал, что хотя фабрики в Гамбурге у него нет, но он очень хотел бы ее иметь и надеется управиться с нею не хуже всякого другого; что если есть для него на примете такая фабрика в Гамбурге, то он готов, как ему ни жалко оставить родной город Митаву, сейчас же выехать в Гамбург со всем семейством, а также переселить туда и нескольких родственников. Но так как собственного дорожного экипажа у него, бедного Мейера, в настоящее время также не имеется, то ему на такую поездку потребуются подъемные, и уж не меньше, как сто рублей, которые он полностью выплатит из доходов своей фабрики, так что за ним не останется ни одного гроша, и даже готов заплатить небольшие проценты тому, кто ему эти деньги даст. Единственное, на что он как честный еврей не может согласиться, это надеть белый фрак и голубые панталоны, потому что для старого человека это неприлично и его, конечно, осудили бы все знакомые и заказчики, но если уж это необходимо, то белый фрак мог бы надеть его старший сын Лейба Мейер, играющий на скрипке на еврейских свадьбах и человек мощный. Что касается до близкой дружбы с Исааком Шнейдером, то этого он, Мейер, не отрицает, и вот почему. Однажды, лет девять тому назад, его вызвали в собственный дом Исаака Шнейдера, но вызвал не сам Исаак Шнейдер, а служивший у него кучером Хаим Берман, сын Иосифа Бермана, родственника его жены Сарры, и Хаим Берман спросил его, Мейера, может ли он, Мейер, сшить ему совсем новую кофточку, чтобы надевать ее под верхней одеждой в холодную погоду. Конечно, он, Мейер, ответил, что может сшить все, что только потребуется, но что материал должен купить заказчик или же дать ему вперед денег, на что Хаим не согласился. После о том же они говорили много раз, до самой зимы, но сговориться не могли, потому что ни у него, Мейера, ни у Хаима Бермана не было денег.
Ценные показания Мейера чиновник записал и велел ему подписать имя, после чего ему сказали, что он может идти. Очарованный разговором с важным чиновником, Мейер попробовал спросить его, нужно ли ему собираться в Гамбург за получением фабрики и какой срок ему дадут на сборы? Это было напрасно, потому что до тех пор вежливый чиновник немножечко рассердился и велел Мейеру убираться вон, иначе его проводят по шее. Мейер поспешно удалился, но у крыльца обождал, не одумается ли чиновник и не выдаст ли ему хотя немного денег вперед на устройство дел перед отъездом. Не дождавшись в этот раз, он пришел и на другой день, но к чиновнику его больше не допустили.
Так вполне благополучно закончилась эта история для обоих Мейеров, хотя могло случиться гораздо худшее. И оба они не узнали того, о чем знаем мы из обширнейшей и сложной переписки графов, канцлеров, посланников, военных и гражданских губернаторов, тщетно ловивших якобинца в белом фраке и голубых панталонах, именуемого в бумагах «извергом» и «злодеем». Потом эти бумаги рассеялись по архивам, из архивов были извлечены по частям историческими журналами, из журналов же любопытствующими изыскателями, как и сказано в книге пророка Иоиля:
«Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели кузнечики и оставшееся от кузнечиков доели мошки».







