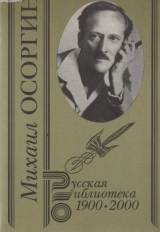
Текст книги " Старинные рассказы. Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Михаил Осоргин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 51 страниц)
СОЖЖЕННЫЙ ДЬЯЧОК
Осенью 1720 года пошло солнышко на убыль, так что под вечер дьячок Василий Ефимов клацал зубами и содрогался, чему соответственно сотрясалась и его косичка, торчавшая крысьим хвостом. Который холод снаружи – на тот управы нет, который же внутри самого человека – тот холод можно изжить приятием обильной пищи и согревающего тело пития. И, однако, было сие пребедному дьячку недоступно за падением в людях веры и малыми доходами даже священнослужителей, а уж простому дьячку прямо пропадать. И даже жена дьячка Василия спала с тела и видом была не женщина, а как бы копченая смерть.
Разве что случится чудо!
Что чудо может спасти человека, о том дьячок Василий знал доподлинно и видал примеры. Будучи же человеком отчаянного воображения, мечтал о таком чуде денно и нощно, пока не додумался.
А как надумал, то собрал последние грошики и купил у посадских людей кроповой водки три золотника да росного ладану четверть фунта, принес домой и спрятал в чулане, где спал.
После чего тайно писал дьячок какую-то бумагу ночью, при свете плошки, а как был малограмотен, то писал ее три ночи. На четвертую ночь, под тринадцатое августа, вышел дьячок Василий из дому тайно, жены не потревожа, с собою взяв большой ржавый ключ, кадильницу и закупленные ароматы. Тем ключом, под покровом ночи, отпер он каменное подцерковье обрушившейся церкви Пресвятые Троицы, что была в Ямской Новинской Слободе Новегорода и при которой он числился в дьячках, из подцерковья же пролез по мусору и каменьям в самую церковь, даже ободрав локоть и обе коленки, после чего проник в деревянный новый притвор в честь великомученицы Параскевы, где свершались служения и куда из старой церкви были снесены богородичные иконы Умиления и Тихвинской.
Лез дьячок не как тать, а для свершения и прославления чуда в помощь немоготе духовенства, с крохотами выгоды и для низших – для себя и исхудалой дьячихи. Сговору ни с кем не имел – сам надумал, сам и выполнял, а там будь что будет.
Был тот дьячок не пуглив и к мраку церкви привычен, а также к крысам. Взятой с собой сереной тросткой возжег свечу, раскадил в кадильнице уголья, положил росного ладану и, став посреди церкви, кадил прилежно, пока не наполнилась вся церковь благоуханиями от низу до самого купола. Пока кадил – думал усердно, достанется ли ему по загривку за подобное воровское и прелестное действо или же выручат его поп Никита Григорьев с причтом, которым предстоящее чудо сулит неисчислимую и безгрешную выгоду. Потом окропил дьячок укропной водкой пелены при образах и помост, побрызгал и в отдаленных углах, чтобы дух был крепче, и наконец зажег перед Умилением и Тихвинской самые большие свечи, завязал в узелок все принесенное и прежним ходом, по мусору – в каменное подцерковье, оттуда – в дверь, ту дверь снова на запор, вышел на улицу, докатился до дому в свой чулан, припрятал узелок и снова вышел – оповестил попа Никиту о чуде в церкви Святой Параскевы Пятницы.
Поп спал крепко, однако на зельное стучание проснулся, окошко приотворил и услышал:
– Беги, отец Никита, в церковь, где видно в окна сияние необычное!
И началась беготня. Поп позвал другого дьячка, Михайлу, с ним добежал до церкви, а когда отперли замки и проникли внутрь – увидали чудо возжжения свечей и неописуемого благоухания. С ними вошел и дьячок Василий, а войдя – онемел и уже не мог сказать ни единого слова, только мычал и знаками показывал на свой лоб и свои глаза, что он-де все это предвидел и постиг в сновидении. Пошли за ключарями Иоанном Иоанновым и Аверкием Иоанновым, а с ними дальше – объявить о происшедшем преосвященному Аарону, который приехал в церковь своей персоной и всех допросил, как то было.
Всех допросил, но дьячка Василия, первого объявителя, допросить не мог по случившейся с тем полной немоте. И вместо словесного объявления дьячок представил своеручное письмо о бывшем ему во сне видении. В том видении открылось-де ему, дьячку, еще за три дня, предстоявшее чудо, и как должны приехать к церкви епископ Аарон, да архиерей Иов, да боярыня Анна Головина, да княгиня Марья Татева, у которых те иконы прежде в доме стояли, да их сродичи князь Хилков, да князь Юрий Голицын, и будто с ними во главе весь народ новгородский у той церкви молился. И как в самый день чуда услыхал дьячок ночью словно бы гром или хождение колесницы, вскочил от сна в страхе и ужасе, выглянул в окно и увидел над церковью лучи и услышал пение многих ликов и аллилуию, после чего и побежал доложить о том попу Никите, сам же остался нем.
Немым остался дьячок надолго, на целый год, пока шли в церкви молебны, и народ, приняв воровскую прелесть за истину и уверовав в чудо, приходил во множестве и давал неоскудную дачу. Нужно сказать, что из этой дачи перепадало дьячку Василию немного, а промышлял он больше тем, что давал списывать свою пророческую бумагу, взымая малую мзду, или же списывал ее сам, взымая за это побольше. В общем – поправился дьячок, и жена его как бы снова вошла в приличествующее тело.
Когда же слава о чуде, как и всякая слава мирская, человеком измышленная, стала меркнуть и забываться, а с тем окончился и приток доброхотных дач, – прошла понемногу и немота дьячка Василия Ефимова, и прошла на его горе. В пяток пер вой недели великого поста покаялся он своему духовному отцу Тихону Зотикову на исповеди в своем прелестном притворстве, обещавши поститься весь пост и читать двенадцать псалмов и богородичен акафист каждодневно, за что духовник отпустил ему грех. Потом же, придя в отчаяние от новых своих жизненных бедствий, поведал дьячок о своей проделке и архиерею, который греха не отпустил, а делу дал законный ход.
И с того дня начались мытарства дьячка Василия, пытки его великие и великие страдания, тяжкий ответ за затеянное дело и сплетенный промысел, страшная расплата, закончившаяся даже смертию.
Странствует то дело из архиерейского разряда духовных дел в Святейшего Правительствующего Синода коллегию, а оттуда в юстиц-коллегию, и с тем делом странствует дьячок Василий, во всем давно признавшийся, однако пытаемый усердно и без сожаления как лживец и богопротивный хульник и составитель и распространитель соблазнительных копий блядословного воровского письма, мутящего народ.
Уже допрошено и сыскаано немало замешанных в то дело людей, уже отсечен от всех иерейских действ добрый духовник дьячка Тихон Зотиков, не донесший вовремя о признании дьячка на исповеди, уже исписано много бумаги, источено много перьев и изданы сотни приказов и публикаций, – пока, наконец, доставлена в юстиц-коллегию и вручена провинциал-инквизитору Синода во Новегороде последняя бумага, при коей приложен и сам дьячок Василий и коею объявлено по его царского величества указу:
«Дьячка Василия Ефимова за ложное его воровское в народе разглашение и за богопротивный притвор казнить смертию, сжечь, дабы впредь другим такое дело ложно и притворно затевать и тем народ возмущать было неповадно».
Декабря 29 числа 1721 года из архиерейского разряда писано в Синод, что во исполнение приказа – оной дьячок Василий в Новегороде сожжен.
* * *
Но столь велик был дьячков грех, что и сожегши дьячка, – сразу и до конца того дьячка не дожгли, и вышло отсюда новое хлопотное дело, и новая переписка, и новые допросы и сыски.
Жгли дьячка на костре, на еловых дровах, в руку вложив лживую его грамоту о небывшем чуде. Был дьячок худ и изнеможен, горел плохо и невеселым огнем, так что все дрова сгорели, а от жареного дьячка оставалось еще немало, как о том описано в протоколе:
«Голова с шеею остались токмо одне кости и часть груди и рук с перстами и с телом, а в левой руки зажатого о оном ложном чуде списка его дьячковой копии часть, которой и вынять за крепким от онаго жару тоя руки сцеплением невозможно, также и прочих костей не малое число, которых подробну за горением по большей части росписать невозможно».
Прежде всего, хоть о том в протоколе и не помечено, завилась кольцом и сгорела дьячкова косичка, к концу завязанная тонким вервием, дабы зря на ветру не расплеталась. За косичкой запылали дьячковы сальные лохмотья, а как сжигаемый дьячок не был на костре спокоен, то полопались путы на руках и ногах, на лице же дьячковом, когда лизнул его первый огонь, замечено было народом как бы большое удивление, после чего перестал дьячок жаловаться и кричать.
И было допущено, что стоявший при том сожжении на карауле урядник с солдатами, по согласию ректмейстера, собрал жареные останки того дьячка, уложил их в гроб и доставил в дом к дьячковой жене. Для чего той жене понадобились несгоревшие части преступного мужа, о том судить трудно, однако в народе, падком до соблазна, пошел разговор и дошел до начальства.
С царским приказом не шутят, и начальство взволновалось. А так как о том, что делать дальше с недосожженным дьячком, ясного распоряжения не было, то новгородский провинциал-инквизитор извлек названный гроб из дома дьячихи и приказал поставить в церковном притворе до определительного по тому делу святейшего синода указа.
Сожгли дьячка в декабре, указ же был получен в мае месяце следующего года, так что дьячок, хотя и жареный, лежа в гробу в церковном притворе, начал к весне сильно попахивать, наполняя самую церковь уже не прежним благовонием.
Новый же приказ Синода был таков:
«Тот запечатанный гроб с теми оставшимися частьми сжечь на том же месте, на котором дьячку та казнь учинена была, а при том сжении приставить караул и смотреть того накрепко, дабы тот гроб с теми оставшимися частьми сгорел весь в пепел».
Приказано было также произвести сыск и допросить в юстиц-коллегии ректмейстера Глебова, урядника Тимофеева и солдат, для чего собирали они кости и отдали дьячковой жене, а если они покажут на других, то и тех сыскать с пристрастием и всех держать под караулом, пока все дело не обнаружится и, в ответ на посланные дознания, не получится окончательное по тому делу решение.
Что было дальше – не знаем, и все дальнейшее уже мало касалось дьячка Василия Ефимова, обращенного на этот раз в совершенный пепел.
Писан настоящий рассказ по синодским документам подлинности бесспорной, а чего в документах не было, те пропуски добавлены сочинителем, ответственным во всей полной мере.
ИСТОРИЯ ТРЕХ КАЛАЧИКОВ
Серпуховский житель Гостиной сотни Афанасий Львов сын Шапошников принадлежал к разряду людей по преимуществу общительных. По-итальянски таких людей называют «франкоболло» (почтовая марка), а по-русски еще выразительнее: «банный лист». Человек наслаждается в бане, хлещет себя распаренным березовым веничком, окатывается водой, стоит чист, как новорожденный, и только один березовый листочек никак не смывается – прилип и ни с места; а сгонишь его с плеча – он прилепится где-нибудь на ноге и норовит присохнуть, да так и остаться. Вот такие бывают и люди, не озорные, не нахальные, вполне добропорядочные, но до невозможности прилипчивые; ходит вокруг вас, особенно разговорами не преследует, а смотрит, слушает, интересуется, как вы глотаете кусок, как чихнули, что сказали, кому улыбнулись, и все это бескорыстно, лишь по общительности и с целью изучения. И куда бы вы ни двинулись, – он за вами, предварительно спросив: «Я вам не мешаю?» – «Да нет, пожалуйста!» И уже в дальнейшем никак от него не отделаться, особенно если вам необходимо остаться одному или переговорить с кем-нибудь другим по душам. Если же грубо сказать ему: «Да, мешаете!» – то он нисколько не обидится, отойдет и будет смотреть издали вежливо и внимательно, пока не явится у вас желание разбить ему череп или улететь от него в стратосферу.
Афанасий Львов сын Шапошников приехал из Серпухова в Москву продавать пеньку майя 20 числа 1724 года и жил на Мясницкой улице у Ивана Выписляева в доме Гостиной сотни. Пеньку продал, мог бы и поехать домой, но задержался по случаю предстоящего дня рождения государя Петра Алексеевича. 30 майя его величество высокою своей особой изволил быть в селе Преображенском в церкви Преображения Господня у обедни, куда отправился и Шапошников посмотреть на царя.
По преданности своей государю и по привычке делать известным людям приятности, Афанасий Львович догадался, идя в Преображенское, захватить три серпуховских калачика, домашнего приготовления, малость подсохшие, но высокого качества и преотличного вида, тем более что они были перевязаны каждый ленточкой особого цвета: один – белой, другой – зеленой, третий – красной. В Серпухове на базаре такие калачи продавались по цене высокой: 2 копейки штука.
Когда обедня кончилась и царь направился к выходу, Афанасий Львович сын Шапошников подошел к нему в притворе церкви, низко, но без подхалимства поклонился, поздравил и поднес царю три калачика. Его величество не то чтобы удивился, – он никогда и ничему не удивлялся, кроме заморских художеств, – а пожелал узнать, кто такой жалует его калачами:
– Ты какой человек?
– Я Афанасий, раб Бога Вышнего.
– Чего за раб Бога Вышнего?
– Все мы рабы Бога Вышнего.
Великий Петр посмотрел на него со вниманием, калачи принял, ничего больше не сказал. За Петром шла толпа его приближенных, и к той толпе пристал Афанасий. Однако, не желая по смиренности своей докучать царю зря, выдвинулся вперед, подошел к царю сбоку и спросил, как государь прикажет, идти ли ему, Афанасию, домой, или государь укажет ему следовать с ним далее. Петр кивнул головой, дескать – иди с нами, раб Бога Вышнего.
Из Преображенского села великий государь проследовал в свой лефортовский новопостроенный дом, бывший прежде головинским, а теперь приспособленный для приятного царского проживания. За государем пошли туда Василий Поспелов, его приближенный человек, да Михаил Ширяев, постоянно при нем состоявший, да еще человек пять, а с ними и Афанасий Львов сын Шапошников, который нисколько в таком избранном обществе не потерялся, а шел достойно и со всеми наравне. Прибыв в Лефортово, государь изволил уйти в спальню к ее величеству государыне императрице, а свите велел подождать. Потом государь к ним вернулся. И все пошли с ним в галерею, сделанную на островке, в каковой галерее в те поры государь изволил кушать. Чтобы не быть назойливым, Афанасий Шапошников смирненько и достойно подошел к государю и спросил, должен ли он, Афанасий, в ту галерею идти наряду с другими. Великий государь поглядел на Афанасия с прежним любопытством и приказал ему идти вместе со всеми.
Тут начался государев обед, и за одним столом с ним обедали генерал-прокурор Ягужинский[26]26
Генерал-прокурор Ягужинский Павел Иванович (1683–1736) – граф, русский государственный деятель, дипломат, сподвижник Петра I.
[Закрыть], благородные господа Нарышкины, бригадир Румянцев, Михаил Ширяев, певчий Иван Михайлов и другие разные люди, человек двадцать, а с ними и серпуховской Гостиной сотни человек Афанасий Шапошников, не уронивший себя ни обычаями, ни особым к вину прилежанием, ни глупым словом. Держался просто и достойно, кушал умеренно, слушал внимательно и ждал сам, если доведется, вставить слово в общий разговор. Государь был прост, обходителен и ко всем равен, в пище охотлив, в питии малость неумерен и неизменно весел. Взором орлиным оглядывал всех, примечал и Афанасия, поднесшего ему калачики. Когда же, утерев губы рукавом, государь изволил принимать прошек табаку, поднеся его к носу, то Афанасий счел подходящим к случаю громко сказать государю:
– От сего употребления табаку есть ли какая польза?
Его величество поднял брови и спросил Афанасия:
– А ты напред сего табак нюхивал ли?
– Табак я нюхивал, но никакой в том пользы не нашел, кроме греха.
И как о табаке стали говорить и другие, с которыми Афанасий дельно и вежливо поспорил, то внезапно его величество изволил рассмеяться и кивнул на Афанасия:
– Не рыть бы тебе, раб Бога Вышнего, у меня каменья!
Сказано это было шуточно и без подлинной угрозы, только потому, что его величество недолюбливал рассуждений о табаке, о немецком платье и о бородах, будучи очень чуток до раскольничьих розысков и подметных писем, осуждавших его за новшества.
Конечно, по нынешним временам человек с улицы не только не попадет за императорский стол, а и с президентом республики вряд ли пообедает, не говоря уж о том, что калачиков ему никак поднести главе государства не удастся. Тогда было проще, и был доступен великий Петр. Через такой случай могла случиться Афанасию Шапошникову и царская милость, и удача в делах. Но всего этого он не искал, а действовал попросту, как любознательный и общительный человек. Великий государь ему приглянулся, и уходить ему не хотелось, хотя не желал и напрасно навязываться. Поэтому, когда обед окончился и государь направился отдыхать в свою спальню, Афанасий опять зашел вперед и спросил государя, повелит ли он ему, Афанасию, ехать восвояси или прикажет ему остаться со всеми при нем.
Тут государь великий Петр приостановился досадливо, потом со всего размаху ударил Афанасия дважды своей тростью и указал взять его под караул.
Жужжит муха и не хочет отстать; ну, отмахивал ее рукой, не унимается – да и прихлопнул.
Было это 30 майя. Июня 16 дня Петр уехал в Петербург, а за ним Румянцев со своей канцелярией и с арестантом Афанасием Шапошниковым. Об арестанте Петр давно забыл, а Румянцев не знал, что с ним делать. Афанасий сидел в узилище смирно и спокойно: был человек прав, преступления не совершил, бояться ему нечего. Того же года в сентябре месяце Румянцев, которому Шапошников надоел безмерно, доложил Петру: что делать с арестантом дальше? Петр вспомнил про муху-прилипалу и опять отмахнулся:
– А отправь его к Андрею Ивановичу Ушакову в Тайную, да пусть он, Ушаков, мне при случае доложит.
До такого случая заключили Афанасия Львова сына Шапошникова в каземат Петропавловской крепости, обычную тюрьму Тайной канцелярии, где, как полагалось, заковали его по рукам и по ногам. И было в тюрьме тесно, сыро и очень голодно.
Не было в деле Шапошникова никакой срочности, ни в чем он не обвинялся, а других дел было много. Ушаков о нем ничего не знал, Петр, может быть, и вспомнил бы, – но и пяти месяцев не прошло, как уже вопиял в своем вдохновенном надгробном слове служитель церкви:
– До чего мы дожили, о, россияне![27]27
Слова из речи Феофана Прокоповича на погребении Петра I.
[Закрыть] Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!
* * *
В самый день кончины государя объявила Екатерина манифестом прощение заключенным в тюрьмах, чтобы могли они вознести за него молитвы. Тайной канцелярии канцелярист внес в списки освобождаемых Афанасия Львова сына Шапошникова, содержавшегося в тюрьме неведомо за какую вину и по какой причине.
Тут-то и приключился «случай» для Ушакова вспомнить об арестанте. Никаких о нем сведений не было, и только сам он мог сказать, за что он был взят и посажен в тюрьму приказом государевым.
Афанасий рассказал все, как было, без малейшей утайки: как он поднес Петру калачики, как с ним обедал и говорил о табаке, как изволил государь ударить его дважды тростью и отдать под караул, – больше того он, Афанасий, и сам ничего не знает.
Поведение подозрительное! Как посмел Гостиной сотни человек поднести великому государю калачики с лентами по две копейки за штуку, да еще с государем обедать?
– Какой ради причины вышесказанное ты все чинил и так дерзновенно поступал?
Но не было никакого дерзновения! Калачики поднес в знак почтения к государевой особе, а все дальнейшее чинил с донесения государю и с его соизволения. По его приказу за ним следовал, по его указанию сидел за его столом с другими почтенными особами и вел разговор. А укажи государь идти ему домой – ушел бы и не испытал бы заключения в сырой тюрьме. За что был бит и заключен государем – то неведомо, и хотел ли государь наказать его за разговор о табаке или хотел, попугавши, отпустить и наградить, да позабыл – про то ничего никому неизвестно.
Видимо, главное дело – табак. Забеспокоился Ушаков, не имеет ли он дело с раскольником, двуперстником, защитником старой веры и старых книг? Не потому ли и посадил его покойный государь?
Но и в расколе Афанасий Шапошников неповинен. Молится триперстно, исповедь соблюдал, причастия не пропускал. На слово ему бы не поверили, но на очной ставке духовник его подтвердил все в пользу Афанасия.
Конечно, потребовалось время на расследование личности Афанасия Шапошникова и на суждение об его предерзости. После смерти Петра еще год просидел он в крепости за Тайной канцелярией и только в феврале 1726 года вышло о нем решение сената, коим объявлено, что за предерзости достоин он, Шапошников, примерного наказания, но для поминовения блаженныя и вечно достойныя памяти его императорского величества тоя вина ему отпускается и из-под караула освобождается он на вольную волю.
Тем и кончилась история трех калачиков. И того не поняли судьи, что виноват он был не в предерзости и не в расколе, а лишь в излишке общительности и в той особенной клейкости, которой Петр никак переварить не мог. Чувствовал великий государь, что если не посадить Афанасия под караул, то может он прилипнуть к государевой особе крепко и на вечные времена, и уж тогда, сколько его ни отмывай и ни отдирай, – отвязаться от него будет невозможно.
Была у Петра сила – она ему и помогла. И не смущался он действовать дубинкой. А вот нам, простым людям, приходится иногда страдать от такого «банного листа» и без трех калачиков, – а поделать ничего невозможно!







