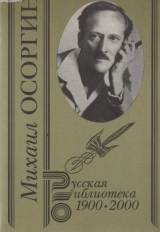
Текст книги " Старинные рассказы. Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Михаил Осоргин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 51 страниц)
РОССИЯ
Требует хороший тон время от времени хоронить Россию. Я даже сделал тетрадочку, и в тетрадочке выписки и вырезки. Из собранного материала ясно, что России больше нет, а есть разоренный и зараженный сифилисом край с безнравственным населением, вымирающим от эпидемий. На полях ничто не растет, в городах ничего не потребляется, а только ходят голые люди с надписью на ленточках: «Долой стыд». Несогласных расстреливают, а самих голых людей Семашки садят в участок. Так никто и не понимает, как дальше поступать. Больше ничего нет, в том числе и водопроводов. Почту из Лиссабона в Стокгольм посылают на просмотр в Москву; делает это Савинков, нынешний глава ГПУ, издающий в Париже газету на эсперанто. И еще много интересного, но печального. Большевики совершенно бессильны, но всесильны; скоро падут, но продержатся, вероятно, долго. Народ же взволнован манифестом императора Кирилла и интервью «Вечернего Времени» с адъютантом Николая Николаевича.
Печатному слову нельзя не верить: сами пишем и печатаем. Что-нибудь да уж правда! Куда же, однако, делась Россия? Леса, реки, горы, человеки?
Под самой Москвой были такие леса, что на верхушках солнце, а небо снизу кажется черным. И у ствола деревьев зеленый полумрак и прохлада, и шепоты, и дятел долбит клювом, и белка швыряется скорлупками. Но знавал я и леса севера. Только опушки знавал; опушка – сотни верст вглубь, а самый лес идет на тысячи, где его узнаешь! Конца там лесам нет. Конца им быть не может.
И реки. По эту сторону Урала несравненная Кама и соперница ее Волга. На Каме, за Пьяным Бором (имя какое!), поворот в устье Белой, где вдоль берега буки и вязы шириной в три дружеских объятия. Под самой Пермью, помню, села на мель белуга, мужики ее кольями добивали. Везли на трех подводах. Набили белужьим мясом все колбасные города, только мясо дрянь, старое.
Кто любит на лодочке и владеет удочкой, для того с реки Белой поворот на Дёму (за Уфой, близ моста). По Ивану Сергеевичу Аксакову,[269]269
«Назвал я Сергея Тимофеевича Аксакова – Иваном Сергеевичем, описался, вспомнив о другом поэте лесов и вод российских – Тургеневе» (Мих. Осоргин. Письмо Ваньки – Ивану. Дни. 1924. 18 октября. № 593).
[Закрыть] поэту рыбной ловли, всей России известна. Когда вода на Дёме сбывает, вылезают со дна коряги, ночью похожие на чертей. На каждой коряге с удобством рассядется человек десять, с неудобством пятнадцать. Иных и половодье не сдвинет – совсем каменные стали. О коряги Дёма плещется, не речка – злость, не вода – мороз, не красота – душа растворенная. Это я помню с детства, может быть, преувеличил, да ведь не удержишься.
А за Уралом – Лена, Енисей. Рыба там максун и сырок. Хоть в рыбе-то вы что-нибудь понимаете?
В студенческие годы, в год дважды, переваливал я через Урал. Знаю Италию, знаю Швейцарию, знаю Черногорию, бывал в Норвегии. Но лишь потому знаю горы, что видал Урал. По Луньевской ветке катался. Швейцария – открытка, а там настоящее. Хороша Юнг-Фрау, не плохи черногорские орлиные гнезда, и Великий Камень Италии не плох. У нас же на Урале есть гора под названием Благость. Вот тут и попробуй удержаться от сердечного трепета. Это она-то умерла? Троцкий ее съел!
Кто знает – пусть степи вспоминает; кто любит – гриб боровик. Акварельный восход солнца в средней России. Светлую ночь на севере. Спелую рожь в конце июля, когда по ней ветер волну гонит. Кто музыкант – курского соловья или щегла на Трубной площади. Кто пешеход – бесконечную дорогу по российским равнинам. Кто лакомка – пчелиный рой. Кто пуглив – лесной пожар. Кто глуп – пусть думает, что все это съел большевик.
Есть еще, и были, и есть в России человеки: скиф, великоросс, хохол, татарин, грузин, мордва, армянин, чудь, черемис, киргиз-кайсак… наизусть не вспомнишь; забыл поляка, чухонца, еврея, румына, самоеда, немца-колониста; еще многих забыл. Одни молятся царю небесному, другие идолам, третьи никому. Есть в Чердынском уезде народец, у которого религии не было никакой, брака тоже; и ничего, жили. Открыт этот народец местным этнографом Б. лет двадцать назад. Возможно, конечно, что теперь там есть уже и «сознательный пролетарий», а может быть, еще и не слыхали про Русско-японскую войну, как моржи на Белом море не слыхали про Ллойд Джорджа. Но и этот народец – Россия.
Одни картавят, другие горланят, третьи говорят с пришепеткой. Москвич акает, володимирец окает, вятич чавокает. А сколько в России языков – сосчитать надо. И все же по числу говорящих на нем – русский язык второй в мире. У народов России язык великий, а корень души – один, российский, что это значит – трудно объяснить, а что это так – всякий знает. И вся она, как одно стеганое одеяло из цветных кусков, теплое, переходящее по наследству.
Нет и такой статистики, чтобы знать, сколько в России святых, дураков, крепких умниц и продувных негодяев. А большевик – это тоже наше, российское, если он не выписной товар, а народился внутри. И Сергий Радонежский наш, и Лев Толстой, и хитровский хулиган Сенька Козарь, и покойный Лобачевский, и живой профессор Павлов, и местечковый еврей. И Ленин наш, как нашим был и Малюта Скуратов, и Победоносцев, и полунемцы и полурусские господа Романовы. Нечего от них открещиваться – наша плоть от плоти и от крови кровь.
Была и есть у нас рожь, пушнина, уголь, золото, клоп, безграмотность, душа нараспашку и тонкий расчет. И прославленная литература, и музыка, и все, что угодно. Отвешено нам всего по совести, с привеской.
Все это съел большевик? Извините, поверить невозможно! Ни царям, ни писарям не по зубам.
Случилось, правда, нечто. Много народа перебито, много земли погублено, и полопалось в воздухе много мыльных пузырей, называемых идеями. Но отсюда до гибели России так далеко, что и на горизонте не видно.
В сентябре месяце накатилась вода на Петроград и затопила его. Поплыли по улицам «бревна, кровли, товар запасливой торговли, обломки бедной нищеты, грозой снесенные мосты, гробы с размытого кладбища», затопило склады, музеи, люди погибли. Такой же случай был тому назад ровно сто лет.
На глади озера вскакивают со дна и лопаются пузыри. И когда пузыри лопаются, им кажется, что озеро погибло. Когда лопнет наше маленькое бытие, здесь ли – там ли – на глади российской не отметится это ни единой морщинкой. В подвалах музеев погибли от воды драгоценные коллекции, – но жизнь ежедневно готовит будущему запасы новых, которые также погибнут при будущих наводнениях. Правда, никто и ничто не заменит матери ее погибшего сына. Но и мать, и сын, и его стон, и ее горе – не слышны в учете того, что зовем мы Россией. Как и наши мысли о ней, и наши программы, и наши планы, возмущенья, проклятья. И сами мы – поденки на Волге за час до заката.
Посадите рядышком и Зиновьева, и Кирилла на Уральский хребет: величественное зрелище! Как в латинской басне о быке и мухе: «Taurus respondit: ubi es? Nihil sentio!»[270]270
«Бык сказал: где ты? Я ничего не чувствую!» (лат.).
[Закрыть]
* * *
Я помню в России лето, – как раз роковое лето 18-го года, когда полуварвары-полуидеалисты почувствовали себя просто властью и стали действовать. Я жил в Тульской губернии, в подлинной деревне, в маленьком домике среди старого леса.
Ухали топоры, и вековые деревья падали со стоном. Так, зря валили лес, будто бы на срубы, на новые избы, а изб никто не ставил. Потом почти весь распилили на дрова, но и дров не успели растащить, гнили они потом, было их слишком много без надобности, а вывозить не на чем.
И было то лето удивительным! Днем горячее солнце, вечером дождик. По утрам и лес, и поля застилались ослепительным для глаз душистым паром, как в бане от березового веника, и трава лезла из земли, как бешеная, безудержно, бурно. Ни такого роста, ни такого цветенья не помню раньше. Иная цветущая головка раньше билась о коленку – теперь ударяла по лицу. В иных местах идешь в траве, как в лесу, – дороги не усмотришь. И пчелы гудели, не зная, куда деть медовое богатство. И быстро-быстро росли молодые деревца, наверстывая убыток, причиненный лесу неразумным человеком. В детстве, стараясь представить себе рай, я рисовал его таким.
С тех пор верю и знаю, что нет программы для России лучшей, чем солнце днем и теплый дождик в ночи. И что раны свои она умеет лечить без аптечных снадобий и без консультаций иноземных врачей. И что не страшны ей укусы комара или хоть бы и ядовитого овода.
И с тех пор желаю России одного: хорошего урожая хлебов и трав. Так мыслю я о России-земле, о России-народе, а не о пятнышках – городах и математических точках – людях. А не о «декрете», который солнца не заменит и не отменит, не о «комиссаре», который десять лет рубит с плеча – все же не вырубит заметной плешины в лесах вечного обновления.
Такие страны не гибнут; гибнут названия, меняются властители, перечеркиваются географические карты. Пусть плачет, кто хочет, а желающий смеется. Ту огромную землю и тот многоплеменный народ, которым я, в благодарность за рожденные чувства и за строй моих дум, за прожитое горе и радость, дал имя родины, – никак и ничем у меня отнять нельзя, ни куплей, ни продажей, ни завоеванием, ни изгнанием меня, – ничем, никак, никогда. Нет такой силы, и быть не может.
И когда говорят: «Россия погибла, России нет», – мне жаль говорящих. Значит, для них Россия была либо царской приемной, либо амфитеатром Государственной Думы, либо своим поместьем, домиком, профессией, верой, семьей, полком, трактиром, силуэтом Кремля, знакомым говором, полицейским участком, – не знаю еще чем, чем угодно, но не всей страной его культуры – от края до края, не всем народом – от русского до чукчи, от академика до кликуши и деревенского конокрада. У них погибло любимое, но Россия вовсе не «любимое». Любит ли свое дерево зеленый листок? Просто – он, лишь с ним связанный, – лишь ему принадлежит.
И пока связан, пока зелен, пока жив – должен верить в свое родное дерево. Иначе – во что же верить? Иначе – чем же жить!
ИЛЛЮСТРАЦИИ

М. А. Ильин (Осоргин). Москва, 1 апреля 1903 г. Эта и все другие фотографии данного тома из собрания Т. А. Бакуниной-Осоргиной

М. А. Осоргин.Италия, 1909-1910 гг.

Зарисовки И.А.Матусевича, сделанные на борту парохода, плывущего в Германию. 1922 г. М. А. Осоргин.

Профессор С. Л. Франк

Профессор А.А.Кизиветтер и Ю.А. Айхенвальд

Редактор газеты «Русские ведомости» В.А. Розенберг с женой

Профессор И.А.Ильин и князь С.Е. Трубецкой

М. А. Осоргин.Италия, 1923 г.

Сидят слева направо: А. Белый, М. А. Осоргин, А. В. Бахрах, Б. К. Зайцев. Стоят: А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов, Н. Н. Берберова. Берлин, 1923 г.

М. А. Осоргин.Сент-Женевьев де-Буа, 1903 гг.

Е. И. Замятин, Ю. П. Анненков, М. А. Осоргин. Сент-Женевьев де-Буа, 1930-е гг.

М. А. Осоргин и А. И. Бакунин. Сент-Женевьев де-Буа, 1930-е гг.

М. А. Осоргин и А. И. Бакунин.

М. А. Осоргин. Сент-Женевьев де-Буа, 1930-е гг.

Во дворе дома в Сент-Женевьев де-Буа

В доме в Сент-Женевьев де-Буа
ПРАВДА ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАВДА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Два альбома с пожелтевшими газетными вырезками семьдесят лет хранились в отделе специального хранения Российской Государственной библиотеки, бывшей Ленинской. На них пометы и небольшая правка автора – Михаила Андреевича Осоргина. В 1934–1935 гг. в парижской газете «Последние новости» почти каждую неделю появлялись его рассказы. Осоргин собирал их в альбомы, мечтал опубликовать книгу старинных рассказов на родине.
Он просил о помощи Горького: «Неужели, неужели я ничего не могу издать в СССР? В течение двух лет напечатал здесь 104 (один в неделю) рассказа по историческим материалам (архивным). Все до одного могут быть напечатаны в СССР <…>. Десятка два Вы бы одобрили. <…> Вы поймете, Ал<ексей> Макс<имович>, что писателю не из самых худших (или это – самомнение?), имеющему сорокалетний стаж, невыносимо обидно совсем не быть читаемым на его родине. Или Вы находите меня враждебным СССР писателем? И совершенно ненужным? Я этого не думаю. И к шестидесяти годам жизни я подхожу с ощущением жестокой и напрасной обиды»[271]271
Из письма М. А. Осоргина к М. Горькому от 31 декабря 1935 г.// Архив М. Горького (Москва).
[Закрыть].
С просьбой о содействии Осоргин обращался и к своему старому московскому другу А. С. Буткевичу: «Сим облекаю тебя правом печатать все, что захочешь из моих вещей. Я постараюсь прислать что-нибудь небольшое подходящее, вернее всего из исторических набросков, несколько стилизованных под эпоху. По ряду причин мне очень хочется что-ниб<удь> напечатать в Москве, хоть пустяк. Очень подходящи были бы именно исторические рассказы, которых у меня набралось на две книги, а здесь печатать не буду»[272]272
Из письма М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 27 марта 1936 г. // ОР РГБ. Ф.599. 2.24. Л. 14.
[Закрыть].
Но все хлопоты друзей оказались напрасными, а публиковаться под псевдонимом Осоргин решительно отказался: «Под псевдонимом я не хочу печататься. А вообще говоря – к черту! Я дома не существую, очевидно, я иностранный писатель. Пусть так и будет. Теряю от этого только я, а не русская литература, которой желаю процветания»[273]273
Из письма М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 27 марта 1936 г.//ОР РГБ. Ф. 599.2.24. Л. 14.
[Закрыть].
«Утекло с той поры не только много воды, но немало и крови», и только теперь книга старинных рассказов М. А. Осоргина дошла до российского читателя, для которого она писалась более пятидесяти лет тому назад.
* * *
Эмигрантом Осоргин себя не считал, жил мечтой о возвращении в Россию. По выражению Ф. Степуна, ему была чужда «эмигрантщина»[274]274
Степун Ф. Мысли о России // Современные записки. Париж, 1923. № 17.
[Закрыть], когда чувство личной обиды искажает перспективу, порождает ненависть.
В житейском плане жизнь была трудной. Работал во многих газетах и журналах, печатался в разных странах, в одних только парижских «Последних ведомостях» им было опубликовано более тысячи рассказов, статей, фельетонов. «Я сейчас пишу все, кроме того, что хотелось бы, – писал он Горькому, – сижу над кучами мелких газетных заметок, которые не хочется даже и подписывать. Право писать день „для души“ приходится покупать месяцем работы „для дела“. Впрочем – так было всегда и новости в этом нет»[275]275
Из письма М. А. Осоргина к М. Горькому от 18 января 1929 г. //Архив М. Горького.
[Закрыть].
Хоть он и называл журналистику своим проклятием, но работы не боялся и нес свой крест с достоинством, в отличие от многих русских эмигрантов рассчитывая только на собственные силы, а не на субсидии богатых жертвователей.
27 июня 1935 г. Осоргин рассказывал А. С. Буткевичу о своих делах: «Помимо большого романа („для души“ и для книги) пишу еженедельно рассказ – уже для заработка, и это шестьдесят пять недель подряд! Печатая их в двух-трех изданиях одновременно – зарабатываю минимум для весьма скудного существования. Рассказы исключительно исторические – всю зиму провожу в библиотеках. Часть, вероятно, издам книгой – ради перевода на другие языки. А собственно по-русски писать не для кого! Для кучки забитых жизнью и судьбой людей, с которыми у меня духовно нет ничего общего! Это очень тяжко…»[276]276
Из письма М. А. Осоргина к А. С. Буткевичу от 27 июня 1935 г. // ОР РГБ. Ф. 599.2.24. Л. 12.
[Закрыть]
Кроме «Последних новостей» Осоргин публиковал свои исторические рассказы еще в газетах «Сегодня» (Рига), «Новая заря» (Сан-Франциско), «Русский вестник» (Нью-Йорк) и других. В 1938 г. в Таллине вышла книга Осоргина «Повесть о некоей девице», включившая в себя ряд исторических рассказов, но большая их часть осталась в газетах, заставляя читателей, по выражению одного из рецензентов, сожалеть о недолговечности газетного листа[277]277
Савельев С. // Русские записки. Париж, 1938. № 12.
[Закрыть].
Рассказывая Горькому о своих «вечных» книгах, среди которых были Библия, Свифт, «Дон Кихот», «Илиада», Данте, Марк Аврелий, «Декамерон», Осоргин писал как о любимом чтении о книгах по библиографии и фольклору. Не менее важным было для него постоянное обращение к словарям, которые он называл «орудиями писательского производства», и языковедческой литературе: «Без нее, прожив за границей 17 лет, я бы, вероятно, потерял русский язык»[278]278
Из письма М. А. Осоргина к М. Горькому от 31 марта 1930 г. //Архив М. Горького.
[Закрыть].
Осоргин понимал, что в зарубежье русская речь звучит плохо, обедняется, искажается, но он не раз повторял, что это «лишний повод не для отчаяния, а для сверхобычных усилий и сверхурочной работы»[279]279
Осоргин Мих. О писательском ремесле // Последние новости. Париж, 1936. 3 августа. № 5610.
[Закрыть], для «удвоенной энергии и удесятеренного внимания»[280]280
Осоргин Мих. О писательском ремесле // Последние новости. 1936. 3 августа. № 5610.
[Закрыть]. Он считал необходимым для всякого, кто берет в руки перо, глубокое знание языка, его истоков, истории, чуткости к его изменениям: «Чувство, талант, наблюдательность – все это окажется напрасным, если словарь писателя скуден и дух слов и оборотов ему чужд. <…> Если для парижского обихода не важно, когда курица клохчет, а когда кудахтает, то для литературного языка каждая утрата синонима грозит гибелью»[281]281
Там же.
[Закрыть].
Осоргин считал неудачным «искусственное словотворчество», которым гордился Д’Аннунцио и которое оказывалось соблазнительным и для наших соотечественников, оказавшихся на чужбине: «Как бы оно ни было удачно, оно никогда не заменит настоящего знания языка, приобретенного изучением народного говора и старых памятников словесности»[282]282
Осоргин Мих. О писательском ремесле // Последние новости. 1936. 3 августа. № 5610.
[Закрыть]. Близки ему были поиски «отличного знатока русского языка» А. М. Ремизова. Осоргин очень ценил его книгу «Россия в письменах», советовал продолжать эту работу, несмотря на «преступно малое» внимание к ней.
Языковые поиски Осоргина были толчком к созданию целого ряда рассказов. Справедливо писал критик о причине удач Осоргина: «Совершенно недостаточно щегольнуть набором старинных слов, чтобы читатель почувствовал старину или старый язык. Необходимо ощущение этих слов как живых и то проникновение в их глубину, какое дается при большой любви и восприятии языка в его живой непрерывности»[283]283
Савельев С. // Русские записки. 1938. № 12.
[Закрыть]. Богатство языка соединялось у Осоргина с точностью и простотой, которые он считал ценнейшими качествами писателя.
«Осоргин своей простоте учился у Тургенева и Аксакова, – писал литературный критик К. М. Мочульский, – он связан с ними не только литературно, но и кровно, от них у него – пристальность взгляда, чувство родной природы, любовь к земле, верность прошлому, светлая память подавно ушедшему. Его язык – выразительный и точный – близок к народному складу. В нем есть вещественность и прямота, убеждающие нас сразу. Автор не боится показаться несовременным, напротив, он настаивает на своей старомодности…»[284]284
Мочульский К. М. // Современные записки. 1931. № 46.
[Закрыть] Из россыпи забытых слов Осоргин умел создать узор, поражающий своей органичностью. Как археолог, он поднимал языковой пласт, исследовал его, вдыхал в него новую жизнь. Как никто, он умел раскрыть перед читателем обаяние, прелесть старых слов, которыми «чувства выражаются сильнее, чем если писать по-нынешнему»[285]285
Старый книгоед <Осоргин Мих.>. Заметки старого книгоеда //Последние новости. 1928. 24 октября. № 2772.
[Закрыть].
В одном рассказе Осоргин мог соединить, переплести совершенно разные стили речи: народный говор и книжную замысловатость переписки Никона и Филарета («Соловей») или грубую простоту объявления о поисках палача в Ярославле с кокетливой претенциозностью писем Екатерины и Вольтера («Заплечный мастер»). И за столкновением разных пластов речи оказывались высвеченными трагические противоречия эпохи. А порой, одурманив читателя колдовской прелестью «старых речей», автор неожиданно врывался в современность. Рассказывая о тюремных мытарствах мужика, обвиненного в чародействе, Осоргин мог забыть о свойственной ему сдержанности и заговорить о трагедии своего времени – «столь же необъяснимых покаяниях современных вредителей» («Чародей»).
Осоргин много думал о природе стилизации, осмысливал опыт своих предшественников и современников. Он писал, например, о книге А. П. Чапыгина «Гулящие люди»: «Опыт воссоздания языка эпохи целиком, во всей грамматике и всем синтаксисе, вообще нельзя считать правильным художественным приемом, осторожная стилизация дает гораздо больше (это хорошо понимает Алексей Толстой). В сущности, Чапыгин переводит речь современную на старинный язык, очень ловко переводит, но вряд ли диалоги людей прошлого строились по нынешним схемам, да и мысль развивалась в головах иначе. Постоянное „зрю“ вместо „вижу“ эпохи не дает»[286]286
Осоргин Мих. // Последние новости. 1935. 1 августа. № 5243.
[Закрыть].
У Осоргина есть рассказы, вся художественная ткань которых состояла из узора старых слов («Выбор невесты», «Настинькина маета»). В большинстве же случаев его стилизация была, действительно, осторожной, ювелирно тонкой, но она оставалась главным инструментом при крайней экономии других художественных средств. Осоргин описывал, например, крепостницу-помещицу, считавшую неприличной букву «х» и называвшую яйца «куриными фруктами»: «А каков ныне урожай куриных фруктов?» («Чепчик набекрень»). Речевой характеристики оказывалось достаточно, чтобы создать запоминающийся образ.
Осоргин стремился избежать иллюстративности, «исторического маскарада», когда литературные герои начинают выражаться историческими фразами, теряют живое лицо. Он считал важным «не колоть читательского глаза пышностью исторического инвентаря, взятого у Забелина», не преувеличивать в красочности там, где по ходу жизни было больше «серости и тусклой грязи»: «В наших старых театральных постановках это сказывалось в блеске клеенчатых сапогов и похвальной чистоте крестьянских рубах, аккуратно разглаженных перед спектаклем»[287]287
Там же.
[Закрыть].
Другой опасностью он считал сухость и буквоедство. Их он видел, например, в книге С. Н. Сергеева-Ценского, который, оглядываясь на авторитеты, запутывался в деталях и забывал о духе времени. «Правда историческая» оказывалась враждебной «правде художественной»[288]288
Осоргин Мих. Невеста Пушкина // Последние новости. 1934. 27 декабря. № 5026.
[Закрыть]. Осоргин же считал, что образ, созданный воображением художника, начинает жить своей собственной жизнью и может иметь не меньшее значение, чем документальный портрет. Он писал: «В сущности, прав только художник Флавицкий, изобразивший никогда не бывшую гибель никогда не существовавшей княжны Таракановой, и от созданного им образа нам никогда не отделаться. <…> Ни капли „исторической правды“! Но есть правда художника: такою он представлял себе княжну Тараканову. И конечно, его правда пересиливает, потому что сказка имеет свои права, а именно – право на сказку жизни отстаивала знаменитая самозванка» («Княжна Тараканова»).
Для самого Осоргина было характерно пристальное внимание к историческому факту, и большая часть его рассказов имеют прочную документальную основу. Зимой 1934/35 г. Осоргин особенно много работал в библиотеках Парижа. Жена писателя Т. А. Бакунина-Осоргина вспоминала, как он сидел целыми днями обложенный толстыми фолиантами, а потом сразу – «вдруг» – рождался очередной рассказ. Сам он, с юмором говоря о своих поисках, о цепи «архив – журнал – исследователь», припоминал библейское изречение: «Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели кузнечики и оставшееся от кузнечиков доели мошки». Для Осоргина толчком в работе мог стать намек, весьма туманный документ, а дальше наступал черед воображения – «о многих иных подробностях в документах ничего не имеется, прибавлено же это по усердию написателя этих строк». Но мастерство писателя было таково, что грань между документом и фантазией не сразу определит и профессиональный историк.
Рецензенты много спорили о стиле Осоргина, в котором видели «задорность» (Г. Адамович[289]289
Адамович Г. В. // Современные записки. 1930. № 50.
[Закрыть]) или «стыдливость и гордость» (В. Жаботинский[290]290
Жаботинский В. //Последние новости. 1937. 11 февраля. № 5802.
[Закрыть]), говорили о его масках – «маске наивного рассказчика», «маске равнодушия». В. Жаботинский писал, например, о рассказе «Волосочес»: «Потрясающая, беспримерная история неслыханного мучительства, но она передана таким тоном, как будто речь идет о невинном курьезе, и ни разу <…> не выдал себя автор, – не признался ни прямо, ни намеком, ни усмешкой, что рассказывает он ужасное и сам это знает, для этого и рассказывает. По-видимому, „маска“ тут принадлежит к самому костяку художественной натуры; критиковать эту черту бесполезно… Словно протянута тебе навстречу горячая, нервная, порывистая рука, пожатие которой могло бы тебя омагнитить, – но на руке перчатка, и ни за что он перчатки не снимет»[291]291
Там же.
[Закрыть].
Осоргин никогда не был равнодушным, но его историческим рассказам действительно не свойственна открытая эмоциональность. Лишь иронию (более точным здесь будет русское слово лукавство) почувствует в них читатель. Повествователь у Осоргина отдален от изображаемого мира, не сливается с литературными героями, хоть и отказывается от суда над ними с точки зрения современных представлений: «И хотя всякому человеку ясно, что лукавый подлинно квартировал во чреве девки Ирины, оттуда разговаривал и ругался и вышел оттуда же во образе курицы, однако сама Ирина, после первой дыбы, муки той не вынеся, заявила, что ничего такого не было, никто ее не научал, а притворилась она по девичьей глупости и озорству. <…> Что девушка отреклась от чистой видимости – никто ее, замученную, в том не осудит» («Проделка лукавого»).
Говоря об исторических миниатюрах как «излюбленном чтении читательской элиты», Осоргин вспоминал малоизвестного у нас французского историка Ленотра, которого считал «непревзойденным, изумительным мастером по переоценке личностей»: «В признанном герое он показывает облик рядового человека, в незаметном историческом деятеле открывает героические черты»[292]292
Ос. Мих. <Осоргин Мих> Женские портреты // Последние новости. 1937. 4 февраля. № 5795.
[Закрыть]. Такого рода опыты казались привлекательными и Осоргину, всегда искавшему для своих этюдов неожиданный ракурс. Властители, спустившиеся с трона, чудаки, неудачники, просто маленькие, «забытые» люди – вот кто прежде всего попадал в поле зрения Осоргина.
Некоторые из старинных рассказов внутренне связаны с циклом «Заметки старого книгоеда» (1928–1934). Их герои – вполне реальные фигуры: переводчик С. С. Волчков, «служитель семи царствований», всю жизнь остававшийся беднейшим литературным поденщиком; помещик екатерининских времен Н. Е. Струйский, в характере которого сплелись увлечение книжным делом и самодурство; провинциальный поэт Праволамский, пьяница и вечный скиталец. Осоргин создает целую портретную галерею «великих» и «замечательных» чудаков – тут и «любитель смерти», и тайный советник, нашедший истинное призвание в зуборвачестве, и правдоискатель, перепоровший всех взяточников в городе, и генерал от инфантерии, столь суеверный, что всех встреченных утром священнослужителей сажал под арест, и девятнадцатилетний чиновник, решивший обратить на себя внимание поджогом Сената, и экспедитор тайной канцелярии, перлюстрировавший переписку революционеров и незаметно им помогавший.
Но только на первый взгляд может показаться, что внимание Осоргина привлекали не слишком важные события и герои, что перед нами – история курьезов. За жестокими картинами крепостничества, унижения человеческого достоинства, через которое прошли поколения русских людей, стояли размышления об истоках духовного рабства – плена, в который попали многие наши соотечественники в двадцатом веке, хоть «нынешний раб не так заметен».
Осоргин собрал целую коллекцию разного рода суеверий, и эта тема тоже оказалась вечной. И сейчас безнадежность часто толкает человека не к нравственным поискам, не на трудный путь построения храма в душе, а к увлечению современными любостаями и фармазонами, которые, впрочем, зовутся теперь иначе. Осоргин прослеживает, как легко может возникнуть культ, как немного надо, чтобы поверили шарлатану: «Чтобы стать вождем и диктатором, нужно быть несколько умнее рядовых дураков, обещать им рай земной и небесный и играть на их грубых рабских чувствах, как на вишневой дудочке» («Кузька-бог»).
И еще одна постоянная тема Осоргина – воспоминания о России, раздумья о ее судьбе. Можно только позавидовать его упоенной влюбленности в родные места, его восхищению природой, языком, самобытным характером русского человека: «Мы говорим здесь лишь о себе, не желая впутывать иностранцев; дело в том, что в одной только дельте нашей реки Лены в пору разлива с удобством тонет любое европейское государство, обычно без остатка, и только от некоторых остаются рожки и ножки. Так что разговор о реке – наше дело семейное» («Конец Ваньки-Каина»). Или: «Соловьиное пенье – дело русское; иностранцы ничего о нем толком не знают, у них даже и нет соловьиной науки. И рассказать им про нее невозможно, потому что у них нет подходящих слов. Никакой переводчик не переведет на иностранный язык всех тонкостей переводов (колен) соловьиного пенья: пульканье, клокотанье, раскат, плёнканье, дробь, лешева дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлиная стукотня, почин, оттолчка…» («Соловей»). Нет уже у нас соловьиной науки. И сами мы не становимся ли иностранцами в своей стране, нуждающимися в переводе, когда речь идет о природе? Уже в начале 1930-х гг. Осоргин видел приближение времен, когда будут «устранены мешающие движению и оскорбляющие глаз реки, ручьи, родники», когда исчезнут «бесполезные фиалки», и пытался предостеречь своих соотечественников. Но его голос не был услышан, так же как и многие другие голоса. Наши дети еще долгие годы будут пожинать плоды этой глухоты.
Осоргин писал о книге: «Я даже готов настаивать на том, что она и есть живое существо, или, точнее, то живое, совсем живое, что остается от ушедших в историю и вечность».
Книги Осоргина пережили их владельца. После войны выяснилось, что его исчезнувший архив оказался в Советском Союзе, большую его часть передали тогда в Центральный государственный архив литературы и искусства (ныне РГАЛИ). Некоторые книги и самодельный альбом с историческими рассказами поступили в спецхран главной библиотеки страны. Произошло их физическое возвращение, духовное же еще впереди.
О. Ю. АВДЕЕВА







