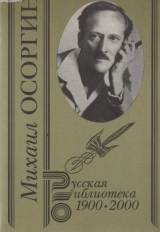
Текст книги " Старинные рассказы. Собрание сочинений. Том 2"
Автор книги: Михаил Осоргин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 51 страниц)
МЕДИКУС БЕСТ
«Я называюсь доктор медикус Корнелиус Бест. Я не есть русский, и я не есть тевтон, но я есть из Страсбург и имел французскую мать. Я ехал в Россия септембер 1807-го от война и жил двадцать лет у помещик господин Лысков домашний медикус и научил язык и учил детей немецкий язык и меншенлибе. Я пишу мой мемуар на русский язык для детей мой любезный помещик, которые суть также мои любезные дети».
Вероятно, этот мемуар был труднейшим упражнением для доктора Корнелия Ивановича, хотя и называвшего себя французом, но не знавшего по-французски двух фраз. И, однако, нам его записки оказались бесполезными по краткости и по отсутствию в них описания каких-нибудь значительных событий его жизни; в них рассказано о его честных родителях и о его фатерланд, а также о том, как он был на войне хирургом. Интересен же нам именно период его проживания в имении Лыскове, в двадцати верстах от Рязани. Но знали его не в одном этом селе, а и во многих соседних, меньше как доктора, больше как чудака. Чудаков же в России всегда любили, и нельзя, по-моему, не любить чудаков: без них мир плоский.
По счастью, о лысковском эскулапе сохранились воспоминания одного проезжего человека и одного рязанского жителя; первый – М. Д. Бутурлин, записки которого общеизвестны и печатались в исторических журналах[224]224
«Записки» Михаила Дмитриевича Бутурлина были опубликованы в «Русском архиве», кн. I–III, в 1897 г.
[Закрыть]; рукописи второго нигде не печатались и никому не известны, но именно ими мы преимущественно и пользуемся, так как рассказ графа Бутурлина краток и вряд ли точен. Во всяком случае, рязанский аптекарь Бениге, чистокровный немец и приятель Корнелия Ивановича, знал его гораздо лучше и описал подробнее. А как нам достались его рукописи, где мы их храним, почему не публикуем целиком, – все это наш секрет, как секрет и то, действительно ли такой деловой человек, как аптекарь Бениге, оставивший своим детям круглый капиталец, оставил им также и дневник своих встреч и своей чрезвычайно прозаической жизни. Впрочем, в нашем рассказе сам Бениге никакой выдающейся роли не играет.
В лысковском доме Корнелий Иванович жил в некотором почете и располагал двумя комнатами, приемной и спальней. Их убранство было поистине замечательным и свидетельствовало прежде всего об ученых склонностях медикуса и о его исключительных познаниях. Вход в первую комнату охранялся скелетом, но не человеческим, как было бы естественно для медикуса, а бараньим. Скелет человека и достать было негде, и не был бы, конечно, допущен в порядочном дворянском доме; скелет бараний никого не смущал и был самим Корнелием Ивановичем раздобыт, выварен, очищен и связан проволокой.
К своему медицинскому делу Корнелий Иванович относился с большим вниманием. Когда сам помещик, или члены его семьи, или дворовые к нему обращались, он прежде всего подходил к бараньему скелету и глубоко задумывался. Затем, додумавшись, он знакомил пациента с устройством организма, тыкая под ребра и ему и барану и поясняя, где что находится. При простых болезнях тут же выдавалось лекарство собственного медикуса приготовления: липовый цвет, сухая малина, настойка на полыни, горчичник. Собственноручно ставил пиявки, добытые из заглохшего пруда, в котором Корнелий Иванович ловил также и карасей. Но если болезнь оказывалась сложной, он, уложив больного в постель и приказав ему длительно и без передышки потеть, ехал сам или отправлял нарочного в Рязань к аптекарю Бениге с запиской, начинавшейся словами: «Ich bitte, liebster Herr»[225]225
«Прошу, дорогой господин» (нем.).
[Закрыть], – и дальше просьба прислать наилучший медикамент против болезни, которая подробно описывалась. Не то чтобы сам доктор не знал, что в таких случаях полагается прописывать, а просто он вполне доверял своему другу и считал неудобным его чему-нибудь обязывать, особенно же он не любил сам прописывать яды, боясь ими отравить. На его записку аптекарь отвечал присылкой медикамента с присовокуплением пояснительного письма, также неизменно начинавшегося обращением: «Sapientissime Domine»[226]226
«Мудрейший господин» (лат.).
[Закрыть], потому что хотя аптекарь и помогал доктору в придумывании нужных лекарств, но понимал разницу в званиях и в относительной учености.
В разговоре с пациентами медикус Бест любил пускать туманные слова и медицинские термины, от которых больным делалось жутко и не по себе. Даже простое снадобье, как уксус, он переиначивал в «оксос», памятуя, что слово это греческое и должно произноситься правильно. Воду же называл по-латински «аква», и тогда простая вода уже оказывалась настоящим лечебным средством. И нужно сказать, что некоторая пышность и торжественность его лечения сильно действовали на больных.
Торжественность усиливалась обстановкой, так как кроме бараньего скелета в приемной Корнелия Ивановича было и еще немало ученых чудес. Была, например, также и мертвая лошадиная голова, подобранная медикусом в поле; ее Корнелий Иванович щелкал в нос, когда к нему обращались с просьбой об излечении насморка. Были два чучела – совы и вороны, больше служившие украшениями. В банке зеленого стекла плавала в спирту ядовитая змея, при жизни бывшая невинным ужом. Этим на змее настоянным спиртом Корнелий Иванович удачно лечил дворовых от пьянства, отливая полстаканчика и доливая его аквой. Первый же его пациент, лысковский кучер, как рассказывают, осушив несколько насильственно, по приказу барина, настойки доктора Беста, внезапно впал от ужаса в бесчувственное состояние и после пил только по праздникам, а напившись, прятался на сеновале или даже в лесу, опасаясь, что его снова подвергнут принудительному лечению. Этот случай считался в округе одним из самых блестящих в практике лысковского медикуса.
Как явствует из первых строк мемуара, Корнелий Иванович нес также и обязанности учителя детей помещика Лыскова, которых он обучал немецкому разговору. Это обучение заключалось в живой беседе и производилось во время прогулок по полям и лесу для собирания целебных трав. Сухими травами в бумажных и полотняных пакетиках были заполнены комнаты доктора. У нас вообще нет достаточных сведений о степени учености лысковского эскулапа; мы даже не можем уверенно утверждать, что он подлинно был доктором, а не подмастерьем страсбургского пивоваренного заведения. Но он был прилежен и отдавался медицинской науке со всей страстью – это вне сомнения. Отчасти руководясь указаниями своего приятеля аптекаря, отчасти по собственной эльзасской сметке, он собирал травы разнообразнейшие и в большом количестве. Осторожный настолько, что совершенно неизвестны случаи отравления его травами, он пробовал их действие на кошках, которым подбавлял их в пищу. Если кошка начинала хиреть, это было одним из лучших показателей, что и людям данное снадобье лучше не рекомендовать; в остальных случаях его можно было применять без особого вреда, причем могла случиться от него также и польза. На большинстве трав, особенно пахучих и в цвету, настаивалась водка, и каждый вечер, во славу медицины, Корнелий Иванович лично производил испытание действия разнообразных настоек на человеческий организм. Есть основания думать, что именно им изобретена так называемая зубровка, как несомненно, что настойка на зверобое применялась им при большинстве острых желудочных заболеваний и всегда с огромным успехом. Может быть, этим объяснялась эпидемия таких заболеваний не только среди дворовых, но и среди сельских пахарей, не исключая и женщин. Чтобы искоренить эту болезнь окончательно, Корнелий Иванович стал прибавлять к зверобою скипидар – и действительно обращения к нему стали реже.
Но особенно прославилась изготовленная доктором так называемая тинктура апиум, настойка на осиных брюшках, до тех пор медицине неизвестная и впоследствии, кажется, неприменявшаяся. Она пускалась в ход только в самых исключительных случаях как возбудительное: длительный обморок, меланхолия, полная потеря аппетита. Знаменит также случай ее применения в акушерстве, доставивший медикусу настоящую славу. Вообще Корнелий Иванович акушерством не занимался, это для мужчины считалось неприличным и ведалось, по обычаю, деревенскими бабками. Но случилось, что одна здоровенная женщина, первородящая, никак не могла справиться со своей задачей. Было пущено в ход все: больную ставили вниз головой, сажали на нее мужа, впихнули ее на лопате в накануне вытопленную русскую печь, наконец, поставили ей на живот банку в виде глиняной крынки, под которую подсунули горящую паклю, – все безрезультатно. Так как банку, слишком присосавшуюся и причинившую роженице страшные боли, никак не могли снять, то был, по приказу барыни-помещицы, приглашен доктор Бест, догадавшийся крынку разбить ударом топора, а так как больная вслед затем ослабела, доктор влил ей в рот тройной прием своей тинктуры апиум. Не прошло и получасу, как роды начались и свершились гладко, а именно баба разрешилась от бремени пятерыми младенцами, из которых умер только один, вероятно, тот, который был втянут в глиняную крынку. Слух о такой благодати разнесся чуть ли не по всей губернии, и значительная доля участия в этом чуде была приписана доктору Бесту. Говорят, будто бы помещик Лысков просил своего эскулапа поить пчелиной настойкой всех рожениц в надежде быстро увеличить количество крепостных душ, но опыты больше не удавались, может быть, из-за противодействия темных и своей выгоды не понимающих крестьян.
Не двадцать лет, как значится в записях самого Беста, а тридцать лет он прожил в имении помещиков Лысковых, куда приехал уже сорокапятилетним и где пережил два поколения своих хозяев. Восьмидесятилетним старцем он был здоров, бодр и деятелен, являясь живой рекламой своего врачебного искусства. Он брил усы и подбородок, оставляя на щеках и на шее волосяным полукругом бакены, или, по-тогдашнему, щекобрады, если только это слово не выдумано Далем. Причину своего полного здоровья в столь почтенные годы он не скрывал, но сообщал только на ухо и только мужчинам: полная стойкость в вопросе женском. «И даже, – прибавлял он, – в настоящее время». По-русски он говорил хорошо, если не считать окончания существительных и прилагательных, а также спряжения глаголов. Нет сомнения, что при желании он мог бы легко, скопив довольно денег, вернуться в свой обожаемый фатерланд, о котором всю жизнь он говорил с восторгом и со слезами на глазах. С годами представление о любезном отечестве украшалось в нем картинами необычайного величия и исключительной красоты. Сравнивая Волгу с Рейном, он уверял, что Рейн шире Волги если не в двадцать, то уж, во всяком случае, в десять раз, что вершина страсбургского собора окружена облаками, сам город раскинут на необозримых пространствах, а люди, в нем живущие, на всю Европу славятся своей красотой, образованностью, музыкальными талантами и говорят на звучнейшем языке, который явился прародителем всех других европейских языков, но в полной чистоте сохранился только в Страсбурге и именно в том квартале, где в молодости проживал он, Корнелий Бест, ныне – несчастный изгнанник, вынужденный жить в стране дикарей, к которым он, однако, не причисляет семью господ Лысковых. Однако он так и не мог сказать, кто же, собственно, изгнал его и почему; отмалчиваясь, он окружал свой взор дымкой непроницаемой тайны.
Вряд ли эта тайна существовала; во всяком случае, она была неизвестна даже аптекарю Бениге, рукописями которого мы пользуемся; кстати, в этих рукописях, отчасти мемуарах, отчасти копиях писем, сапьентиссимус доминус Бест всегда назывался «моим другом», но никогда не именуется доктором. И, однако, аптекарь отзывается о нем с большим уважением, как об особе почтеннейшей и даже культуртрегере дикого рязанского края. «Мой друг и я, – пишет Бениге, – всю жизнь прожили среди русских дикарей, постоянно их благодетельствуя и не пользуясь достаточным признанием наших заслуг. Если бы я остался жить в Пруссии, то был бы наверное санитетсратом; здесь я – простой аптекарь. Такова участь людей, отдающих свои силы человечеству».
Как видите, медикус Бест не принадлежал к числу признанных знаменитостей даже в истории медицины. Но его имя встретилось нам в исторических мемуарах, кстати, искаженным (у Бутурлина он назван Корнелием Павловичем), и мы сочли возможным и должным посвятить ему этот рассказ, чтобы тем самым восстановить справедливость, в которой ему отказали современники.
ДЕКАБРИСТ И ТАРАКАН
Рыжеусый таракан армейской выправки выполз из щели, дружелюбно посмотрел на заключенного и спросил:
– Ну как, все пишешь?
– Пишу.
– Все тетушке?
– Пишу тетушке, а читать будут дяденьки. А ты все ползаешь?
– Когда сплю, а когда и гуляю. Хлебной крошечки не пожалуете старому ветерану?
– Найтись найдется, а только чур! – ночью в глаза не лезть!
– Так ведь это не я, а ребятки.
– И ребяткам закажи. Вот на, ешь на здоровье, прусак.
– Спасибо, декабрист!
Закусивши, таракан обтер нафабренные усы и уполз в щель.
* * *
«…Мокрицы имеют ныне у меня большие преимущества; оных здесь множество, почти каждая величиной с палец, черные и мохнатые. Всякий черный таракан напоминает мне ночлег ваш, любезнейшая тетушка, на корабле. – Одних только прусаков недолюбливаю, потому что они ночью лезут в больные мои глаза, которые теперь стали немного лучше. – Я полагаю, что сие происходит от мороза, который вытягивает находящуюся сырость в стенах и сводах моего жилища, которое от того делается суше; но все глаза мои еще очень слабы и красны, как у кролика…»
Написав, прошелся по камере: в длину – шесть шагов, в ширину – распростертые руки касаются холодных и влажных стен. Император Николай Павлович – без году неделя император – приказал соизволить:
«Препровождаемого за номером (таким-то) содержать в строгости, питать порядочно, бумаги и чернил давать, сколько просит».
Хорошо тому жить, кому тетушка ворожит. Тетушка действительно имеется, но проживает за границей и ворожить не может. А письма ей пишутся только для того, чтобы их прочитали жандармы, а то и сам император, большой любитель литературы.
Про кого еще написать? Жаль, нет в камере волков и крокодилов, – и про них написал бы от скуки и со злости. Есть паук, один-единственный, вялый и неповоротливый. Мух нет, и нечем ему питаться.
– Ты бы, паук, хоть таракашек в сеть заманивал.
– Дрянь, кислятина!
На допросе император вынул платок, отвернулся, утер глаза и сказал:
– Тебя, бунтовщика, мне не жалко: жалею твоего почтенного родителя, коего за верную службу ценю и почитаю. – Потом так же сухо, как сухи были его глаза, прибавил: – И себя и его губишь напрасным запирательством.
И откуда в каземате столько мокриц? Нарочно, что ли, их разводят?
«…Надеюсь, любезная тетушка, что настоящее письмо безвинного страдальца не сделает Вам тошноты описанием стерегущих его в каземате насекомых».
Отшвырнув исписанные листки, августейший следователь и судия наистрожайше повелеть соизволил:
– Проверить!
* * *
Отношение товарища начальника Главного штаба графа Чернышева[227]227
Александр Иванович Чернышев (1786–1857), в 1827–1852 гг. военный министр, впоследствии председатель Государственного Совета, князь. Член Следственной комиссии по делу декабристов.
[Закрыть] к коменданту Санкт-Петербургской крепости генерал-адъютанту Сукину[228]228
Александр Яковлевич Сукин (1764–1837), генерал от инфантерии; был членом Верховного уголовного суда над декабристами.
[Закрыть]:
«Дошло до сведения, что в некоторых казематах в С.-Петербургской крепости находится множество мокриц, тараканов, прусаков и прочих насекомых, которые, кроме того что внушают отвращение, могут вредить и здоровью содержащихся в оных. Сообщая о сем Вашему Высокопревосходительству, покорнейше прошу принять возможные меры к очищению казематов от сих животных».
Большая неприятность коменданту Сукину (даст же Бог такую фамилию!). Не по тому ли назвал граф Чернышев насекомых «животными», что хотел намекнуть на возможность очищения Петропавловской крепости и от коменданта?
– Попросить ко мне полковника Щербинского! Разведут в крепости нечисть, а я – отвечай! Господин плац-майор, чем вы занимаетесь? Тараканов разводите?
– Тараканов нет, ваше высокопревосходительство.
– Мало тараканов – мокриц завели? Прусакам крепость сдали? Приказываю немедленно обойти казематы и мне донести!
– Штаб-лекаря к плац-майору!
– Господин штаб-лекарь, комендант получил указания на мокриц и прусаков в казематах. Что же это делается?
Коллежский советник Элькан, человек штатский, говорит покойно:
– Много тараканов. Но это ваши солдаты разводят по кухням; конечно, заползают и к заключенным.
– А мокрицы? Толщиной в палец и мохнатьте?
– Мокрицы от сырости, но вряд ли в палец. Впрочем, я не раз докладывал вам о насекомых. Выводили их, да опять заводятся.
– Значит, и мокрицы есть?
– Стоножки. В летнее время бывают, зимой вымерзают, что ли. Я лечу больных, господин плац-майор, а насекомые – дело комендатуры.
– А со службы вместе вылетим, помяните мое слово. Потрудитесь немедленно произвести осмотр и мне доложить. А что тараканы – сам знаю, что много. У меня самого полна кухня. Чем их выводить?
– Бурой можно. Буры в порошке по полочкам насыпать велите.
– Сыпали. Они буру жрут и еще жиреют. Однако же отвечать мы должны! Ядом их каким-нибудь нельзя?
– Солдатам в суп попадет.
– Солдат все съест, ему ничего. Вот свалилось на голову несчастье! Вы уж помогите, доктор, на случай личного его высокопревосходительства обхода.
* * *
Отношение генерал-адъютанта Сукина графу Чернышеву:
«На отношение Вашего Сиятельства ко мне от 29 января 1828 года номер 55 о принятии возможных мер к очищению казематов от находящихся в некоторых из них множества мокриц, тараканов, прусаков и прочих насекомых, которые, кроме того что внушают отвращение, могут вредить и здоровью содержащихся в тех казематах, по получении ныне донесения от плац-майора здешней крепости полковника Щербинского, на предписание мое об оном, имею честь ответствовать, что не только в некоторых, но вообще во всех казематах, где арестанты содержатся, вышеозначенных насекомых не видно, а появляются оные только в общей арестантской кухне, но и то по возможности истребляются посредством сметания, что подтвердилось и личным донесением мне прикомандированного к Санкт-Петербургской крепости штаб-лекаря, коллежского советника Элькана, посещающего нередко арестантов, требующих врачебной помощи…»
Между седыми усами коменданта Сукина бегает легкая улыбочка: ловко написано: «… не только в некоторых, но и вообще во всех казематах!»
«А сверх того, когда и мне случалось быть в арестантских казематах, я никогда не видал в оных помянутых насекомых, а слышал, что в летнее время появляются иногда в некоторых арестантских казематах мокрицы, или так называемые стоножки, но редко и не в большом количестве».
Тоже ловко и уместно упомянуто: «В летнее время»! А ныне – зима и мороз, ваше сиятельство! Опоздать изволили!
«Тараканы же и прусаки, как донес мне плац-майор Щербинский, находятся в казематах, занимаемых квартированием нижних чинов, большею частью у женатых и даже у офицеров, живущих с семействами, по причине сырости и чрезмерной теплоты, происходящей от варения пищи и печения хлебов. Совершенно же истребить их в сих последних казематах весьма затруднительно, но по возможности живущими оные также истребляются».
Получите, ваше сиятельство, и попробуйте возразить. Таракан – насекомое семейственное, некоторым образом семейная необходимость. Без таракана нет уюта. Вместо того чтобы выводить тараканов, хорошо бы вывести доносчиков! Но Сукин стар, Сукин свое дело знает. Не будь Сукина – не мог бы мирно спать во дворце и его императорское величество!
* * *
«Любезная тетушка! В непрестанных заботах об удобствах заключенных ныне осматривали помещение, где пребываю, и значительно его очистили. Таковым образом, я лишился единственных друзей, с которыми видался и мог беседовать. С сего дня оставшейся утехой являются для меня лишь сии безответные к Вам письма, впрочем, лишенные для Вас достаточной занимательности».
А было когда-то время – друзей было много, и настоящих, а не тех, что бегают по стенам и потолку и заползают по ночам в больные глаза. Не всех постигла плачевная судьба, но иных постигла судьба еще худшая, если такую можно себе представить. Так преходяща слава мирская! Блестящий офицер гвардии – третий год в сыром каземате с тараканами и мокрицами. Три года украдены из жизни, – а что впереди?
И все-таки – забавен был утренний визит крепостного начальства! Впереди сам генерал Сукин, за ним плац-майор полковник Щербинский, за ними лекарь Элькан с двумя служителями. Никто с заключенным ни слова, – точно его и в камере нет.
– Извольте осмотреть!
Генерал в дверях, плац-майор на пороге, полоборотом, доктор водит очками по стенке.
– Чтобы все было очищено!
– Слушаю!
Редкий случай, что сам Сукин решился сунуть нос в арестантский каземат. Служители смели шваброй грязь со стен в ведерко, поскоблили в углах, наскоро подмели пол – и строгий приказ исполнен. Паук погиб первым, – но он не так уж и дорожил жизнью.
Эх, не о чем стало писать тетушке!
Осторожненько, учитывая опасность, пропустив вперед нафабренные усы, выползает из щели старый знакомый.
– Эге, прусак, да ты уцелел?
– Что мне делается? Ребяток кое-кого недосчитываемся.
– А я опасался, что тебя вымели.
– Бывало сие неоднократно – приходили, нарушали покой и сами напрасно беспокоились. Так было, и так будет, декабрист! Люди проходят – тараканы остаются. Суета сует и всяческая суета.
И, выдержав приличествующую паузу, рыжий философ прибавил обычным просительным, но и вполне достойным тоном:
– Не найдется ли завалящей хлебной крошечки старому ветерану?







