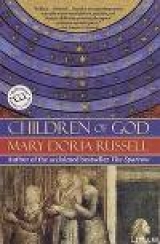
Текст книги "Дети Бога"
Автор книги: Мэри Дория Расселл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
Однако вскоре Хлавин разогнал и преподавателей, а избавившись от них, начал создавать песни, классические по форме, но беспрецедентные по содержанию, поэзию без повествования, но с таким неотразимым и мощным лирическим началом, что никто из его слушателей уже не мог оставаться в неведении о скрытых сокровищах и незримых красотах их мира. Перворожденные и второрожденные ВаГайджури собирались у ворот Дворца, чтобы его услышать. Хлавин не возражал, зная, что они могут унести его песни с собой – в Пиджа'ар, в Кирабаи и Внешние Острова, в Мо'арл и, наконец, в саму столицу. Он хотел быть услышанным, нуждался в том, чтобы вырваться за пределы здешних стен, и не прекратил свои концерты, даже когда его предупредили, что для рассмотрения этого новаторства направил и Бхансаара Китери.
Когда Бхансаар приехал, Хлавин принял его без страха, словно это был простой визит вежливости. Селикат все же преуспела, вбивая в него лукавство, и, мудро выбрав из своего гарема, Рештар Галатны познакомил своего брата с несколькими замечательными обычаями, а после закатил в его честь пир с ликерами и острыми закусками, которых Бхансаар никогда не пробовал. «Безвредные новшества – пожалуй, даже приятные», – решил Бхансаар. Каким-то образом, присутствуя при всех этих изысканных, остроумных беседах, слыша поэзию, превозносившую его мудрость и каждый вечер отдававшуюся эхом в его сознании, когда он засыпал, Бхансаар пришел к заключению, что нет юридических оснований, дабы запретить юному Хлавину петь. Перед отъездом из Гайджура он даже предложил – почти по собственной инициативе, – чтобы концерты Хлавина, подобно парадным ораториям, передавали по радио.
– «В самом деле, – постановил Бхансаар в своем официальном приговоре, – что не запрещено, должно быть разрешено, ибо противоположное суждение подразумевает, будто у принявших этот закон недоставало прозорливости».
Конечно, допустить такое было куда большей крамолой, чем просто разрешить Рештару Галатны петь свои песни! В конце концов, что может быть опасного в поэзии?
– Он поет лишь о том, чем может владеть в пределах Галатны: о запахах, грозах, сексе, – доложил Бхансаар отцу и брату, когда вернулся в Инброкар. Увидев, что это их позабавило, Бхансаар настойчиво прибавил: – Его поэзия великолепна. Она удержит его от неприятностей.
Таким образом, Хлавину Китери было разрешено петь, а занимаясь этим, он завлекал свободу в свою тюрьму. Услышав его концерты, потрясенные его песнями, даже первые и вторые решались стряхнуть с себя тиранию родословной и присоединялись к Хлавину в его дразнящей воображение и скандальной ссылке, а Дворец Галатна стал центром притяжения людей, которые в Обычной жизни никогда вместе не собираются. Посредством своей поэзии Рештар Галатны теперь определил узаконенную стерильность наново – как непорочность рассудка; очистив свою жизнь от испорченного прошлого и запрещенного будущего, он сделал ее предметом зависти. Другие учились жить, как жил он, – на пике события, целиком существующего внутри момента, следующего за мимолетным мигом утонченного эротичного артистизма, не замутненного мыслями о династии. И среди них были те, кто не просто ценил поэзию Китери, но и сами были способны сочинять песни изумительной красоты. Это был и дети его души.
На большее Хлавин не претендовал. Быть удовлетворенным, жить в вечном настоящем, торжествуя над временем, – все элементы в равновесии, все сущности стабильны, хаос внутри сознания сдерживается и контролируется, точно женщина, запертая в комнате. И все же, когда он наконец достиг того, чего так желал, музыка в нем стала умирать. Почему? – спрашивал Хлавин, но ответить было некому. Сначала он пытался заполнить пустоту вещами. Хлавин всегда ценил редкость, своеобразие, Теперь он искал и собирал самое красивое и древнее» заказывал самое дорогое, самое декорированное, самое сложное. Каждое новое сокровище вырывало его из пустоты на время, пока он изучал тонкости и погружался в нюансы, пытаясь найти в нем какое-то качество, которое вызовет свет, вспыхнувший блеск… Но затем откладывал вещь в сторону – вкус ушел, запах рассеялся, молчание не нарушилось. Хлавин проводил дни, слоняясь по комнатам и дожидаясь, но ничего не приходило… ничто не воспламеняло ни единой искорки песни. Жизнь теперь казалась не поэмой, а бессвязным набором слов, случайных, как глупая болтовня рунской прислуги.
То, что Хлавин ощущал, было больше скуки. Это было умирание души. Это была убежденность, что нигде в его мире нет ничего, что смогло бы побудить Хлавина вновь жить в полную силу.
И в эту беспросветную ночь, словно позолота первого рассвета, явилась хрустальная фляга изумительной простоты, содержащая семь коричневых зернышек с необыкновенным запахом: сладко-камфарным, сахаристым, пряным – альдегиды, сложные эфиры и пиразины, выпущенные во внезапном выплеске аромата, который потряс Хлавина, как извержение вулкана сотрясает почву; вдохнув его, он сперва поперхнулся, а затем вскрикнул, точно новорожденный младенец. С этим запахом, наполнившим голову и грудь, пришло знание, что мир содержит нечто новое. Нечто поразительное. Нечто, что вернет его к жизни.
Потом было больше: син'амон, – как назвал следующую партию торговец Супаари ВаГайджур. Клохв. Ванил'а. Йи-ис. Сайдж. Та'им. Ку-умен. Сохп. И с каждой ошеломительной поставкой – обещание невообразимого: пот, жир, мельчайшие фрагменты кожи. Не джана'ата. Не руна. Что-то еще. Что-то иное. Что-то, что нельзя было оплатить иначе, как той же монетой: жизнь за жизнь. – Затем здесь состоялся сложный танец беспрецедентных запахов, звуков, ощущений, роскошный момент тягостного сексуального напряжения, изумление от небывалого облегчения; Всю жизнь Хлавин искал вдохновения в презираемом, незамеченном, уникальном, мимолетном; всю жизнь он полагал, что каждое событие, каждый объект, каждая поэма могут быть самодостаточными, совершенными и полными. И все же, закрыв при оргазме глаза в тот первый раз, Хлавин осознал: источник всякого смысла – сравнение.
Как мог он так дол го этого не видеть?
Рассмотрим удовольствие, думал Хлавин, когда чужеземца увели. Когда получаешь его с рунской наложницей или пленницей-джана'ата, тут есть некое неравенство – безусловно, основание для сравнения, но затуманенное фактором исполнения долга. Рассмотрим власть! Чтобы понять власть, нужно понаблюдать за беспомощностью. И вот здесь чужеземец мог многому научить, даже после того как стал рассеиваться пьянящий запах страха и крови. Ни когтей, ни хвоста, смехотворные зубы… маленький, лишенный свободы. Беззащитный. Чужеземец был самым презренным из завоеваний…
… воплощением Нуля, телесной демонстрацией начальной точки бытия…
В ту ночь Хлавин Китери лежал на своих подушках недвижно, размышляя об отсутствии значимости, о нуле, отделявшем положительное от отрицательного, о том, что представляет собой ничто, о He-сущности. Когда такие сравнения были проведены, оргазм сделался столь же неисчерпаемо прекрасным, как математика; его градации – его различия – изумительно упорядочились, так что высокообразованный эстет мог их распознать и оценить.
Искусство не может существовать без несходства, которое и само устанавливается путем сравнения, осознал Хлавин.
При первых лучах солнца он вновь послал за чужеземцем. Во второй раз это произошло иначе, и в третий тоже. Хлавин созвал лучших Поэтов – самых талантливых/самых восприимчивых – и, используя чужеземца, дабы научить их тому, что узнал, обнаружил, что каждый из них получает иные впечатления. Теперь он слушал с новым пониманием и был очарован разнообразием и великолепием их песен. Он был не прав насчет возможности чистого опыта – теперь Хлавин это сознавал! Индивидуум – это линза, через которую прошлое смотрит на нынешнее мгновение и меняет будущее. Даже чужеземец был этим отмечен, меняясь с каждым эпизодом – как никогда не менялись рунские наложницы или пленницы-джана'ата.
В неистовые дни, последовавшие за первым соитием, Хлавин Китери создал философию красоты, науку об искусстве и его созидательных источниках, его формах и его воздействии. Вся жизнь могла быть эпической поэмой, где в косых лучах прошлого и будущего, сумерек и рассвета отчетливо проступает, делаясь выпуклым, значение каждого мгновения. Не должно быть изоляции, случайных событий или какой-либо однородности. Чтобы возвысить жизнь до Искусства, необходимо классифицировать, сравнивать, располагать по рангу – оценивать несхожести, чтобы превосходное, обычное и плохое можно было распознавать по их различиям.
После долгих сезонов молчания необыкновенная музыка Хлавина Китери зазвучала вновь – выплеснув артистическую энергию, прокатившуюся по обществу джана'ата, точно приливная волна. Даже те, кто прежде игнорировали Хлавина, шокированные его скандальными увлечениями и странными идеями, ныне были потрясены сиянием, которым он словно бы озарил непреложные истины. «Как прекрасно! – восклицали люди. – Как верно! Всю нашу цивилизацию, всю нашу историю можно воспринимать, точно совершенную поэму, которую поет одно поколение за другим, ничего не теряя и не добавляя!»
В разгар этого ажиотажа к воротам Дворца Галатны заявились другие чужеземцы, сопровождаемые юной рунской переводчицей Аскамой, которая сказала, что это члены семьи Сандоса, пришедшие, чтобы забрать его домой.
К тому времени Хлавин Китери почти забыл о маленьком зернышке, давшем начало этому безбрежному цветению, но когда к нему обратилась его секретарь, он подумал: «Пусть никого не держат взаперти. Пусть никто не будет стеснен желанием или потребностями другого».
– Тюрьма – это стены, которыми мы окружаем себя сами! – смеясь, пропел Рештар.
Слегка качнувшись из стороны в сторону, опасаясь неправильно его понять, секретарь спросила:
– Мой господин, позволить чужеземцу Сандосу уйти?
– Да! Пусть его комната распахнется! – воскликнул Китери. – Пусть Хаос пляшет!
И это стало последней услугой, Которую оказал ему чужеземец. Ибо Хлавин Китери родился в обществе, державшем взаперти дух своего народа, увековечившем Тупость, бездарность и леность правителей, принуждавшем к пассивности тех, кем они управляли. Теперь Хлавин понимал, что вся структура джана'атского общества базируется на рангах, но это искусственное неравенство, поддерживающее худших и ослабляющее лучших;
– Представьте себе, – убеждал Рештар своих последователей, – спектр варьирования, который стал бы естественно очевидным, если бы каждый мог сражаться за свое место в истинной иерархии!
«Он безумен, точно моя мать», – стали говорить люди.
Возможно, так и было. Не связанный условностями, свободный от всех ограничений, не имея причин цепляться за нынешнее положение вещей, Хлавин Китери замыслил мир, где ничто: ни родословная, ни рождение, ни обычай – ничто, кроме способностей, проверенных и доказанных, не обуславливало место человека в Жизни: И с пугающей грандиозностью фантазии Хлавин об этом пел, пока его отец и братья не уразумели, о чем он толкует, и не запретили концерты.
Кого бы это не вывело из равновесия? Мечтать о свободе, вообразить мир без стен – а затем вновь оказаться в тюрьме…
Среди поэтов у Хлавина Китери были настоящие друзья, истинные почитатели, и некоторые остались с ним в этой новой и более страшной ссылке. Будучи людьми рассудительными, они надеялись, что Хлавин сумеет успокоиться и удовлетвориться компактным и изысканным пространством Дворца Галатны. Но когда он начал убивать, одну за другой, наложниц из своего гарема и сидел, наблюдая изо дня в день, как гниют их тела, лучшие из друзей оставили Хлавина, не желая быть свидетелями его падения.
Затем – как вспышка света во тьме: новости, что Джхолаа успешно оплодотворили и сейчас она беременна, что Рештара Галатны выпустят из ссылки и разрешат на короткое время вернуться в Инброкар, дабы он присутствовал на церемониях инаугурации линии Дарджан, присвоения имени первому ребенку его сестры и присуждения статуса аристократа гайджурскому торговцу, доставившему ему Сандоса.
Хлавин Китери давно измерил, сравнил и оценил отвагу нынешних правителей и знал, что они ему не ровня. На вопрос «зачем?» он ответил. Остались лишь «когда?» и «как?», и, зная это, Рештар Галатны улыбался в безмолвной засаде, выжидая момент, чтоб ухватить свободу. Момент настал, когда его смехотворный зять Супаари ВаГайджур покинул Инброкар, унося безымянного младенца. В этот день – с прорвавшейся свирепостью голодного хищника – Хлавин Китери уложил всех, кто стоял на его пути к власти.
Последние свои дни в качестве Рештара он провел, участвуя в серии похоронных церемоний, посвященных его убитым братьям и отцу, его злодейски зарезанным племянникам и племянницам, его беззащитной сестре и отважному, но жутко неудачливому гостю семьи, Ира'илу Вро, «подло атакованным в ночи рунскими слугами, коих подговорил изменник Супаари ВаГайджур». В самом деле, весь домашний персонал резиденции Китери объявили замешанным в преступлении и без промедления вырезали. А на сбежавшего зятя Хлавина Китери в тот же день был оформлен судебный приказ, санкционировавший немедленную казнь Супаари ВаГайджура, его ребенка и любого, кто способствовал их побегу.
Сметя со своего пути препятствия, точно скошенные цветы, Хлавин Китери приступил к исполнению детально разработанного ритуала вступления на пост сорок восьмого Верховного Инброкара и приготовился освободить свой народ.
9
Неаполь
Октябрь – ноябрь 2060
Погода в октябре стояла сухая и теплая, и уже одного этого было достаточно, чтобы Эмилио Сандос почувствовал себя лучше. Даже после трудной ночи солнечный свет, струившийся в окна, оказывал целебное действие.
Работая руками с крайней осторожностью, поскольку невозможно было предсказать, что спровоцирует боль, первые часы каждого дня Эмилио проводил, наводя в квартире порядок, – полный решимости делать как можно больше, обходясь без чьей-либо помощи или разрешения. После столь долгого периода инвалидности было очень приятно самому убрать постель, подмести пол, сложить чистую посуду. Если сны в эту ночь терзали его не слишком, к девяти часам он уже успевал побриться, принять душ, одеться и был готов переместиться на высокую, безопасную почву одиночного исследования.
Благодаря своей работе Эмилио стал обладателем наследия уже почти вымершего поколения американского демографического взрыва, чье старение привело к образованию огромного рынка устройств, помогавших ослабленным и недееспособным. Потребовалась неделя, чтобы научить компьютер распознавать речевые образцы на четырех языках, которые Сандос использовал в этом проекте наиболее часто, а затем еще почти столько же, чтобы самому научиться выговаривать слова в горловой микрофон. Предпочтя знакомое, он заказал также виртуальную клавиатуру и к тринадцатому октября начал прибавлять в скорости, используя дистанционные пульты, позволявшие ему печатать, едва заметно двигая пальцами.
Роболингвист, подумал Сандос в то утро, напялив на себя шлем, скрепы и оснастку для клавиатуры. Поглощенный поисками омонимов и словосочетаний в ракхатских радиопередачах, он за наушниками не услышал стука в дверь и поэтому очень удивился женскому голосу, позвавшему:
– Дон Эмилио?
Стащив аппаратуру с головы и рук, он подождал, не зная, что сказать или сделать, пока не услышал:
– Его нет дома, Селестина. Придем в другой раз.
Все равно – сегодня или в другой раз, подумал Эмилио. Он спустился к двери – слышался голос ребенка, писклявый и настойчивый, – и открыл ее перед женщиной, в свои тридцать с небольшим лет выглядевшей озабоченной и усталой, но, как и Селестина, похожей на ангела Ренессанса: карие глаза на безупречном овальном лице, имевшем цвет слоновой кости и обрамленном светлыми кудрями.
– Я принесла тебе морскую свинку, – объявила Селестина.
Вовсе не обрадовавшись, Сандос посмотрел на ее мать, ожидая объяснений.
– Простите, дон Эмилио, но Селестина решила, что вам нужен домашний питомец, – извинилась женщина, жестом показав свое бессилие перед детским натиском, продолжавшимся, видимо, с тех самых крестин. – Моя дочь – человек настойчивый, и уж если что-то решила…
– Мне знаком этот феномен, синьора Джулиани, – с неловкой вежливостью сказал Эмилио, вспомнив Аскаму – на сей раз лишь с любовью, без пронзительной боли.
– Для вас – Джина, – сказала мать Селестины, пытаясь с помощью сдержанного юмора преодолеть неловкость ситуации. – Поскольку мне предстоит сделаться вашей тещей, полагаю, мы можем обращаться друг к другу по имени. Согласны?
Подыгрывая, священник вскинул брови:
– Прощу прощения?
– Селестина вам не говорила?
Джина вынула изо рта прядь волос, заброшенную туда ветром, и машинально сделала то же самое для Селестины, пытаясь придать ерзающему, сопротивляющемуся ребенку презентабельный вид. Что было весьма неблагодарным занятием.
– Дон Эмилио, моя дочь намерена выйти за вас замуж.
– Я надену свое белое платье с именами, – сообщила Селестина. – И тогда оно станет моим навсегда. И ты тоже, – добавила она, спохватившись. – Навсегда.
На лице матери вдруг проступила боль, но Сандос сел на нижнюю ступеньку, чтобы смотреть прямо в глаза Селестины, чей курчавый нимб словно бы пылал в ярком солнце.
– Донна Селестина, я польщен вашим предложением. Однако должен вам указать на то, что я весьма пожилой джентльмен, – с герцогским достоинством сказал он. – Боюсь, я неподходящая партия для такой юной и прекрасной леди.
Дитя с подозрением уставилось на него:
– Это чего значит?
– Это значит, carissima, что тебя отвергают, – устало сказала Джина, уже сто раз это объяснявшая, причем только за сегодняшнее утро.
– Я слишком стар для тебя, cara, – с сожалением подтвердил Сандос.
– А сколько тебе?
И Скоро исполнится восемьдесят, – ответил он. Джина засмеялась, и он вскинул на нее взгляд – лицо серьезное, глаза светятся.
– Сколько это пальцев? – спросила Селестина. Выставив четыре своих, она сказала:
– Мне вот столько.
Подняв перед собой обе кисти, Сандос под жужжание скреп медленно расправил и сжал их восемь раз, считая для ребенка в десятках.
– Это много, – сказала впечатленная Селестина.
– Действительно, cara. Множество. Уйма.
Селестина долго обдумывала это» накручивая волосы на нежные пальцы; ее тонкое запястье все еще словно перетягивала нить, как у младенца.
– Все равно ты можешь взять морскую свинку, – решила она наконец.
Он рассмеялся с искренней теплотой, но затем посмотрел на Джину Джулиани и слегка покачал головой.
– Но, дон Эмилио, вы окажете мне большую услугу! – взмолилась Джина, смущенная, но полная решимости, поскольку эту идею Селестины поддержал отец Генерал – на том основании, что уход за животным станет для Сандоса физической и эмоциональной терапией. – А кроме того… – У Нас дома живут еще три. С тех пор, как моя золовка принесла из зоомагазина первую свинку, эти существа заполонили дом. Кармелла не подозревала, что та уже была беременна.
– Право же, синьора, у меня нет возможности содержать животное…
Сандос прикусил язык. Классическая ошибка! – подумал он, вспомнив совет Джорджа Эдвардса, данный Джимми Квинну на его свадьбе: никогда не приводи доводы, которые женщина может оспорить. Говори «нет» или готовься к разгрому.
– Мы принесли клетку, – сообщила Селестина, в свои четыре года уже усвоившая этот принцип. – И корм. И бутылку с водой.
– Они очень милые зверьки, – серьезно заверила Джина Джулиани, держа Селестину за плечи и прижимая к себе. Совсем никаких хлопот, пока их не становится слишком много. Эта свинка юная и невинная, но такой она не останется долго. Видя, что решимость Сандоса слабеет, Джина с безжалостным мелодраматизмом усилила натиск:
– Если вы не возьмете ее, дон Эмилио, она наверняка станет объектом ужасных действий, причем со стороны собственных братьев!
Повисла пауза, которую так и подмывало назвать чреватой.
– Вы беспощадны, синьора, – наконец сказал Сандос, сузив глаза. – Мне повезло, что вы не станете моей тещей.
Смеясь и торжествуя, Джина повела Сандоса к своей машине; за ними вприпрыжку бежала Селестина. Открыв заднюю дверцу, Джина сунулась в кабину и передала священнику увесистый пакет, не обращая внимания на его руки. Неловко покрутив мешок, Сандос ухитрился его ухватить, а Селестина тем временем щебетала о том, как содержать, кормить, поить зверька, и рассказывала ему, что мать свинки зовут Клеопатра.
– Названа в честь египетской традиций монаршего инцеста, – заметила Джина очень тихо, чтобы Селестина не услышала и не потребовала разъяснений, а затем подняла клетку с заднего сиденья.
– Вот как, – отозвался Сандос. – Тогда эта будет Елизаветой – в надежде, что пойдет по стопам королевы-девственницы.
Джина рассмеялась, но он предупредил:
– Синьора, если у нее будут дети, я не колеблясь верну всю династию к вашему порогу.
Поднявшись по ступеням, они вселили Елизавету в ее новый дом. Загончик для свинки представлял собой простенькое сооружение из реек и проволочной сетки, окружавшее оранжевый пластиковый ящик. Внутри находилась перевернутая корзинка для овощей, чтобы зверек мог там прятаться. Сверху клетка не закрывалась.
– А она не выберется? – спросил Сандос, присаживаясь рядом и разглядывая свинку: продолговатый ком золотистой шерсти с белыми пятнами на спине и на лбу – размером и формой несколько напоминавший булыжник, главное отличие передней части от задней заключалось в паре настороженных глаз, блестящих, как черные бусины.
– Вы скоро убедитесь, что морские свинки – неважные альпинисты, – ответила Джина, становясь на колени, чтобы прикрепить к клетке наполненную водой бутылку. На секунду подняв животное, она оглядела курьезные ножки, поддерживавшие упитанное тело, затем сходила на кухню за полотенцем. – Вы также убедитесь, что полотенце на коленях – это разумная предосторожность.
– Она будет на тебя писать, – пояснила Селестина, когда он принял зверька от ее матери. – И она…
– Спасибо, cara. Я уверена, что дон Эмилио сможет додумать остальное, – ровным голосом сказала Джина, усаживаясь в кресло.
– Они похожи на маленькие изюминки, – сообщила непреклонная Селестина.
– И совершенно безвредные, в отличие от моей дочери, – сказала Джина. – Морские свинки любят, когда их гладят, но эта пока не привыкла к человечьим рукам. Время от времени вынимайте ее на пять-десять минут. Селестина права, хотя и бестактна. Не полагайтесь на способность морской свинки сдерживать свои позывы. Если вы продержите королеву Елизавету на своих коленях слишком долго, она, вполне возможно, примет вас за англиканского неофита и окрестит.
Сандос опустил взгляд на свинку, которая инстинктивно старалась походить на камень и выглядеть решительно несъедобной – на случай, если в небе парит орел. Между небольшими ушами, формой напоминавшими створки раковины, лоб украшала маленькая черная метина в виде V.
– У меня никогда не было питомцев, – тихо сказал Сандос. На внешних краях кистей, где нервы не были рассечены, у него сохранилась чувствительность, и сейчас он использовал открытую поверхность мизинца, чтобы погладить спину свинки от тупоконечной головы до бесхвостого зада – короткая, но шелковистая дистанция.
– Я принимаю твой подарок, Селестина, но при одном условии, – строго произнес Сандос, глядя на ее мать. – Полагаю, синьора, мне понадобится агент по закупкам.
– Понимаю, – сказала Джина поспешно. – Каждую неделю я буду привозить корм и свежую подстилку. За мой счет, разумеется. Я очень благодарна, дон Эмилио, что вы ее берете.
– Да, это тоже понадобится. Но я о другом. Если вас не очень затруднит, мне нужна кое-какая одежда. У меня нет открытого кредита, и имеются некоторые… практические аспекты, с которыми я пока не умею справляться.
Осторожно подняв свинку, Сандос вернул ее в загончик на полу. Зверек метнулся под корзинку и там застыл.
– Мне не нужно, чтобы за меня платили, синьора, – сказал он, выпрямляясь. – Я получаю небольшую пенсию.
Похоже, Джина удивилась.
– Пенсию по нетрудоспособности? Но вы же еще работаете, – заметила она, жестом указав на оборудование.
– Пенсию по возрасту, синьора. Мне и самому не ясна юридическая подоплека этой ситуации, – признался он, – но на прошлой неделе меня известили, что в некоторых регионах «Компания Лойолы» функционирует фактически как современная межнациональная корпорация – вплоть до пособий по болезни и системы пенсионного обеспечения.
– Филиалы взамен епархий! – Джина закатила глаза, удивляясь, что они об этом заговорили. – Конечно, раскол произошел почти сто лет назад, но все же поразительно, сколько вреда могут причинить двое упрямых, неуступчивых стариков… уже умерших и, по-моему, вовсе не слишком рано.
Сандос состроил гримасу:
– Ну, это не первый раз, когда иезуиты слишком обогнали Ватикан. И даже не первый раз, когда орден расформировывали.
– Но в этот раз было еще отвратительней, – сказала Джина. – Примерно треть епископов отказались зачитать папскую буллу о подавлении, а в судах до сих пор рассматривают сотни гражданских исков по поводу собственности. Не думаю, что сейчас кто-либо действительно понимает правовой статус Общества Иисуса!
Покачав головой, он пожал плечами.
– Джон Кандотти говорил мне, что переговоры возобновились. Он считает, что с обеих сторон есть пространство для встречных шагов и что вскоре, возможно, будет достигнуто некое соглашение…
Джина улыбнулась, весело сощурив Глаза.
– Дон Эмилио, в Неаполе вам всякий скажет, что есть очень мало политических головоломок, которые Джулиани не смог бы обойти либо пробить. А новый папа – замечательный человек и такой же хитрый, как дон Винченцо. Будьте уверены: эти двое решат задачу.
– Надеюсь. Как бы то ни было, – сказал Эмилио, возвращаясь к более насущной проблеме, – в уставе корпорации нет пунктов, учитывающих сжатие времени при путешествии на субсветовых скоростях. А поскольку по календарю мне почти восемьдесят, то по закону мне причитается пенсия от территории, которая прежде была Антильской провинцией.
Йоханнес Фолькер, личный секретарь отца Генерала, вынес этот вопрос на общее рассмотрение. Отец Генерал был очень раздосадован таким умозаключением, но Фолькер, человек жестких принципов, отстоял право Сандоса на эти деньги.
– Ну вот. «Ливайсы» еще продают?
– Конечно, – ответила Джина рассеянно, поскольку Селестина, отойдя от клетки морской свинки, направилась к приборам. – Не трогай, cara! Scuzi, дон Эмилио. Что вы сказали? «Ливайсы»?
– Две пары, если вам нетрудно. И, если денег хватит, три рубашки. Пенсия очень маленькая. – Он прокашлялся. – Я понятия не имею о нынешних модах и ценах и полагаюсь на ваше суждение, но не выбирайте ничего слишком…
– Понимаю. Ничего экстравагантного.
Джину тронуло, что Сандос попросил ее о помощи, но она лишь оглядела его с деловитостью портного, словно не раз выполняла подобные поручения священников. – Свитер, наверное…
– Не стоит, – возразила Джина, покачав головой. – Скрепы будут цепляться за петли. Но я знаю человека, который шьет замечательные замшевые пиджаки…
Сандос смотрел на нее с сомнением, и она догадалась почему.
– Классический дизайн при долговечном материале никогда не считался экстравагантным, – твердо произнесла Джина. Кроме того, я смогу устроить, чтобы обошлось недорого. Что еще? – спросила она. – Дон Эмилио, я замужняя женщина, мне доводилось покупать мужское белье.
Кашлянув, он покраснел и отвел глаза.
– В другой раз. Спасибо.
– Не понимаю, – сказала Джина помолчав. – Даже если вы отошли отдел, разве иезуиты не обеспечат вас…
– Я не просто выхожу из корпорации, синьора. Я оставляю священство. – Повисла неловкая пауза. – Детали еще не определены. Возможно, останусь здесь в качестве подрядчика. По профессии я лингвист, и для меня тут есть работа.
Джина кое-что знала о испытаниях, выпавших на его долю; прежде чем привести Сандоса на крестины, отец Генерал подготовил родственников. Но каковы бы ни были причины, отказ от обетов удивил и опечалил ее.
– Сожалею, – сказала Джина. – Я знаю, как трудно дается такое решение… Селестина! – позвала она, поднимаясь, и притянула дочь к себе. – Что ж, дон Эмилио, – сказала, снова улыбнувшись, – больше докучать не будем. Мы достаточно долго мешали вашей работе.
Селестина стояла, глядя снизу вверх на двух взрослых, темного и светлую, и вспоминала рисунки в церкви, не зная об иконографии, сделавшей их такими разными, а думая лишь о том, что вместе они смотрятся мило.
– Для тебя, мамочка, дон Эмилио не слишком стар, – заметила она с прямотой ребенка. – А почему ты не выходишь за него замуж?
– Ш-ш, cara. Что за фантазия!.. Простите, дон Эмилио. Дети! – воскликнула Джина Джулиани, сконфузившись. – Карло… мой муж… больше не живет с нами. Селестина, как вы могли заметить, человек действия и…
Сандос вскинул руку.
– Не нужно объяснений, синьора, – заверил он и с непроницаемым лицом помог ей свести малышку по лестнице.
Вместе они прогулялись по дорожке, причем молчание взрослых компенсировалось щебетанием девочки, пока не подошли к машине. Здесь они обменялись ciaos и grazies, пока Сандос открывал для дам дверцы – с неспешной величавостью, которую ему позволяли и к которой принуждали скрепы. Когда они отъехали, Эмилио завопил:
– Только не черное! Не покупайте ничего черного, ладно?
Джина рассмеялась и, не оглядываясь, помахала рукой из окна автомобиля.
– Мадам, вы замужем за болваном, – тихо сказал он и направился к гаражу, где его ждала работа.
Он втянулся в рабочий режим, когда наступила мягкая неаполитанская осень, а дожди стали более частыми. Как ему и обещали, Елизавета оказалась нетребовательным существом, быстро обретя размер и пропорции мохнатого кирпича и приветствуя его утреннее пробуждение радостным свистом. Не слишком приветливый по утрам, Сандос кричал с кровати: «Ты вредитель. И твои родители были вредителями. Если у тебя родятся дети, они тоже будут вредителями». Однако вынимал ее из загончика и устраивал у себя на коленях, чтобы она поела моркови, пока он пьет кофе, и в скором времени уже не чувствовал себя глупо, разговаривая с ней.
Морские свинки, как он обнаружил, сумеречные животные: спокойные ночью и в течение дня, активные на рассвете и перед закатом. Такая модель поведения его вполне устраивала. Эмилио часто работал без перерывов с восьми утра до пяти вечера, не желая останавливаться, пока свинка не объявляла свистом об окончании рабочего дня – при наступлении сумерек. Он постоянно помнил, что все может застопориться из-за хворей, накопленных на Ракхате и за месяцы одиночного перелета к Земле. Поэтому Сандос концентрировался на работе, сколько мог, затем готовил ужин из красных бобов и риса, съедая его под пристальным взглядом глаз-бусинок Елизаветы. Потом вынимал свинку из клетки и сидел с ней, поглаживая ее бесчувственными кончиками пальцев, а зверек, уютно угнездившись на его коленях, дремал прерывистым, беспокойным сном.








