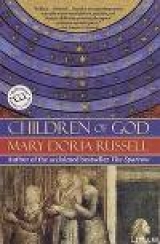
Текст книги "Дети Бога"
Автор книги: Мэри Дория Расселл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
– Mi scuzi? – спросила Джина, нахмурившись.
– Синьора, двое из команды «Стеллы Марис» заболели на Ракхате. Один умер в течение ночи. Второй болел много месяцев и был уже почти мертв, когда его убили, – произнес Сандос с бесстрастным спокойствием. – Мы так и не смогли выяснить причин ни того, ни другого заболевания, но одно из них сопровождалось общим истощением… Значит, я правильно сделал, что не сказал об этом раньше, – заметил он, когда Джина прижала ладонь к губам. – Тогда, возможно, вы меня простите. Была вероятность, что я болен. – Сандос слегка развел руки, как бы представляя свое тело в качестве неопровержимого доказательства. – Как видите, я страдал от трусости, а не от патогенных факторов.
Какое-то время Джина не могла произнести ни слова.
– Вы поместили себя в карантин, – наконец сказала она, – до тех пор, пока не убедились, что здоровы.
– Да.
– Не понимаю, при чем здесь трусость.
Рядом кричали чайки, и Сандос предоставил Джине гадать, не унес ли ветер ее слова.
– Человек, с которым я только что разговаривал, сообщил, что этот участок берега постоянно охраняется, – сказал он. – Это правда?
– Да.
Убрав с лица волосы, Джина плотнее обернула вокруг себя кофту.
– Он говорит: «мафия» – неверный термин. В Неаполе ее называют «каморрой».
– Да. Вас это шокирует?
Пожав плечами, Сандос отвел глаза.
– Мне следовало догадаться. Подсказок хватало. Я был слишком поглощен работой.
Он уставился на морской пейзаж, которым Джина могла любоваться из окна спальни.
– Здесь очень красиво.
Джина смотрела на его профиль, гадая, что делать дальше.
– Селестина скоро вернется, – сказала она. – Ее огорчит, если она вас не застанет. Не хотите ее дождаться? Мы можем выпить кофе.
– Что вы обо мне знаете? – напрямик спросил Сандос, поворачиваясь к ней.
Изумленная этим вопросом, Джина распрямилась. «Я знаю, что ты обращаешься с моей дочкой, точно с маленькой герцогигней, – подумала она. – Знаю, что могу заставить тебя смеяться. Знаю, что ты…»
Прямота его взгляда отрезвила Джину.
– Я знаю, что вы горюете по своим друзьям и по ребенку, которого любили. Я знаю, что вы считаете себя в ответе за многие смерти, – сказала она. – Знаю, что вас изнасиловали.
Сандос не отвел взгляда.
– Я не хочу недоразумений. Если мой итальянский не вполне ясен, вы должны мне об этом сказать, ладно?
Она кивнула.
– Вы предлагаете мне… дружбу. Синьора Джулиани, я не наивен. Я вижу, что у вас на сердце. И хочу, чтоб вы это понимали…
Джину будто обожгло. Устыдившись своей столь очевидной страсти, уместной скорее в школьнице, она взмолилась о каком-нибудь крупном тектоническом сдвиге – чтобы Апеннинский полуостров погрузился в Средиземное море.
– Не нужно объяснений, дон Эмилио. Простите, что я вас смутила…
– Нет! Пожалуйста. Позвольте… Синьора Джулиани, если бы мы встретились раньше… или, может, намного позже. Я выражаюсь неясно; – сказал он, глядя на небо и злясь на себя. – Это… привычка думать по-христиански. Дескать, душа – нечто другое и более высокое, нежели телесная суть… и жизнь рассудка происходит отдельно от жизни тела. Мне потребовалось много времени, чтобы понять эту мысль. Тело, рассудок, душа – для меня все едино.
Он повернул голову, и ветер смахнул волосы с глаз, устремленных на сверкающую линию горизонта, где Средиземное море встречалось с небом.
– Сейчас я думаю, что выбрал целибат в качестве пути к Богу, поскольку это дисциплина, в которой тело, рассудок, душа являются единой сущностью.
На секунду Эмилио замолчал, собираясь с духом.
– Когда… В общем, меня изнасиловали не один раз.
Он посмотрел на нее, но снова отвернулся.
– Там было семнадцать мужчин, и насилие продолжалось несколько месяцев. В течение этого срока и потом я пытался отделить то, что случилось со мной физически, Оттого, что это… сотворило со мной. Я пытался поверить, что это всего лишь мое тело. Это не может затронуть мою суть. И для меня было… невозможно так считать. Простите, синьора. Я не имею права просить вас выслушивать это.
Тут он умолк, готовый сдаться.
– Я слушаю, – сказала Джина.
«Трус!» – свирепо подумал Эмилио и вынудил себя говорить:
– Синьора, я хочу, чтобы между нами не было непонимания. Каковы бы ни были формальности, я не священник. Мои обеты недействительны. Если б мы встретились в иное время, я захотел бы; возможно, большего, нежели дружба. Но то, что когда-то я отдавал Богу по доброй воле, ныне вынуждается… – Тошнотой. Страхом. Яростью. Он смотрел в глаза Джины и сознавал, что обязан выдать ей столько правды, сколько сам сможет вынести.
– Отвращением, – сказал он в конце концов. – Я больше не цельный. Будет ли для вас приемлемо, если в обмен на вашу дружбу я предложу нечто меньшее?
«Мое тело вылечилось, – просил он ее понять, – но душа все еще кровоточит. А для меня это все – одно».
Не стихавший вблизи берега ветер гудел в ушах Джины, принося запахи водорослей и рыбы. Она посмотрела на залив, чью поверхность словно бы усыпали блестки.
– Дон Эмилио, вы предлагаете мне честность, – произнесла Джина – на сей раз серьезно. – Полагаю, это не меньше дружбы.
Какое-то время было совсем тихо, если не считать крика чаек. В стороне, ниже по аллее, охранник кашлянул и бросил на землю сигарету, раздавив каблуком. Джина подождала, но было ясно, что Сандос уже сказал все, что мог.
– Что ж, – заключила она, вспомнив о Селестине и морской свинке, – вы по-прежнему можете рассчитывать на чашку кофе.
Раздался сдавленный смешок, как симптом напряжения, в котором находился Сандос, и охваченные скрепами кисти вскинулись к голове, словно он хотел взъерошить пальцами волосы; но затем вновь повисли.
– Я бы предпочел пиво, – с простодушной прямотой сказал Сандос, – но сейчас лишь десять часов.
– Путешествия очень расширяют кругозор! – спокойно заметила Джина. – Вы когда-нибудь ели хорватский завтрак?
Он покачал головой.
– Бокал сливянки, – пояснила она, – за которым подают эспрессо.
– …вот как, – с легкой иронией сказал Эмилио, – было бы замечательно.
Затем он застыл.
Джину не отпускало напряжение до того мига, когда она направилась обратно в дом. Позже она подумает: «Если бы я отвернулась, то пропустила бы момент, когда он влюбился».
Эмилио помнил об этом иначе. То, что он почувствовал, было не столько началом любви, сколько прекращением боли. Это ощущалось, как нечто физическое и неожиданное, как момент, когда его кисти наконец перестали болеть после жуткого приступа фантомной невралгии, когда боль просто исчезла – так же внезапно и необъяснимо, как появилась. Всю свою жизнь Эмилио ценил силу молчания. Он никогда не мог говорить о том, что происходило в его душе, – если не считать редких бесед с Энн. И теперь – с Джиной.
– Я скучал по вам, – сказал Эмилио и сам удивился.
– Это хорошо, – откликнулась Джина, глядя в его глаза и понимая больше, чем он. Затем направилась к кухне.
– Как Елизавета? – спросила через плечо.
– Прекрасно! Прелестная зверушка. Я вправду получаю удовольствие от ее компании, – сказал Эмилио, пробежав несколько шагов, чтобы ее догнать. – Джон Кандотти сделал ей просторную клетку: три отсека и тоннель.
Потянувшись мимо Джины, он открыл дверь, не заметив, как легко далось ему это движение.
– Не желаете ли как-нибудь с Селестиной прийти ко мне на ленч? Я научился готовить, – похвалился Эмилио, придержав для нее дверь. – Настоящую еду. Не полуфабрикаты.
Прежде чем шагнуть внутрь, Джина помедлила.
– Охотно, но Селестина не ест почти ничего, кроме макарон и сыра.
– Это судьба! – воскликнул он с улыбкой, согревшей их обоих, точно восход солнца. – Синьора, макароны и сыр – мое фирменное блюдо.
Пока дни делались длинней, бывали совместные ленчи, недолгие визиты, короткие звонки, письма, отправляемые по три-четыре раза вдень. Когда по почте пришли бумаги, подтверждавшие расторжение брака, Эмилио находился в ее доме, и Джина все же всплакнула. В первые же дни она узнала, что Эмилио не ест мяса; со временем он смог ей объяснить почему, – и она вновь плакала, на сей раз от жалости к нему. Когда Эмилио выразил восхищение рисунками Селестины, кроха поставила это дело на поток, и голые стены его квартиры вскоре украсились яркими карандашными изображениями неких таинственных объектов, выполненными в весьма симпатичных тонах. Довольная достигнутым эффектом, Джина привезла искрящиеся красные герани; расставив их на его подоконниках, и неожиданно это стало для Эмилио поворотной точкой. Он забыл, как нравилось ему на «Стелле Марис» ухаживать за растениями трубы Уолвертона, но теперь начал наконец вспоминать хорошие времена и обретать какое-то равновесие.
Они брали на прогулки Селестину и забредали далеко, обливаясь потом в полуденных лучах, – фиолетовое море на западе, мерцающие, залитые солнцем скалы на востоке, кисло-сладкий запах пыли, цветов и асфальта, щекочущий горло. Шагая плечом к плечу, они спорили о всяких глупостях и наслаждались этим, а затем шли домой, где их ждали свежий хлеб, поджаренный на оливковом масле, цуккини со сладким сыром и миндаль в меде. Задерживаясь после ужина, Эмилио укладывал Селестину спать, и Джина, качая головой, слушала, как эти двое сочиняют длинную и затейливую сказку со многими эпизодами – про принцессу с кудрявыми волосами, которой не позволяли есть ничего, кроме сладостей, несмотря на то что ее кости уже начали гнуться, и про собаку по имени Франко Гросси, вместе с принцессой отправлявшуюся то в Америку, то на Луну, то в Милан, то в Австралию. В июне Эмилио признался, что страдает мигренью, и Джина принесла ему на пробу несколько лекарств, одно из которых оказалось гораздо эффективнее програина.
По мере того как проходили недели, в обоих крепло невысказанное понимание, что Эмилио, конечно, нужно время, но не столь долгое, как он полагал вначале.
В один из вечеров Джина научила его играть в скопу; и когда Эмилио вошел во вкус, ее веселил азарт, с которым он играл, хотя расстраивало то, как трудно ему держать карты. Когда Джина спросила об этом, Эмилио перевел разговор на другое, и на время она оставила эту тему. Потом, накануне летнего солнцестояния, возможно, пытаясь доказать, что руки хорошо его слушаются, Эмилио поставил себе и Селестине задачу научиться завязывать шнурки – навык, от которого оба отступились в прошлом.
– Мы сможем, – настаивал Эмилио. – Наверняка! Даже если это займет весь день, не важно, потому что сегодня – самый длинный день в году.
Все утро они причитали по поводу того, как легко все дается другим, но сообща превозмогли неудачи и, наконец добившись успеха, сияли самодовольством. Радуясь за обоих, Джина предложила устроить на берегу праздничный пикник, обратив их внимание на то, что этот план предоставит много удобных случаев снять и надеть туфли. Поэтому тот долгий летний вечер был наполнен радостью и покоем. Эмилио и Джина следовали по берегу за Селестиной, наблюдая, как она гоняет чаек, роется в поисках сокровищ и швыряет камни в воду, – пока малышка не умаялась. Когда темнота стала, наконец, сгущаться, они взобрались по крутой лестнице – Джина с полными карманами ракушек и красивых камушков, а Эмилио со спящим ребенком на руках – и шепотом поздоровались, минуя охранников, улыбавшихся, точно сообщники.
Когда подошли к дому, Джина открыла и придержала заднюю дверь, но свет включать не стала. Зная дорогу, Эмилио через притихший дом отнес Селестину в ее переполненнную куклами комнату и подождал, пока Джина освободит место на кровати, заваленной игрушечными зверями. Сохраняя осторожность, он мог поднять легкое тело Селестины, но не мог ее опустить, не повредив скрепы, – поэтому Джина взяла девочку из его рук и уложила в постель, после чего некоторое время стояла рядом, глядя на дочку.
«Селестина… – думала она. – Которая никогда не перестает двигаться, не прекращает говорить, которая утомляет свою мать еще до завтрака, которая саму Святую Мать заставит задуматься, не нанять ли кого-то, чтобы ее отшлепали. Чье лицо во сне все еще выглядит младенческим, чьи крохотные пальцы до сих пор приводят в восторг ее мать, чей завязанный пупок еще хранит духовную связь с другим животом. Которая быстро научилась не упоминать при маме новых папиных друзей».
Вздохнув, Джина повернулась и увидела Эмилио, прислонившегося к дверному косяку и следившего за ней взглядом, который не скрывал ничего. Руки он чуть развел по сторонам, как поступал, когда Селестина подбегала его обнять, – чтобы не оцарапать малышку своими скрепами. Джина подошла к нему.
Край ее нижней губы был изящным, точно ободок потира, и эта мысль едва не остановила Эмилио, но затем лицо Джины приблизилось, чтобы встретить его губы, и отступать уже было некуда, да и не хотелось. После долгих лет усилий, страданий – все оказалось очень просто.
Она отстегнула его скрепы и помогла снять одежду, а затем сбросила свою, нисколько не стыдясь Эмилио, словно они были вместе всегда. Но Джина не знала, чего от него ждать, и потому готовила себя к нервному срыву, к животному напору, к плачу. Но он тихонько рассмеялся, и она тоже обнаружила, что все очень просто. Когда подошел момент, Джина приняла его в себя, улыбаясь тихим звукам, которые он издавал, и сама чуть не заплакала. Естественно, кончил Эмилио слишком рано – чего еще можно было ожидать? Для нее это не имело значения, но спустя несколько секунд она услышала возле своего уха огорченное бормотание:
– Не думаю, что я все сделал как надо.
Засмеявшись, Джина сказала:
– Это требует практики.
Эмилио застыл, и она испугалась, что задела его чувства, но тут он приподнялся на локтях и посмотрел на нее – лицо удивленное, глаза веселые.
– Практики! Мы будем заниматься любовью еще и еще?
Джина хихикнула, когда он обрушился на нее вновь.
– Слезь с меня, – спустя какое-то время прошептала она, все еще улыбаясь и поглаживая ладонями его спину.
– Не собираюсь.
– Слезь! Ты весишь тонну, – солгала Джина, поцеловав его в шею. А все макароны и сыр!..
– Мне здесь нравится, – сказал Эмилио подушке под ее головой.
Джина ткнула пальцем ему под мышку. Прыснув, он откатился в сторону, а она, смеясь, шикала на него и шептала:
– Селестина!
– Soy cosquilloso![17]17
Щекотно! (исп.).
[Закрыть] – изумленно произнес Эмилио. – Не знаю как это на итальянском. Как вы называете такую реакцию на прикосновения?
– Чувствительность к щекотке, подсказала Джина и с улыбкой послушала, как он наугад определяет соответствующий глагол и быстро подбирает к нему спряжение. – Похоже, ты удивлен.
Успев перевести дух, Эмилио посмотрел на нее:
– Я не знал; Да и откуда? Люди не щекочут иезуитов!
Она ответила скептическим взглядом, понятным даже в темноте.
– Ну, некоторые люди щекочут некоторых иезуитов, – признал он негодующе, – но меня не щекотал никто.
– Даже родители? Ты же не всегда был священником.
– Нет, – коротко ответил Сандос.
«О боже!» – подумала Джина, сообразив, что забрела на новое минное поле, но Эмилио, приподнявшись на локте, второй рукой накрыл ее живот.
– Ненавижу макароны и сыр, – признался он. – Тут не было драконов, чтобы убить их ради моей возлюбленной, но я ел макароны и сыр ради тебя; И хочу, чтобы меня за это ценили.
Джина улыбнулась – совершенно счастливая.
– Подожди, – сказала она, когда Эмилио придвинулся, чтобы ее поцеловать. – Я не ослышалась – «возлюбленной»?
Но его губы снова накрыли ее рот, и на этот раз у него получилось лучше.
Помня о Селестине, они вели себя осторожно, а перед рассветом Эмилио ушел. Сказать Джине «до свиданья» и покинуть ее оказалось самым трудным из всего, что он когда-либо делал. Но затем были другие дни на берегу, когда Селестина рано уставала, и другие ночи, когда они не уставали до утра; и пока проходило это лето, Джина постепенно возвращала ему цельность. Не осталось ни одного воспоминания о зверствах, которое она не загладила своей красотой и нежностью, ни одного унижения, не заслоненного ее теплотой. А если являлись кошмары, она была рядом с ним – как спасение в ночи. Прежде чем кончилось лето, пока дни были еще слишком долгими, а ночи слишком короткими, когда аромат лимонных и апельсиновых деревьев сделался гуще и каждую ночь проникал сквозь окна ее спальни, пропитывая простыни и волосы Джины, Эмилио начал возвращать ей кое-что из того, чем она его одарила.
Временами у него возникало ощущение безупречного покоя. И слова Джона Донна казались совершенными: «Я мертв. И эту смерть во мне / Творит алхимия любви…». Обуреваемый надеждой, Эмилио больше не мог противиться вере в то, что будущее – это замечательно, и чувствовал, что прошлое его отпускает. «Это закончилось, – думал он раз за разом. – Закончилось».
14
Труча Саи
2042–2046, земное время
Живя в Труча Саи, София Мендес не испытывала недостатка в общении. В деревне насчитывалось примерно триста пятьдесят жителей, а по соседству находились другие селения; визиты были обычным делом и проходили весело. София со многими делила работу и еду, и скоро для нее стало естественным проводить время, сплетая мечевидные листья диусо-деревьев в циновки, ветровые щиты, зонты, пакеты, используемые для пропаривания корней, корзины, в которые собирали фрукты. Участвуя в сезонных сборах урожая, она узнала, где растут и как выглядят полезные растения, а также как избегать опасности и находить путь через джунгли, поначалу казавшиеся непролазными.
София становилась компетентной рунской взрослой: сведущим полевым ботаником, полезным членом общины – и находила в этом определенное удовлетворение. Но в первые месяцы этой ссылки ее ближайшим интеллектуальным компаньоном был библиотечный компьютер «Стеллы Марис», вращавшейся вокруг планеты. Добраться до корабля София не могла, но немалую часть каждого дня она проводила, общаясь с библиотекой по радио. Подправив и отредактировав свои наблюдения за жизнью руна и личные записи, София сгружала их в память корабля, чтобы не хранить лишь на своем блокноте. Эта привычка помогала ей ощущать себя не такой изолированной: она словно отправляла сообщения. Когда-нибудь ее записи попадут на Землю, и потому София могла считать себя ученым-одиночкой, своими исследованиями приносящим пользу обществу, частицей которого являлась. Все еще человек. Все еще разумный.
Исааку исполнилось пятнадцать месяцев. Однажды утром, когда София попыталась войти в компьютерную систему корабля, ее встретило непреклонное молчание. Уставясь на лаконичное сообщение об ошибке, светившееся на экране, она почти физически ощутила содрогание судна, у которого вдруг порвался причальный трос. Как-то повредились бортовые системы? Или орбита корабля стала ниже, и «Стелла Марис» сгорела в атмосфере либо упала в воды Ракхата? Варианты можно было перебирать бесконечно. Единственное, о чем София не подумала, это о том, что произошло в действительности: на Ракхат прибыла вторая группа с Земли, путешествующая под эгидой Объединенных Наций. Спустя примерно двенадцать недель после приземления представители Консорциума по контактам определили местонахождение Эмилио Сандоса. Считая его единственным выжившим в миссии иезуитов, они отправили «Стеллу Марис» на Землю, причем пилотировали корабль навигационные программы самой Софии, а единственным пассажиром был Эмилио Сандос, летевший навстречу своему позору.
София обнаружила, что существует много разновидностей одиночества. Есть одиночество, происходящее оттого, что ты понимаешь, а тебя – нет. Есть одиночество, когда не над кем подтрунивать или не с кем спорить. Ночное одиночество отличается от дневного, иногда охватывающего посреди толпы. София стала экспертом по одиночеству, а худшая его разновидность, как она узнала, наступила после ночи, когда ей приснился смеющийся Исаак.
Первые недели своей жизни Исаак – крошечный младенец, вытянутый и худой, – проспал, пугая ее своей неподвижностью. София сознавала, что сон – это способ концентрации скудных ресурсов для выживания, поэтому противилась желанию разбудить малыша, понимая, что оно исходит от ее собственной потребности в утешении. Но даже когда Исаак не спал, он не встречался с ней взглядом дольше, чем на секунду, без того чтобы не посереть под своей тонкой кожей; и хотя по прошествии недель сосал ее грудь с большей силой, он часто срыгивал молоко. Сколько София ни твердила себе, что причина тут в неразвитой пищеварительной системе недоношенного ребенка, было трудно не подозревать в этом удручающее отторжение.
В шесть месяцев Исаак оставался похожим на птицу, держался отстраненно, всегда глядел вдаль, сосредоточенный на какой-нибудь тайне листьев, света и тени. Ко дню своей первой годовщины он отличался потусторонним достоинством – крошечный, никогда не улыбавшийся мальчик с глубоко посаженными глазами эльфа, который проводил почти все время, разглядывая калейдоскоп, сложенный из своих пальцев, – зачарованный рисунками, которые те выстраивали. София начала было надеяться, что его молчание происходит от глухоты, ибо Исаак никогда не лепетал, не поворачивался к ней, когда она звала его по имени, и, казалось, не слышал рунских детей, когда те ссорились, играли, дразнили друг друга и пыхтели, хрипло смеясь. Но однажды Исаак произнес: «Сипадж», – и повторил несчетное число раз, пока это слово, означавшее «Слушай меня!», не стало для всех, кто его слышал, бессмысленным точно мантра. Затем он снова умолк.
Когда подошел его второй день рождения, Исаак, похоже, достиг состояния неприступной самодостаточности: скороспелый дзен-мастер – без потребностей, без желаний. Он сосал, когда София совала ему в рот свой сосок, ел, когда на язык клали пищу, пил, если воду подносили к губам. Он позволял себя поднимать и нести, но никогда не тянулся ни к кому. Перетаскиваемый своими рунскими приятелями, точно кукла, Исаак безучастно ждал, пока прекратится вмешательство в его задумчивость; опущенный на траву, возвращался к своей медитации, словно ничего не произошло.
Казалось, внутри его невидимой цитадели обретается совершенство, от которого не может отвлечь внешний мир. Он сидел часами, неподвижный и сбалансированный, точно йог, изредка его лицо преображала улыбка потрясающей красоты, словно он был доволен какой-то сокровенной, священной мыслью.
Софии не было нужды спрашивать, что сделали бы с рунским малышом, если бы тот оказался настолько же ненормальным. Подобно спартанцу, оставлявшему увечного младенца на склоне холма, чтобы его загрызли волки, рунский отец отдал бы дефективного ребенка джанаде – своеобразная телятина для джана'атских аристократов. Возможно, руна не сознавали, что с Исааком что-то неладно, или им было все равно; Исаак не относился к руна, поэтому нормы для него были иными. Насколько София могла судить, они просто приняли затворническое молчание Исаака, как приняли его бесхвостое, безволосое тело, как принимали почти все в своем мире: с безмятежным благодушием и невозмутимым спокойствием.
Поэтому София тоже старалась принимать своего сына таким, каков он есть, но было нелегко наблюдать, как ее ребенок часами пялится на свои ладони или сидит, тихо пошлепывая ладонями по грунту, словно бы слушая какую-то мелодию внутри себя. Любой матери было бы трудно любить Исаака, столь же прекрасного и бесчувственного, как ангел, а Софии Мендес жизнь нечасто предоставляла возможность практиковаться в любви.
В глубине души она ощущала несказанное облегчение, что ее сын нуждается в ней так мало. Долгие годы единственным мерилом, по которому она могла судить, насколько глубоко переживает потерю родителей, был беспричинный ужас, охватывавший ее при одной мысли, что она умрет молодой и сделает своего ребенка сиротой. «В состоянии Исаака есть и хорошие стороны, – сказала себе София. – Если я умру, он вряд ли это заметит».
Позже София поймет, насколько близка была к безумию. Она заглянула в эту пропасть, ощутив на ее краю головокружение и беспечность, когда Исааку было четыре года. Именно тогда в Труча Саи прибыл Супаари со своей дочкой, приведенный туда Джалао и несколькими другими женшинами-вакашани. Лесные руна не выказали удивления, когда он нежданно появился в убежище, которое они всегда держали в тайне от своих джана'атских хозяев; для них было естественно принимать события, не задавая лишних вопросов, а Супаари ВаГайджур всегда отличался от других джанада. Но если руна сохраняли обычное спокойствие, то София Мендес была потрясена силой своих эмоций. Супаари был джана'ата, и однако, увидев его, она подумала не о мятеже или смерти, не об угнетении, эксплуатации или жестокости, но лишь о дружбе и окончании одиночества.
Впервые после рождения Исаака она обнаружила нечто, за что можно благодарить Бога.
– Мне сказали, что ты погибла, – произнес Супаари на х'инглиш, уставясь на крошечную иностранку.
Ужаснувшись, он круто развернулся и отошел на несколько шагов, но затем вернулся к ней, как падальщик возвращается к трупу. Потянулся рукой к лицу Софии, изуродованному тройным шрамом, и ощутил еще больший стыд, когда она, как ему показалось, отпрянула, избегая его касания.
– Я искал тебя, – сказал Супаари, моля о понимании. – Вакашани сказали, что ты мертва!
Поскольку он ждал этого, то увидел в ее лице ненависть и укор. Измученный путешествием и всем, что стряслось раньше, потрясённый грандиозным разнообразием способов, которыми он умудрялся ошибаться, джана'ата в несколько приемов осел, сдвигая вес со ступней на хвост, потом на колени, затем назад – пока наконец не бухнулся на грунт, опустив голову между кистей, погрузившихся в лесной перегной. Ее безмолвный упрек – само ее существование – показался Супаари убийственным ударом, и он страстно желал какой-нибудь быстрой смерти, когда вдруг ощутил, что его голову поднимают маленькие руки.
– Сипадж, Супаари, – сказала София, опускаясь на колени, чтобы смотреть ему в глаза, – сердце кое-кого очень радо, что ты сюда пришел.
«Она меня не поняла, – уныло подумал Супаари. – Забыла собственный язык».
– Кое-кто считал, что ты ушла, – прошептал он. – Кое-кто постарался бы тебя найти.
Грузно перекатившись в сидячее положение, Супаари огляделся: спальные шалаши с изящными наклонными крышами, поскрипывающими и гнущимися на ветру; плетеные щиты; украшенные цветами и лентами; приподнятые платформы для сидения, устланные красивыми подушками. Руна, живущие собственной жизнью, не затронутой законами или обычаями джана'ата. Если не считать ужасных шрамов, маленькая чужеземка выглядела здоровой.
– Сипадж, София, – произнес он в конце концов. – Кое-кто имеет великий талант к ошибкам. Возможно, для тебя было лучше, что ты обошлась без его помощи.
Она ничего не сказала, и Супаари попытался прочитать по ее лицу, понять что-то по ее запаху, по ее позе. Невозможность быть уверенным в смысле всего этого обескураживала – особенно сейчас, когда он знал, насколько плохо понимал Сандоса, и спрашивал себя, не заблуждался ли, считая, что нравится Ха'ан.
– Я думаю, – медленно произнес Супаари на к'сане, ибо в руандже не было нужных ему слов, и он полагал, что София забыла х'инглиш. – Я думаю, что ты возненавидишь меня, когда узнаешь, что я натворил. Ты понимаешь это слово: «ненавидеть»? – Извинения. Кое-кто забыл твой язык. Кое-кто знал лишь немного.
Скрестив ноги, она уселась рядом с ним в низкую траву, покрывавшую поляну.
София видела, насколько он устал; его длинное красивое лицо показалось ей худым, а скулы выступали сильней, чем она помнила.
– Сипадж, Супаари, ты совершил очень длинное путешествие, – начала София, ощущая руанджские обороты такими естественными, словно пользовалась ими всю жизнь. – Конечно, ты голоден. Не хочешь ли…
Супаари остановил ее, осторожно прижав к ее губам короткий тупой коготь.
– Прошу тебя, – произнес он голосом, который Энн Эдвардс назвала бы искаженным. – Не предлагай.
И вскинув голову, отвернулся от нее.
– Как я могу есть? – спросил он на к'сане, обращаясь к небу. – Как я могу есть?
Услышав его возглас, из толпы, окружавшей вакашанский эскорт Супаари, вышла Джалао. Она несла прочную корзину, которую сама заполнила провизией для него и его ребенка, и сейчас резко опустила ее на траву.
– Ешь, как ел всегда, – сказала девушка негромко, но с жесткостью, которой София никогда раньше не слышала в голосе рунао.
Тут между Джалао и Супаари мелькнуло нечто вроде невысказанного понимания, но София не настолько понимала язык их тел, чтобы судить с уверенностью. К этому моменту дети носившиеся вокруг взрослых, гонявшиеся друг за другом, взбудораженные приходом гостей и нарушением распорядка, – совсем разошлись, и прежде чем София успела криком предостеречь, Пуска, дочь Канчея, воспользовавшись тем, что ее отец был поглощен разговором, прыгнула ему на спину и тут же оттолкнулась, изогнувшись в радостном прыжке; а приземлившись, перевернула корзину Супаари. Невозмутимо прервав разговор, Канчей быстро, пока дети не учуяли запах, заполнил корзину вновь, затем наклонился и, широко разбросав руки, сгреб юнцов в восторженную извивающуюся груду.
Улыбнувшись, София поискала глазами Исаака, опасаясь, что, пока остальные отвлеклись, он убрел куда-нибудь. Но вот он: лежит на спине, наблюдая, как крылатые семена по спирали спускаются к его лицу, срываясь с нависшей над ним ветки у'ралии. София вздохнула и вернулась взглядом к Супаари, оцепенело сидевшему на земле.
– Сипадж, Фия. Все изменилось, – пробормотал он.
Затем вскинул глаза на Джалао ВаКашан и прижал уши.
– Кое-кто не понимал! – воскликнул он. – Кое-кто знал, но не понимал. Все изменилось.
– Сипадж, Супаари, – сказала Джалао, стоя над ним. – Ешь. Все остается, как было.
Но что… кто в корзине? – подумала София, понимая теперь, что Канчей спешил навести порядок, дабы уберечь детей от преждевременного знания. Похолодев, она посмотрела на Супаари и подумала: «Он ест руна. Он – джанада».
Прошло немало времени, прежде чем они снова смогли говорить.
– Сипадж, Супаари, мы те, кто мы есть, – не придумав ничего лучшего, наконец произнесла София так же просто, как истинная рунао.
Встав, она ухватила джана'ата за руку, словно хотела поднять его на ноги. Он растерянно посмотрел на нее.
– Иди поешь. Жизнь продолжается, – сказала София, легонько потянув его за руку. – Мы-и-ты-тоже подумаем о проблемах позже.
Супаари унес корзину с поляны, чтобы поесть с подветренной стороны и не на глазах у руна. Должно быть, на каком-то уровне сознания он всегда понимал, что делает; даже в прежние времена ему было неловко есть мясо в присутствии руна. Тихонько рыча, он пытался открыть корзину и почувствовал себя еще хуже, когда Канчей, выбравшись из клубка детишек, ему помог.
Юная Кинса – еще не взрослая, хотя уже и не ребенок – все это время сидела неподалеку, что-то нашептывая Ха'анале и не вполне понимая, где ей следует находиться. Увидев, что Супаари направился в сторону, она последовала за ним, неся на спине малышку. Догнав ее, София протянула руку и сунула палец под изогнутые коготки младенца.








