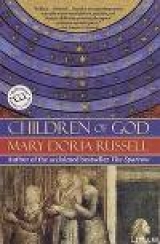
Текст книги "Дети Бога"
Автор книги: Мэри Дория Расселл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
Эмилио опустился рядом с ней на колени.
– Мы навлекли на вас беду, – произнес он. – Мне очень жаль.
– Вы хотели как лучше, – откликнулась Суукмел. – И благодаря вам родился ребенок.
– Ты не пакуешь вещи, – заметил Эмилио.
– Как видишь, – безмятежно сказала она, игнорируя всеобщую суматоху.
– Моя госпожа Суукмел, послушай меня: здесь больше не безопасно.
– Безопасность – относительное понятие.
Она подняла руку, словно откидывая вуаль, но замерла, не завершив жест.
– Я остаюсь, – произнесла Суукмел тоном, не допускавшим возражений. – Я решила, что если эта чужеземка, София, придет в Н'Джарр, то мне следует с ней поговорить. У нас есть нечто общее.
Ее губы чуть искривились, а глаза показались ему веселыми.
– Каковы твои планы? – спросила она.
– Почти такие же, – сказал Эмилио. – Я ухожу на юг, чтобы поговорить с Софией.
38
На дороге в Инброкар
Ноябрь 2078, земное время
Эмилио не решился воспользоваться катером, предпочтя оставшееся горючее сохранить на крайний случай, поэтому он и Нико отправились на юг пешком. Священники остались в Н'Джарре, дабы помогать тут, чем смогут, но Нико и слушать не хотел про то, чтобы отпустить Эмилио одного, и тот не настаивал. Было маловероятно, что пистолет и решительная позиция совладают с тем, с чем им придется столкнуться в ближайшие двенадцать дней, но Нико неоднократно доказывал свою полезность, и Эмилио был рад его обществу. Тият и Каджпин тоже пошли с ними, чтобы показывать путь через горные перевалы, извилистые ущелья и предгорья. План был такой: вернуться к развалинам Инброкара, затем пройти еще немного на юг, где и подождать на дороге, пока на них не наткнутся София и руна.
Ко второму заходу Эмилио и Нико изодрали колени в кровь, и Эмилио начал пересматривать свое определение «крайнего случая». Пласты, составлявшие горы Гарну, были тонкими и ломкими, с наклоном, приближавшимся к вертикали, – отвратительная поверхность для ходьбы, изматывающая и предательская опора. Даже для руна, способных опираться на три конечности, восхождение было трудным.
– Нико, ты цел? – спросил Эмилио, когда Тият и Каджпин в пятый раз помогли гиганту подняться. – Может, стоит вернуться за катером…
Услышав позади шуршание скользящих камней, он замолчал и, одновременно с Нико обернувшись, увидел высокого голого человека, который шагал вниз по склону на грязных и тощих, как у аиста, ногах, держа высоко над головой обтрепанный голубой зонтик.
– Исаак? – предположил Нико, отряхивая песок с исцарапанных ладоней и потирая свежие синяки.
– Да, – тихо откликнулся Эмилио. – Кто ж еще это может быть?
Он ожидал увидеть в лице ребенка Джимми и Софии их черты. Но больше всего его удивило, что Исаак вовсе не походил на ребенка. Наверное, ему было под сорок. Старше, чем Джимми в момент своей гибели… Он унаследовал курчавые волосы отца, но у Исаака они были темно-красные, уже испещренные сединой и слипшиеся в ломкие грязные косички. В его длинных тонких костях присутствовало что-то от хрупкости Софии, и форма рта казалась знакомой, но трудно было разглядеть черты матери в этом чумазом призраке с блуждающими голубыми глазами.
– У Исаака есть правила, – быстро проинформировала Тият, когда тот остановился в нескольких шагах от них, выше по склону. – Не перебивайте его.
Исаак даже не взглянул на пришельцев. Казалось, он рассматривал что-то, находившееся слева от Эмилио.
– Исаак, – неуверенно начал Эмилио, мы собираемся встретиться с твоей матерью…
– Я не вернусь, – произнес Исаак громким невыразительным голосом. – Вы знаете какие-нибудь песни?
Сбитый с толку, Эмилио не нашелся, что сказать, но Нико ответил просто:
– Я знаю много песен.
– Спой одну.
Даже Нико это застало врасплох, но, приняв во внимание ситуацию, он запел «О miobambino саго»[41]41
«О, мой милый мальчик» (ит.).
[Закрыть] Пуччини – с переливчатыми верхними нотами, исполняемыми мелодичным фальцетом; а когда Исаак велел спеть еще раз, охотно повторил песню. На несколько минут в мире не стало иных звуков, кроме двух голосов: схожие природные теноры – безыскусно красивые, слившиеся в тесной гармонии. Сияя, Нико объявил, что теперь споет «Questa о quella»,[42]42
«Эта или та» (ит.).
[Закрыть] но Исаак сказал: «Достаточно», – и, развернувшись, зашагал прочь.
Совершенно никакой просодии, отметил Эмилио, вспомнив симптомы, которые изучал много лет назад на курсе эволюционной лингвистики. Ван'джарри упоминали о странностях Исаака, но до сих пор он не понимал, что странности эти вызваны чем-то большим, нежели изоляция.
– Исаак, – окликнул Эмилио, прежде чем тот успел уйти, высоко, точная болотная птица, вскидывая колени, чтобы переступать через камни с острыми краями, – Ты ничего не хочешь передать своей матери?
Исаак остановился, однако к нему не повернулся.
– Я не вернусь, – повторил он.
– Она может прийти сюда.
Наступила пауза.
– Достаточно, – повторил Исаак и исчез за выступом скалы.
– Она уже идет сюда, – пробормотала Каджпин.
– От катера слишком много шума и вони, – заметила Тият, возвращаясь к теме, прерванной появлением Исаака. – Самую трудную часть пути мы преодолеем к завтрашнему третьему закату, – пообещала она.
Сразу за грядой Гарну местность выровнялась, вздымаясь и опускаясь не больше, чем на высоту роста рунао. Чем дальше они уходили, тем темнее делались сапфировые холмы, постепенно приближаясь к цвету индиго; из-за пурпурных цветов, вспыхивающих в солнечном свете, земля вокруг будто полыхала огнем, и Эмилио порадовался тому, что они не воспользовались катером. Продолжительная ходьба всегда его успокаивала, заостряя внимание на жжении в мышцах, на столкновении подошв с грунтом. Он не пытался предугадать доводы Софии или собственные. Все будет хорошо, думал Эмилио час за часом, шаг за шагом, словно пилигрим, идущий в Иерусалим. Снова и снова: «Все будет хорошо». Он не верил в это; просто слова Ха'аналы звучали в такт его поступи.
По пути руна паслись прямо на ходу, а лагерь разбивали на открытых местах, не страшась обнаружения.
– Если нас арестуют, то в любом случае заберут в армию, – с безмятежной практичностью пояснила Каджпин. – Так что, какая разница?
Днем Эмилио еще как-то мог подчиняться этому фатализму, однако ночи были скверными; он блуждал по обугленным пустым городам, являвшимся ему в снах, или расхаживал в наполненной звуками темноте, ожидая рассвета. Наконец поднимались остальные, и они завтракали тем, что осталось от предыдущего вечера. Пару раз Нико подстреливал какую-то мелкую дичь, но большую часть мяса пришлось выбросить. Эмилио ел очень мало – обычная его реакция на стресс. Беспокойно расхаживая, пока не возобновлялось их путешествие, он забывался в безмолвном напеве: «Все будет хорошо».
На восьмой день они увидели вблизи горизонта блеск снаряжения, вспыхивавшего на солнце. К вечеру, когда холмистая местность вознесла армию повыше, смогли различить темную массу в основании пыльного облака.
– Мы будем там завтра, – сказала Тият, но затем глянула на запад и добавила: – Если раньше не начнется дождь.
В ту ночь все спали плохо, а когда проснулись, вокруг было душно и туманно. Оставив спутников завтракать, Эмилио взошел на небольшое возвышение и вгляделся в армейский лагерь. Первое солнце только начало взбираться на небосклон, но уже сейчас пейзаж дрожал и расплывался из-за жары, и Эмилио успел взмокнуть. «К черту», – подумал он и, повернувшись к своим товарищам, крикнул: – Подождем тут.
– Хорошая мысль, – сказала Каджпин. – Пусть сами идут к нам!
Утро они провели на вершине маленького холма; Нико и руна ели и болтали, точно участники пикника в ожидании парада. Но когда армия надвинулась, подавляя численностью, они; как и Сандос, впали в молчание, напрягая слух. Трудно сказать, вправду они слышали или только воображали топот ног, клацание металла, протяжные команды и замечания из рядов; грозовые тучи уже спрятали западный горизонт за колоннами черного дождя, а ветер уносил прочь все звуки, кроме самых ближних.
– Похоже, гроза будет сильной, – с тревогой сказала Тият, подперев себя хвостом против крепчающего ветра. Молнии на западе сверкали почти непрерывно, озаряя тучи.
Каджпин тоже встала.
– Дождь накроет всех, – сказала она беззаботно, но затем добавила более зловещую фразу: – А молния ударит лишь в некоторых.
Спустившись по склону холмика к небольшой впадине, она вновь села и, спокойно озирая ряды солдат, весело заметила:
– Хорошо, что я не ношу доспехи.
– Когда начнется гроза? – спросил Нико.
Посмотрев на запад, Эмилио пожал плечами:
– Через час. Может, раньше.
– Вы не хотите, чтобы я пошел к ним и позвал синьору Софию?
– Нет, Нико. Спасибо. Пожалуйста, подожди здесь.
Подойдя к Тият и Каджпин, он повторил:
– Ждите здесь.
Затем, не оглядываясь, неспешно зашагал вниз по дороге. Одолев половину дистанции, он остановился: маленькая фигура с плоской спиной и серебряно-черными волосами, раздуваемыми ветром.
К этому моменту авангард остановился, а вскоре шеренги раздвинулись, пропуская одноместные крытые носилки, доставленные с бивуака четырьмя руна.
Эмилио попытался подготовить себя к виду Софии, к звуку ее голоса, но сдался и просто смотрел, как носильщики осторожно опускают паланкин. Сноровисто и быстро они развернули вокруг носилок палатку, похожую на веранду, – с водонепроницаемой оранжевой тканью, сияющей в лучах солнца» находившегося к востоку от приближающейся грозы. Затем из тележки с оборудованием извлекли искусно сконструированное складное кресло, расправили его и установили перед носилками. В заключение откинули лестницу, прикрепленную на петлях к основанию паланкина, и Эмилио увидел крохотную кисть, раздвинувшую занавески и опершуюся на руку, предложенную, чтобы помочь Софии спуститься по ступеням.
Эмилио ожидал увидеть Софию изменившейся, но по-прежнему красивой; он не был разочарован. Распоровшие лицо шрамы и пустая глазница стали для него шоком, но резкий свет ракхатовских солнц покрыл лицо Софии столь тонкими морщинами, что оно казалось сделанным из марли; рубцы были сейчас лишь тремя линиями, затерявшимися среди многих, а уцелевший глаз смотрел живо и внимательно, постоянно озирая окрестности, будто старался компенсировать уменьшившийся наполовину угол обзора. Даже дуга ее позвоночника показалась Эмилио грациозной: София словно вглядывалась во что-то, привлекшее ее внимание на пути к креслу. Усевшись, она вскинула взгляд и в ожидании Сандоса почти застенчиво наклонила голову. Хрупкая, как воробышек, с маленькими тонкими кистями, сложенными на коленях; в ее неподвижности ощущалась некая скелетная чистота: изящная, бесплотная, покойная.
«Ты прекрасна, – подумал Эмилио, – притягательна, как Иерусалим, и ужасна, как армия со стягами…»
– София, – сказал он, протягивая к ней руки.
Она не шелохнулась.
– Столько времени прошло, – холодно заметила София, когда он приблизился. – Ты мог бы сперва наведаться ко мне.
Своим единственным глазом она удерживала его взгляд, пока Эмилио не опустил глаза.
– Ты видел Исаака? – спросила София, когда он смог снова на нее посмотреть.
– Да, – сказал Эмилио.
Она слегка напряглась, коротко вздохнув, и он понял, что София полагала, будто ее сын давно мертв, а его именем бездушно пользуются, пытаясь завлечь в цитадель джанада побольше заложников.
– Исаак здоров, – начал Эмилио.
– Здоров! – Она издала короткий смех. – Не нормален, но, по крайней мере, здоров. Он с тобой?
– Нет…
– Его все еще держат заложником.
– Нет, София, ничего подобного! Среди них он – почитаемая особа…
– Тогда почему он не здесь, не с тобой? – Эмилио помедлил, не желая ее ранить. – Он… Исаак предпочитает оставаться там, где он сейчас. Он пригласил тебя к себе. – Эмилио замолчал, глядя мимо нее на войска, видневшиеся позади золотистой палатки. – Мы можем отвести тебя к нему, но ты должна прийти одна.
– В этом и состоит игра? – спросила София, хладнокровно улыбаясь. – Исаак – приманка, и они меня схватят.
– София, пожалуйста! – взмолился он. – Эти джана'ата не… София, ты все поняла неверно!
– Я поняла неверно, – тихо повторила она. – Я поняла неверно… Сандос, ты пробыл здесь – сколько? Несколько недель? – спросила София, весело вскинув брови, одну из которых искривила рубцовая ткань, – И сейчас ты говоришь мне, что я поняла неверно. Погоди! В английском языке есть для этого слово… дай подумать… – Не мигая, она смотрела на него. – Нахальство. Да. Именно это слово. Я почти забыла его. Ты вернулся через сорок лет, и тебе хватило неполных три недели, чтобы узнать здешнюю ситуацию, и теперь ты собираешься объяснять мне Ракхат.
Он не поддался ее натиску.
– Не Ракхат. Лишь одно маленькое поселение джана'ата, пытающихся не умереть от голода. София, ты сознаешь, что джана'ата на грани вымирания? Конечно, ты не собираешься…
– Это они тебе сказали? – спросила она. Затем насмешливо фыркнула. – И ты поверил.
– Черт возьми, София, не держи меня за идиота! Я способен распознать голодание…
– А если они и голодают, что с того? – огрызнулась она. – Я должна сожалеть, что каннибалам нечего есть?
– О, ради бога, София, они не каннибалы!
– А как ты это называешь? – спросила она. – Они едят руна…
– София, послушай меня…
– Нет, это ты послушай меня, Сандос, – прошипела она. – Почти тридцать лет мы-но-не-ты сражались с врагами, вся цивилизация которых была ярчайшим проявлением наиболее характерной формы зла: желания уничтожить человечность других и превратить их в предмет потребления. При жизни руна служили для джанада удобствами: рабами, помощниками, сексуальными игрушками. После смерти – сырьем: мясом, шкурами, костями. Сперва работники, а под конец – скот! Но руна больше чем мясо, Сандос. Они – люди, которые заслужили свою свободу, вырвав ее из рук тех, кто держал их в неволе, поколение за поколением. Бог желал их свободы. Я помогала им получить ее и не жалею ни о чем. Мы воздали джана'ата по заслугам. Они пожинают то, что посеяли.
– Выходит, Бог хочет, чтобы они вымерли? – воскликнул Эмилио. – Он хочет, чтобы руна превратили планету в бакалейный магазин? Богу угодно место, где никто не поет, где все одинаковы, где существует лишь один разумный вид? София, лозунг «око за око» давно устарел…
Раздавшийся звук был похож на выстрел, и он ощутил, как на его лице проступает точный контур её ладони, жгучий и четкий.
– Как ты смеешь, – прошептала она. – Как смеешь, бросив меня тут и вернувшись теперь – спустя столько времени – как ты осмеливаешься меня судить?
Отвернувшись, Эмилио стоял неподвижно, ожидая, пока боль стихнет, и расширив глаза, чтобы удержать слезы. Пытался представить себе сорок лет в одиночестве я без всякой поддержки: без Джона и Джины, без Винса Джулиани, Эдварда Вера и всех других, кто ему помогал.
– Прости! – произнес он наконец. – Прости! Я не знаю, что здесь происходило, и не претендую понять, через что ты прошла…
– Спасибо. Рада это слышать…
– Но, София, я знаю, что это такое: быть предметом потребления, – сказал Эмилио, перебивая ее – и знаю, что это такое: быть уничтоженным. Я также знаю, что значит быть несправедливо обвиненным, и – Боже, помоги мне – я знаю, что значит быть виновным…
Он замолчал, отвернувшись, но затем посмотрел ей в глаза и сказал:
– София, я ел плоть руна, причем по той же причине, что и джанада: потому что был голоден и хотел жить. И я убил – я убил Аскаму, София. Я не желал ее смерти, но я хотел убить, я хотел, чтобы кто-то умер и я смог бы освободиться – Так или иначе. Так что, как видишь, – сказал Эмилио с бледной улыбкой, – я последний человек, который вправе судить других! И я допускаю, что джана'ата, с которыми ты сражалась, заслуживали того, что на них свалилось! Но, София ты не можешь позволить руна убить их всех! Они заплатили за свои грехи…
– Заплатили за свои грехи! – Не веря ушам, София встала и прошла несколько шагов, согнувшись и хромая из-за скрюченного позвоночника.
– Они исповедались тебе, святой отец? И ты их простил, просто потому, что они об этом попросили? – спросила она; презрительно скривив губы. – Но некоторые грехи не могут быть отпущены! Некоторые вещи непростительны…
– Думаешь, я этого не знаю? – заорал он, отвечая гневом на гнев. – Мне больше никто не исповедуется! Я больше не священник, София. И прилетел сюда вовсе не затем, чтобы тебя судить. И даже не затем, чтобы тебя спасти! Я прилетел потому, что был избит до бесчувствия и похищен людьми Карло Джулиани. Изрядную часть полета я провел, находясь под действием наркотика, а все, чего хочу прямо сейчас, это улететь обратно, дабы выяснить, жива ли еще женщина, на которой я едва не женился семнадцать лет назад…
София уставилась на него, но теперь Эмилио не опустил взгляд.
– Ты сказала, будто знаешь, что случилось со мной в Галатне, но, София, ты не знаешь худшего: я оставил священство, ибо не могу простить того, что со мной там случилось. Я не могу простить Супаари, который сделал мне вот это, – сказал он, вскинув кисти. – Не могу простить Хлавина Китери и сомневаюсь, что когда-либо смогу. Они научили меня ненавидеть, София. Ирония судьбы, не правда ли? Мы услышали песни Китери и рискнули всем, чтобы сюда прилететь, приготовившись любить тех, кого встретим, и учиться у них! Но когда Хлавин Китери встретил одного из нас… Он посмотрел на меня, и все, что он подумал…
Эмилио отвернулся от нее, задыхаясь, но затем вновь повернулся к Софии и, выдерживая ее нелегкий взгляд, произнес тихим от гнева голосом:
– Он посмотрел на меня и подумал: «Как мило! Такого у меня еще не было».
– Это в прошлом, – отрезала София, побледнев.
Но он знал, что это не так, даже для нее, даже после всех этих лет.
– Ты трудишься, – сказала она. – Концентрируешься на досягаемой цели…
– Да, – согласился Эмилио с готовностью, сразу. – И считаешь одиночество добродетелью. Называешь его самодостаточностью, верно? Говоришь себе, что тебе ничего не нужно, что больше никогда не захочешь впустить кого-либо в свою жизнь…
– Отгородись от этого!
– Думаешь, я не пытался? – воскликнул он. – София, я складывал камни снова и снова, но в этой стене их больше ничто не скрепляло! Даже гнев. Даже ненависть. Я измучен ненавистью, София. Я устал от нее!
Гроза надвинулась вплотную, а молнии сверкали пугающе близко, но Эмилио было на это плевать.
– Я ненавидел Супаари ВаГайджура, Хлавина Китери и шестнадцать его друзей, но… похоже, я не могу ненавидеть в совокупности, – прошептал он, бессильно уронив руки. – Этот единственный островок чистоты во мне все еще живет, София. Сколько бы я ни злобствовал на отцов, я не могу ненавидеть их детей. И тебе тоже не следует, София. Ты не можешь ради справедливости убивать невинных.
– Нет, – бросила она, снова уходя в себя. – Там нет невинных.
– Если я найду десятерых, ты ради них пощадишь остальных?
– Не морочь мне голову, – сказала София, делая жест носильщикам.
Сделав шаг, Эмилио встал между ней и креслом.
– Несколько дней назад я помог родиться малышу джана'ата, – сообщил он, преграждая ей путь. – Кесарево сечение. Я сделал, что смог. Мать умерла. Я хочу, чтобы ее малыш жил, София. В эти дни так чертовски мало того, в чем я уверен, но вот это я знаю точно: я хочу, чтобы ее малыш жил.
– Прочь с дороги, – прошептала она, – или я позову охрану.
Эмилио не двинулся с места.
– Сказать тебе, как зовут старшую сестру этого малыша? – спросил он весело. – Софи'ала. Прелестное имя.
Он следил за ее реакцией и, увидев, как ее голова дернулась, точно от удара, безжалостно продолжал:
– Мать младенца звали Ха'аналой. Ее последние слова были о тебе. Она сказала: «Отведите детей к моей матери»; Она хотела, чтобы мы отправили их в Гайджур! Нечто вроде крестового похода детей. Я этого не сделал. Не исполнил ее последнего желания, София, потому что побоялся ответственности за жизнь еще каких-нибудь детей. Но она была права: эти дети никогда никого не убивали и не обращали в рабство. Они невинны совершенно так же, как дети вакашани, которых резали на наших глазах.
Дождь начался: тяжелые капли, теплые, точно слезы, – а ветер шумно хлестал по ткани палатки, почти заглушая его слова.
– София, я буду гарантом этих детей и их родителей. Пожалуйста. Позволь жить им и всему хорошему, что они делают: музыке, поэзии, порядочности, на которую они способны… Это сделает тебе честь, – сказал Эмилио уже в отчаянии, принимая ее молчание за отказ. – Если они снова убьют, я стану козлом отпущения. Все грехи на мне. Я останусь здесь, и если они снова убьют, тогда казните меня и дайте им еще один шанс.
– Ха'анала мертва? – Эмилио кивнул, стыдясь плакать тогда, когда следовало бы горевать Софии.
– Ты хорошо ее учила, София, – сказал он срывающимся голосом. – По всем отзывам, она была замечательной женщиной. Ха'анала основала в горах нечто вроде утопической общины. Она была обречена – как и все утопии. Но Ха'анала пыталась! Все три наших вида жили там вместе, София: руна, джана'ата, даже Исаак. Ха'анала их учила, что каждая душа – это маленькое отражение Бога и что убивать грешно, потому что, когда отбирается жизнь, мы теряем уникальное откровение божественной природы.
Эмилио снова замолчал, едва способный произносить слова.
– София, один из священников, с которыми я прилетел, он считает, что твоя приемная дочь – нечто вроде Моисея для своего народа! Потребовалось сорок лет, чтобы выжечь из израильтян рабство. Что ж, возможно, джана'ата нуждаются в сорока годах, чтобы выжечь из себя господство!
Отвечая на ее потрясенный взгляд, он беспомощно пожал плечами:
– Я не знаю, София. Может быть, Шон несет чушь. Возможно, Авраам был психом, а вся его семья старадала шизофренией. Может, Иисус был просто еще одним сумасшедшим евреем, слышавшим голоса. А может, Бог существует, но он злой или глупый, и поэтому столь многое кажется безумным и несправедливым! Это неважно, – крикнул Эмилио, стараясь, чтоб его было слышно сквозь гул дождя. – Это действительно не имеет значения. Мне теперь начхать на Бога, София. Все, что я знаю наверняка: я хочу, чтобы малыш Ха'аналы жил…
София вышла в дождь, чей нестихающий шум заглушал все иные звуки. Долгое время она стояла под ливнем, слушая его шипящий грохот, ощущая, как он колотит по ее плечам, пробивается сквозь волосы, стекает по морщинистому лицу.
Эмилио молча ждал, пока София вернется из тех далей, куда ее занесла память. Промокшая и озябшая, она медленно прошла к своим носилкам и, опираясь на его руку, взошла к креслу и села.
Начальное неистовство грозы прошло, дождь теперь выстукивал ровную дробь, и какое-то время они просто смотрели на ландшафт, заливаемый водой. Затем София коснулась плеча Эмилио, и он повернулся к ней. Потянувшись, она осторожно положила ладонь на отпечаток, который оставила несколько минут назад, затем приподняла локон его волос.
– Ты поседел, старик, – сказала София. – Ты выглядишь даже хуже меня, а я выгляжу ужасно.
Его ответ прозвучал чопорно, но покрасневшие глаза улыбались.
– Тщеславие не числится среди моих недостатков, но будь я проклят, мадам, если буду стоять тут и сносить оскорбления.
Однако не сдвинулся с места.
– Когда-то я тебя любила, – сказала она.
– Я знаю. Я тоже тебя любил. Не уходи от темы.
– Ты собирался жениться?
– Да. Я оставил священство, София. Я порвал с Богом.
– Но Он с тобой не порвал.
– Очевидно, нет, – устало согласился Эмилио. – Или меня преследует полоса невезения космического масштаба. – Он подошел к краю тента, чтобы смотреть на дождь. – Знаешь, я даже сейчас думаю: может, все это – дурная шутка? Этот младенец, о котором я так беспокоюсь? Возможно, он вырастет в злобного ублюдка, и все будут жалеть, что он не умер во чреве матери, а я войду в историю Ракхата как Сандос-Дурак, который спас ему жизнь! – Безвольно свесив кисти, заключенные в скрепы; он фыркнул, потешаясь над своим смехотворным могуществом. – А может, он станет лишь еще одним несчастным клоуном, делающим все, что в его силах, и старающимся пореже ошибаться.
И вдруг его осанка изменилась. Каким-то образом он стал выше, стройнее, и София Мендес еще раз услышала гнусавый техасский выговор незабвенного Д. У. Ярбро, давно умершего священника, который научил их обоих столь многому.
– Миз Мендес, – растягивая слова, произнес Эмилио, побежденный, но не утративший чувства юмора, – вся эта чертова штуковина измотала меня насмерть.
* * *
Наговорившись, Эмилио сел на землю рядом с Софией, и они вместе смотрели, как ливень превращает этот мир в грязь. Вскоре София поняла, что он уснул, привалившись к опорам ее носилок и уронив искалеченные кисти на колени. Не думая ни о чем, она прислушивалась к его посапыванию и, возможно, сама бы заснула, если бы ее не потревожил огромный и промокший молодой мужчина, сжимавший в руке матерчатую шляпу, – ему пришлось согнуться, чтобы заглянуть под навес.
– Синьора? Теперь все будет хорошо? – озабоченно спросил он.
– А ты кто? – откликнулась София очень тихо, со значением посмотрев на Эмилио.
– Мое имя – Никколо д'Анджели. «Д'Анджели» означает: от ангелов, – прошептал юный гигант. – Я был у них до того, как очутился дома. Меня принесли ангелы.
Она улыбнулась, и Нико решил, что это хороший знак.
– Значит, все будет хорошо? – снова спросил он, вступая в палатку. – Джана-люди смогут жить там, наверху, если никому не станут докучать, верно?
София не ответила, поэтому он сказал:
– По-моему, так будет справедливо… А с доном Эмилио все в порядке? Почему он так сидит?
– Он спит. Должно быть, очень устал.
– Ему снятся кошмары. Он боится спать.
– Ты его друг?
– Я – его телохранитель. По-моему, все его друзья мертвы. – С минуту Нико размышлял над этим с невеселым видом, затем его лицо просветлело.
– Но вы его друг, и вы живы.
– Пока да, – подтвердила София.
Стоя у края палатки, Нико следил за игрой молний.
– Мне нравятся здешние грозы, – произнес он. – Они напоминают последний акт «Риголетто».
«Слабоумный», – подумала София. И поэтому промолчала.
– Мы нашли вашего сына, синьора, – сказал Нико, снова поворачиваясь к ней. – Он хочет, чтоб вы его навестили, но, по-моему, ему сперва нужно одеться… Я сказал что-то не то?
София вытерла свой единственный глаз.
– Нет. – Затем, улыбнувшись, доверительно сообщила: – Исаак никогда не любил одежду.
– Он любит песни, – доложил Нико.
– Да. Да, действительно. Исаак всегда любил музыку. Она села настолько прямо, насколько позволяло скрюченное тело.
– Синьор д'Анджели, мой сын здоров?
– Он тощий, но там, наверху, они все такие, – сказал Нико, оживляясь, – Там была леди, которая умерла при родах перед тем, как мы ушли. Джозеба считает, что она была слишком худой и поэтому умерла – потому что не была достаточно сильной. Мы привезли еду, но многие были так голодны, что их вырвало из-за того, что ели слишком быстро.
Он увидел в лице синьоры страдание, но не знал, как это истолковать. Вращая за ободок шляпу, он сдвинул свой немалый вес с одной ноги на другую и слегка зажмурился.
– Что мы будем делать теперь? – спросил он, помолчав.
София ответила не сразу.
– Я не знаю, – сказала она честно. – Мне нужно время, чтобы подумать.
* * *
Спустя несколько часов, очнувшись в непривычно комфортной постели, Эмилио Сандос было вообразил, что он вновь в Неаполе. «Все в порядке, Эд, – уже хотел сказать Он. – Иди спать». Затем, окончательно проснувшись, увидел, что это не брат Эдвард Бер, а София Мендес, которая провела ночь без сна, наблюдая за ним.
– Я поговорила с твоими коллегами, находящимися в долине Н’Джарр, – бесстрастно сообщила София, – и с женщиной по имени Суукмел.
Она помолчала с безучастным лицом.
– Эмилио, я тут не правлю – что бы ни говорили тебе твои друзья-джанада. Но я пользуюсь некоторым влиянием. И сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить делегации ван'джарри неприкосновенность и организовать ее переговоры с Парламентом старейшин. Это потребует времени и будет нелегко – даже просто добиться слушания. Старейшины помнят прежние времена. Там есть женщина, которую зовут Джалао ВаКашан, – ее будет трудно убедить. Но я скажу им, что ты и эти священники – хорошие люди с добрыми сердцами. Большего обещать не могу.
Эмилио сел, застонав от боли в суставах, однако сказал:
– Спасибо.
Дождь кончился, и сквозь тент пробивался солнечный свет.
– А ты, София? Что ты будешь делать?
– Делать? – спросила она.
И прежде чем ответить, отвернулась, чтобы подумать об ухоженных городах, об оживленной политике и процветающей торговле; о фестивалях и празднествах; о радостном предвкушении нового и неопробованного. Она думала о расцвете театра и бурном прогрессе технологий, об энергии творчества, прорвавшейся, когда от жизней руна убралась удушающая рука джанады. Она думала о рунских старейшинах, которые жили теперь достаточно долго, чтобы к своему опыту добавить подлинную мудрость, и о детях с врожденными дефектами, которым позволили жить и которые принесли своему народу неожиданные дары.
Конечно, за это приходилось платить. Были те, кто преуспевал в новом мире – освобожденном в полном смысле слова, – и те, кто растерялся, не сумев приспособиться. Болезни, немощь, неудачи, разногласия; бедность, вытеснения с прежних мест, смятение – все это стало теперь частью рунской жизни. Но то, чего они уже достигли, изумляло, и кто знает, на что они способны еще? Это покажет время.
А на другой чаше весов – крошечные загнутые коготки и аместистовые глаза, моргающие на солнце…
В память о Джимми София читала Йетса, и сейчас ей вспомнился Пенсионер: «Я времени плюю в лицо за то, что стал другим».[43]43
Перевод В. Савина.
[Закрыть]
– Делать? – снова спросила она. – Я старуха, Сандос. Свою жизнь я провела среди руна – среди них и останусь.
София стояла на фоне света, повернувшись к нему в профиль, своей слепой стороной, и долго молчала.
– Я ни о чем не жалею, – сказала она наконец, – но свою роль я уже сыграла.








