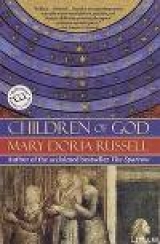
Текст книги "Дети Бога"
Автор книги: Мэри Дория Расселл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Шетри в нерешительности помедлил, желая задать вопрос, не дававший ему покоя.
– Как это возможно, что Исаак знает всю эпическую поэму, услышав ее лишь раз? Кое-кто заучивал это несколько лет… – В смущении Шетри отвел взгляд. – Он что, специалист по запоминанию или такой подвиг – обычное дело для народа вашей… матери?
– Наша мать говорит, что рассудок Исаака устроен иначе, чем у кого бы то ни было. Даже если б Исаак находился среди своего народа, он оставался бы исключительным.
– Генетическая причуда, – предположил Шетри, но девушка не поняла. Она заучила вечерние песнопения, но почти не знала современного к'сана, а Шетри не мог вспомнить синонимичное выражение на руандже.
Умолкнув, он направил свое внимание на окружавшие их низкие заросли, подмечая травы, произраставшие тут, и, наклонившись, срезал стебель лихорадочника, вдохнув его аромат. Шетри был рад поводу отвлечься, а еще больше радовался тому, что эта девушка не презирает мужчину, которому интересны растения.
Пока Та'ана не предложила жениться, Шетри и не думал о том, чтобы обзавестись супругой, – даже после того, как услышал про смерть Нра'ила и его наследников. Он знал, что Ха'анала совсем юная, но и себя Шетри чувствовал так, будто недавно родился, и гадал, поговорила ли уже Та'ана с девушкой. Шетри понятия не имел, как устраиваются такие дела, – он был третьим и никак не ожидал, что эта проблема его затронет.
– Ха'анала. Какое странное имя, – сказал Шетри.
– Кое-кого назвали в честь особы, которой восхищался ее отец.
Ему показалось, что Ха'анала не открывает, но и не скрывает, кто она такая. Возможно, девушка считала это очевидным – в самом деле, для Та'аны так и было. А может, Ха'анала сама сказала Шетри об этом, но он не понял ее руанджу и пропустил какую-нибудь тонкость. Ее душа напоминала ему цветное стекло: просвечивающая, но не прозрачная.
Шетри смутился, поймав себя на том, что снова на нее пялится; Ха'анала не соглашалась надеть платье, не говоря уже про вуаль, а ее запах опьянял. Обернувшись, Шетри посмотрел на лагерь, видневшийся вдалеке, – выстроенный на скорую руку, замызганный ночным дождем. Очень скоро ему придется просить сестру выбирать между наготой и голодом. Наименее ценной рунао ныне была служанка; учитывая, что Та'ана отказалась от вуали, Шетри подозревал, что пришло время одевальщицы.
– Мы должны идти дальше, в Инброкар. Та'ана опасается, что, если в городе уже укрылось слишком много народа, нас туда не пустят, – сказал он Ха'анале, когда они возобновили прогулку. – Что ты будешь делать, когда раны Исаака заживут?
Она не ответила на вопрос впрямую.
– Это неправильно: поедать руна, – сказала Ха'анала. Остановившись, она посмотрела ему в глаза. – Сипадж, Шетри, если б не это, мы бы остались с тобой.
Ему пришлось прокрутить ее слова в своем сознании еще раз, чтобы увериться: она применила форму обращения, которая подразумевала его персонально, а не как члена семейства его сестры.
До встречи с Ха'аналой Шетри редко говорил с женщинами не из своей семьи, но значение запаха Ха'аналы не оставляло сомнений, а ее глаза напоминали цветом аметист, и она глядела на него с бесстрашием рунской куртизанки – как он это себе представлял.
– Кое-кто…
Его голос оборвался. Вспомнив, что он регент, и решив проявить благородство, Шетри начал снова:
– Племянник кое-кого, Атаанси…
– Не представляет интереса, – решительно заключила Ха'анала. – Твоя сестра найдет ему другую жену. Возможно, двух.
Шетри отшатнулся, шокированный.
– Сипадж, Шетри, скоро все изменится. Больше не станут разбрасываться «производителями», – сказала она, употребив термин к'сана, который узнала от Та'аны.
Ха'анала долго размышляла над тем, как она должна поступить. На одной чаше весов были любовь и признательность к Софии, а также желание смягчить неизбежную грусть. На другой – потребность в убежище, в выживании на ее собственных условиях. Ха'анала не могла и не хотела идти против руна, которых любила и понимала; но она также не могла пассивно смотреть на истребление своего народа. Решение пришло, когда она наблюдала, как Та'ана и ее горничная, действуя согласованно, с практичной паритетностью, организуют маленький отряд беженцев для следующего перехода.
«Люди сами выберут из нашего числа, – подумала Ха'анала. – И мы, те джанада, которых выберут, – начнем заново».
Взращенная руна, Ха'анала вовсе не хотела нагонять на мужчину страх, однако она подтвердила худшие опасения Та'аны, связанные с этой войной. И больше никаких разговоров об Исааке как заложнике – он должен получить полный статус приемного брата.
– Сипадж, Шетри, – сказала Ха'анала затем, – кое-кто обсудил с Та'аной этот вопрос, и мы-но-не-ты пришли к соглашению. Исаак хочет остаться с людьми, которые поют, а кое-кто желает тебя в мужья. Твоя сестра согласна.
Она смотрела на Шетри, пока тот не опустил глаза; его начало трясти, и самой Ха'анале едва ли меньше его хотелось заполнить пустоту, которую она никогда прежде не ощущала физически.
– Не хватает лишь твоего согласия, – произнесла Ха'анала не таким ровным голосом, как ей, возможно, хотелось.
Все, что Шетри мог сделать, – это упорядочить свои мысли на к'сане; а когда был готов, насколько получилось, то перевел их для нее на руанджу.
– Кое-кто, – тихо заговорил он на языке, плохо годившемся для его гортани и этой задачи, – не имеет опыта. Кое-кто всю свою жизнь изучал эпические поэмы Сти. В десяти днях пути на юг есть… было маленькое поместье, но сейчас, по словам сестры, там ничего нет. Все сгорело. Кое-кто не может обещать ничего – даже еду… чтобы…
Знакомая с потребностью Исаака в тишине, в которой можно думать, Ха'анала ждала, пока Шетри найдет слова. Спустя некоторое время она сказала:
– По-моему, изучению поэзии стоит посвятить жизнь. Затем Ха'анала, отвернувшись, посмотрела на юг, в сторону обширных плоских равнин, и вспомнила обо всем, что произошло с тех пор, как они покинули Труча Саи. Она вновь подумала о тех людях и о том, как сильно их любит; о засасывающей их привязанности и нескончаемой опеке; об их прекрасной и ужасной потребности дотрагиваться, говорить, охранять, заботиться. Она закрыла глаза, спрашивая себя, чего хочет.
Этого, подумала Ха'анала. Я хочу жить среди людей, которые поют и которые ведут себя достаточно тихо, чтобы позволять Исааку думать. Я хочу быть с этим застенчивым, неловким мужчиной, который добр к Исааку и который будет хорошим отцом. Я хочу быть связанной с кем-то. Я хочу ощущать, что нахожусь в центре чего-то, а не на краю. Я хочу детей и внуков. Я не хочу состариться и умереть, зная, что после моей смерти не останется никого, кто на меня похож.
– Я не вернусь, – услышал Шетри ее слова на языке, которого не знал.
Ха'анала вновь заговорила, и на сей раз он понял:
– Отец кое-кого однажды сказал, что лучше умереть, нежели жить неправильно. Я говорю: лучше жить правильно.
Шетри опять озадачило смешение языков, требовавшихся ей, чтобы над этим думать. Поэтому она сказала:
– Кое-кто может кормить себя и своего брата. И тебя, пока ты не научишься.
Он знал, что это правда. Ха'анала уже приносила в лагерь дичь; зажаренная, она было жесткой и жилистой, но остававшиеся с джана'ата слуги были уверены, что смогут сделать это мясо вкусным, если у них будет время научиться его готовить.
– Кое-кто требует обещания: ты больше не будешь есть плоть руна.
Отчего-то это показалось ему делом пустячным и разумным, даже целесообразным: отбросить самую основу цивилизации джана'ата, – просто потому, что его просит эта удивительная девушка.
– Как пожелаешь, – произнес Шетри, гадая, не является ли и этот разговор некоей наркотической иллюзией, и вдруг понял, что причина не в силе ингалянтов Сти, а в ее аромате, в ее близости…
Ему не следовало удивляться. Если Ха'анала была той, за кого ее принимала его сестра, то она росла вместе с руна и спаривание не было для нее тайной. Но даже так, в то утро, под бескрайним небом, с тремя солнцами в качестве свидетелей и без свадебных гостей, если не считать ветра и трав, Шетри Лаакс обнаружил, что ему вновь требуется переоценить свою способность удивляться.
– Сипадж, Шетри: идти в Инброкар рискованно, – сказала Ха'анала спустя некоторое время – когда решила, что он снова способен слышать. – Мы-и-ты-тоже должны идти за горы Гаму. Та'ана согласна. На севере есть места, где не будет опасно.
Онемевший, загнанный, опустошенный – если бы она велела возвести резиденцию на солнце, Шетри вскарабкался бы ради нее сквозь облака и упал бы в огонь.
– Знаешь, кто мы? – спросила Ха'анала. – Эта кое-кто и ее брат?
– Да, – сказал Шетри.
Девушка отстранилась, отчего он ощутил озноб, и посмотрела ему в лицо.
– Я – учитель, – сказала она. – А мой брат – посланник. Шетри понял несколько больше, чем это руанжское слово: «посланник».
– И каково же его послание? – спросил он, видя то, что должен был видеть.
– Уходите, – ответила Ха'анала. – И живите.
– Мы должны сообщить нашей матери, – сказала она в тот день Исааку. – Кое-кому нужен блокнот.
Исаак вскинул голову: разрешил.
Через «Магеллан» они могли перехватить любую радиопередачу на Ракхате и засечь все ее ресурсы, но собственное их местонахождение нельзя было определить. Системы «Магеллана» запишут только, что сигналы с их блокнота были переданы через один из спутниковых ретрансляторов, расположенных над континентом. София будет знать лишь это: они все еще на континенте.
Ха'анала сидела долго – думая, пытаясь найти слова, чтобы сказать Софии, что есть хорошие и порядочные джана'ата, что справедливость можно уничтожить местью. Но она знала, как руна относятся к тем, кто сотрудничает с джанада; независимо от нюансов ее слова будут поняты как предательство.
Чувствуя, как сжимает горло, Ха'анала подключилась к «Магеллану». Громадность ее решения делала невозможной устную речь; одним когтем Ха'анала настучала короткое послание.
«София, дорогая моя мама, – написала она, – мы покинули сад».
29
«Джордано Бруно»
2070–2073, земное время
– Не вижу здесь проблемы, – сказал Шон Фейн, накладывая себе тушеное мясо из горшка, стоявшего в центре стола. – Пусти через динамики. Прибавь громкость. Разве наш коротышка не может позволить себе маленький отпуск?
– Тут нужно не просто слушать песни. Это потребует изучения и анализа, – настаивал Дэнни Железный Конь. – Половина тамошних слов для меня загадка, но то, что я понял, это… Слушай, я сделал с ними все, что мог. Сандос должен помочь.
– Я как-то ему сказал, что ракхатская музыка изменилась после того, как он там побывал. Его это не заинтересовало, – сообщил Джозеба, подходя к столу со своей тарелкой. – Он не был расположен слушать эти песни даже до нашего отлета.
– Когда пел Хлавин Китери, – указал Джон, задумчиво пережевывая. – Или один из тех, кого он узнавал. А нынешние голоса настолько другие!..
– Но, несомненно, это стиль Китери, – заметил Карло, наливая себе красного вина.
– Да, – согласился Дэнни, – и если теперь Китери сочиняет такие песни, то вся структура данного общества…
В дверях общей комнаты возник Сандос, держа под мышкой виртуальную маску. Все разом замолчали, как это происходило обычно, когда он появлялся после длительного отсутствия, а его настроение было неясным.
– Джентльмены, Герион укрощен, – объявил он. – Я успешно завершил тренажерный перелет с «Бруно» на поверхность Ракхата и обратно.
– Будь я проклят, – выдохнул Франц Вандерхелст.
– Вполне может быть, – откликнулся Сандос и поклонился с притворной скромностью, отвечая на одобрительные возгласы, аплодисменты, свист.
– Я вправду не понимаю, почему у тебя было с этим столько проблем, – сказал Джон, когда он и Нико, словно секунданты в боксерском матче, подошли к Эмилио, чтобы снять с него ВР-перчатки и забрать маску. – Неужели это трудней, чем игра в бейсбол?
– Похоже, я просто не мог представить, что нужно делать. Я почти слепой – умственно, – ответил Сандос, занимая свое место за столом. – Я даже не знал, что другие люди способны видеть что-то в своих головах, пока не попал в колледж. – Он кивнул, когда Карло предложил выпить по этому поводу. – И я не умею читать карты – если кто-то инструктирует меня, как попасть в какое-либо место, я обычно записываю все это словами. – Он откинулся в кресле, расслабленный, усталый, и улыбнулся, вскинув глаза на Нико, принесшего ему с камбуза бокал. – Возможно, в графике полетов я все еще буду безнадежно последним…
– Мягко говоря, – пробормотал сидевший напротив него Джон. И был донельзя доволен, когда Эмилио засмеялся. – Может, хоть теперь дашь всем немного расслабиться!
Раздался хор ворчливого согласия с этим заявлением, и впервые с начала полета установилось некое коллективное благодушие, когда они ели и пили вместе, а разговор сделался общим. Все сознавали хрупкость ощущения, будто они единая команда, но никто не смел это комментировать, пока, в самом конце трапезы, Нико не сказал:
– Вот так мне нравится больше.
Повисло короткое молчание, как это бывало на всех совместных обедах, но его нарушил Дэнни Железный Конь:
– Послушай, Сандос, есть новая ракхатская песня, над которой я сейчас работаю…
– Дэнни, прекрати! – запротестовал Джон. – Никаких деловых разговоров.
Но Эмилио не нахмурился, и Дэнни воспринял это как разрешение продолжать.
– Лишь этот один фрагмент, – настойчиво сказал он. – Он необычен, Сандос. Я в самом деле считаю важным – с политической точки зрения, – чтобы мы поняли значение этих стихов; без твоей помощи не разобраться.
– Дэнни… – начал Джон снова.
– Когда мне потребуется адвокат, я дам тебе знать, – предупредил Эмилио. Джон пожал плечами: «Я умываю руки». Эмилио продолжил:
– Хорошо, Дэнни. Давай послушаем.
Сама мелодия была узнаваема, точно музыка Моцарта, и столь же мощно воздействовала на эмоции, как произведения Бетховена. Если не считать басовой партии, исполняемой баритоном голоса были не похожи ни на что слышанное раньше: бархатистые, роскошные альты, мерцающие, искрящиеся сопрано – и все сплетено в гармонии, от которых перехватывает дыхание. Затем единственный голос – восходящий все выше, выше, безнадежно увлекающий за собой…
– Вот это слово, – с нажимом сказал Дэнни, когда сопрано погрузилось в хор, точно осевшая волна в океан. – Думаю, оно ключевое. Почти уверен. Ты его знаешь?
Сандос покачал головой и, вскинув руку, дослушал весь отрывок, прежде чем заговорить.
– Еще раз, пожалуйста, – сказал он, когда тот закончился. А затем: – Еще раз.
И в молчании прослушал его в третий раз.
– Пожалуйста, Нико, принеси мой блокнот, – попросил он. – Дэнни, когда это пришло?
– На прошлой неделе.
– Дайте-ка я погляжу каким образом к нам поступила эта трансляция, – сухо произнес Сандос, когда Нико отправился за компьютером. – Когда эти песни впервые передавались по ракхатскому радио, «Магеллан» их автоматически выловил, закодировал, сжал и упаковал, так? Держал в памяти и не отсылал, пока звезды не заняли нужную позицию. Затем они были выловлены на Земле радиотелескопами – через четыре с лишним года после того, как «Магеллан» их отправил. Проданы Консорциумом по контактам иезуитам – несомненно, после длительных переговоров о цене. Изучены, снова упакованы. Посланы нам – когда? Через два года, возможно? А мы летим сейчас на предельной скорости? – спросил он, посмотрев на Жирного Франца. – Значит, пока этот пакет нас догнал, прошло еще несколько лет. Я понятия не имею, сколько выходит в итоге, но, Дэнни, это старые новости… A, grazie, Нико.
Какое-то время остальные следили за процессом, с которым все были хорошо знакомы, – пока Сандос просматривал свои файлы, выискивая похожие корни, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы, приходившие ему в голову.
– Это слово, полагаю, родственно корневому слову сохраа, – заговорил он наконец. – Ударение на первом слоге. По-моему, это поэтический неологизм, но мне он не знаком. А может, наоборот, архаизм. И комбинирует сохраа с основой, которая подразумевает побег или освобождение: храмаут. Я слышал его лишь однажды, когда Супаари повел меня на свой двор, чтобы показать, как из куколки появляется насекомое. – Он посмотрел Дэнни в глаза. – Мне кажется, значение слова – раскрепощение. А тема фрагмента – радость освобождения от оков.
Дэниел Железный Конь ненадолго закрыл глаза – чтобы помолиться. Все разом заговорили, но голос Дэнни заглушил прочие голоса:
– Ты согласен, что это композиция Китери? Что это его стиль – как в поэзии, так и в музыке?
Сандос кивнул: несомненно.
– А голоса? – допытывался Дэнни. – Кто поет? То есть не кто именно, а представитель какого вида?
– Басы – конечно, мужчины-джана'ата. У других гораздо более высокий регистр, – спокойно заметил Сандос.
– Scuzi – вежливо произнес Нико. – Что значит раскре… Что это за слово?
– «Раскрепощение». Значит «освобождение», – ответил Эмилио. – Когда рабам даруют свободу, это и есть раскрепощение.
– У руна голоса намного выше, ведь так? – предположил Нико. – Может, это они поют, радуясь, что свободны.
Железный Конь не отрываясь смотрел на Эмилио.
– Сандос, а что если Китери освободил руна? – Он впервые посмел произнести это вслух.
– Боже, Эмилио, – воскликнул Джон, – если поют руна… Поют о свободе…
– Это все изменит, – прошептал Шон, в то время как Карло театрально вздохнул: «Я опоздал!», а Франц Вандерхелст вскричал:
– Поздравляю, Джонни! Вот тебе и скрытый смысл!
– Сандос, – осторожно сказал Дэнни, – может, поэтому тебе было предназначено вернуться…
Обрывая поднимающийся шум обсуждения, Сандос в упор посмотрел на Дэнни:
– Даже если ты прав, в чем я сомневаюсь по ряду причин – лингвистических, политических, теологических, дабы узнать об этом, мое присутствие на Ракхате едва ли требуется. – Он взглянул на показания часов земного времени. – Я мог бы услышать эту музыку, когда она достигла Земли. Годы назад. Например, когда Джина и я праздновали бы восьмую годовщину свадьбы, – сказал он, бросив холодный взгляд на Карло.
Повисла неловкая пауза.
– Мне жаль разочаровывать Нико и прочих романтиков, – продолжил Сандос, – но эти голоса не похожи на голоса руна. Кроме того, песня исполняется на высоком к'сане, что не опровергает гипотезу Дэнни, но вряд ли ее подтверждает. Альты используют личные формы местоимений, которых я никогда не слышал. Я ни разу не говорил ни с одной женщиной-джана'ата, даже когда жил в гареме Китери, так что могу предположить, что эти местоимения женского рода и что голоса принадлежат взрослым женщинам. Возможно, наиболее высокие – голоса детей, но скорее всего, детей джана'ата, а не руна.
– Но даже если он освободил лишь джана'атских женщин… – начал Дэнни.
– Отец Железный Конь, я усматриваю здесь склонность к принятию желаемого за действительное, – произнес Сандос с язвительной вежливостью, которой все они боялись. – Почему вы приписываете Китери столь высокие заслуги, не имея достаточной информации? Возможно, вы проецируете собственную потребность в самооправдании на ситуацию и человека, о которых ничего не знаете?
Дэнни перенес эти слова, словно пощечину, коей они, в сущности, и были.
– Если же, – продолжил Сандос, – Хлавин Китери каким-то образом изменил статус представителей своего вида… хоть я и не могу этого вообразить… я рад за них. Но ему не прощаю ничего.
– Однако даже незначительное изменение может нарушить систему, – заметил Джозеба, все еще захваченный этой идеей. – А если что-то из сказанного или сделанного тобой каким-то образом повлияло на Китери или других джана'ата? В таком случае то, что произошло с тобой…
Он умолк, потому что Сандос рывком поднялся и отошел на другую сторону комнаты.
– Ну, Джозеба? Простительно? – спросил Сандос. – Терпимо? Сносно? Поправимо?
– Это искупило бы твои страдания, – прошептал Шон Фейн. Под пристальным взглядом черных глаз он едва не отрекся от своих слов, но заставил себя продолжить.
– Сандос, почем знать! – воскликнул он. – А если бы та австрийская приемная комиссия приняла юного мистера Гитлера в художественное училище? Он писал неплохие пейзажи, разбирался в архитектуре. Может, если бы он получил диплом художника, все сложилось бы иначе!
– Так бывает, Эмилио! – настойчиво произнес Джон. – Отважный поступок или доброе слово…
Сандос стоял не двигаясь, опустив голову и отвернувшись от них.
– Что ж, – наконец сказал он, вскидывая взгляд. – Допустим, что непреднамеренное воздействие может дать как хороший, так и плохой результат. Но мне ни разу не представилась возможность произнести перед Хлавином Китери или его приятелями волнующую проповедь на тему свободы или ценности души – джана'атской, рунской или человеческой.
Сандос умолк и, закрыв глаза, выждал некоторое время. Он устал.
– Я не помню, чтобы мне позволили произнести хоть слово. Правда, я кричал, но боюсь, весьма бессвязно.
Он снова замолчал, сделав неровный вдох, затем медленно выдохнул – прежде чем поднял взгляд на их лица.
– И я дрался, как сукин сын, пытаясь отбиться от тех ублюдков, но сомневаюсь, что даже самый снисходительный наблюдатель назвал бы это проявлением отваги. «Смешная бесплодная попытка» – вот что приходит на ум.
Сандос снова прервался, стараясь выровнять дыхание.
– Как видите, – резюмировал он спокойно, – вряд ли стоит питать надежду, что в результате моего… богослужения кто-то из джана'ата усвоил какие-либо представления о святости жизни или политических преимуществах свободы. И я предлагаю; господа, больше не поднимать эту тему во время нашего совместного путешествия.
Сандос вышел из комнаты. Его спутники пребывали в оцепенении. Никто не обратил внимания, что Нико, неприметно стоявший в углу, тоже вышел из общего зала и направился в свою каюту.
Открыв шкафчик, встроенный в стену над письменным столом, Нико порылся в маленькой коллекции своих сокровищ и достал два твердых цилиндра неравной длины: полторы палки генуэзской салями, которые он припрятал для себя. Положив их на стол, Нико сел и, вдыхая аромат чеснока, глубоко задумался.
Он размышлял над тем, сколько салями у него осталось и сколько пройдет времени, прежде чем он сможет купить еще, и что чувствует дон Эмилио, когда у него сильно болит голова. Было бы расточительством отдать салями человеку, которого все равно вырвет. И все же, подумал Нико, подарок способен поднять настроение, а дон Эмилио может приберечь его на потом, когда головная боль пройдет.
Люди часто смеялись над Нико из-за того, что он ко всему относится слишком серьезно. Они говорили что-нибудь с серьезным видом, и он принимал это всерьез, а после смущался, когда оказывалось, что они шутили. Ему редко удавалось отличить шутливую речь от разумного разговора.
– Это называется иронией, Нико, – объяснил ему как-то вечером дон Эмилио. – Ирония – это когда говорят не то, что подразумевают. Чтобы понять шутку, нужно сперва удивиться, а после повеселиться из-за разницы между тем, что человек думает и что он говорит.
– Значит, когда Франц говорит: «Нико, ты умный мальчик», – это ирония?
– Может, и насмешка, – честно признал Сандос. – Иронией было бы, если б ты сам сказал: «Я умный мальчик», потому что считаешь себя глупым и большинство других тоже так считает. Но ты не глуп, Нико. Ты учишься медленно, но основательно. Когда ты что-то узнаешь, то узнаешь хорошо и уже не забываешь.
Дон Эмилио всегда был серьезен, поэтому Нико мог с ним расслабиться и не искать скрытый смысл. И он никогда над Нико не насмехался, не жалел времени на его обучение, помогал запоминать иностранные слова. Все это, решил Нико, определенно стоит половины салями.
* * *
Вот в чем Эмилио Сандос сейчас не нуждался, так это в посетителе. Но когда на стук в дверь он откликнулся экономным «Проваливай!», то не услышал шагов и понял: кем бы ни был этот гость, он намерен оставаться там, сколько потребуется. Вздохнув, Эмилио открыл дверь и не удивился, узрев Нико д'Анджели, ожидавшего в коридоре.
– Привет, Нико, – терпеливо сказал он. – Боюсь, сейчас я предпочел бы обойтись без компании.
– Buon giorno,[33]33
Добрый день (ит.).
[Закрыть] дон Эмилио, – обходительно откликнулся Нико. – Боюсь, что это очень важно.
Эмилио сделал глубокий вдох, и его чуть не вырвало от запаха чеснока. Однако он отступил от двери, приглашая Нико войти. По своему обыкновению Эмилио переместился в дальний угол комнатушки, усевшись на кровать, спиной к перегородке. Нико присел на край стула, а затем наклонился, положив на койку половину палки салями.
– Я хочу подарить это вам, дон Эмилио, – сказал он без дальнейших объяснений.
С серьезным видом и стараясь не дышать глубоко, Эмилио произнес:
– Спасибо, Нико. Ты очень любезен, но я больше не ем мяса…
– Я знаю, дон Эмилио. Дон Джанни мне говорил: это оттого, что вы все еще переживаете из-за поедания плоти рунских младенцев. Но салями сделана из свинины, – сообщил Нико.
Против воли улыбнувшись, Эмилио сказал:
– Ты прав, Нико. Спасибо.
– У вас уже не так болит голова? – озабоченно спросил Нико. – Вы можете поесть потом, если боитесь, что вас вырвет.
– Спасибо, Нико. Я принял лекарство, и головная боль прошла, так что меня не вырвет.
Эмилио говорил с уверенностью, которой не ощущал, – чеснок распространял убийственный аромат. Но было ясно, что для Нико это важный подарок, поэтому Эмилио сел прямее и обеими руками поднял салями, показывая, что принимает дар.
– Мне было бы приятно разделить трапезу с тобой, – сказал он. – Есть нож?
Нико кивнул и, вытащив карманный нож, застенчиво улыбнулся – редкий эпизод, и на удивление приятный. Покорившись судьбе, Эмилио развернул салями – процедура, давшаяся ему довольно легко, поскольку сегодня руки не болели. Нико взял у него колбасу, затем с большой аккуратностью вынул лезвие, упершись в него большим пальцем, и отрезал от конца палки два тонких кругляшка. Эмилио поймал себя на том, что принимает один из них с той почтительностью, которую некогда приберегал для освященной гостии. Это всего лишь свинина, напомнил он себе и спустя какое-то время ухитрился проглотить кусочек.
Пережевывая ломтик, Нико улыбался сальными губами, но затем вспомнил о том, что собирался сказать уже давно.
– Дон Эмилио, – начал он, – я хочу, чтобы вы мне простили грех…
Сандос покачал головой:
– Нико, обратись к священнику. Я больше не могу слушать исповеди.
– Нет, – сказал Нико, – не священник. Только вы можете меня простить. Дон Эмилио, мне жаль, что я вас избил.
Эмилио с облегчением произнес:
– Ты выполнял свою работу.
– Это была плохая работа, – настаивал Нико. – Мне жаль, что я ее делал.
Ни объяснений, что следовал приказам Карло. Ни попыток увильнуть. Ни самооправданий.
– Нико, – сказал Эмилио со спокойным формализмом, которого требовало это событие, – я принимаю твои извинения. И прощаю тебя за то, что ты меня избил.
Нико предусмотрительно уточнил:
– За оба раза?
– За оба раза, – подтвердил Сандос.
Похоже, Нико был страшно рад это услышать.
– Вашу морскую свинку я отнес своим сестрам. Дети обещали о ней заботиться.
– Хорошо, Нико, – помолчав, произнес Эмилио, удивленный, каким облегчением стало для него узнать об этом. – Спасибо за то, что ты это сделал и что сказал мне.
Приободренный, Нико спросил:
– Дон Эмилио, по-вашему, на этой планете мы будем заниматься плохой работой?
– Я не уверен, Нико, – признался Эмилио. – Когда я был там в первый раз, члены миссии очень хотели быть хорошими и поступать правильно, но все пошло не так. На сей раз полет на Ракхат обусловлен иными намерениями. Но кто знает? Может быть, несмотря на это, все сложится хорошо.
– Это было бы иронией, – заметил Нико.
Лицо Эмилио смягчилось, и он с искренней привязанностью посмотрел на гиганта.
– Действительно, иронией. – Он вдруг осознал, что рад этому визиту. – А ты, Нико? Что ты думаешь? Будет это плохой работой?
– Я не уверен, дон Эмилио, – серьезно сказал Нико, подражая словам и тону Сандоса, как теперь делал часто. – Думаю, следует подождать, пока мы попадем туда и увидим, что там происходит. Таков мой совет.
Эмилио кивнул:
– Ты мыслишь очень здраво, Нико.
Но Нико продолжил:
– Я думаю, что человек, который поступал с вами дурно… Китери? Может быть, он сожалеет о содеянном, как и я. Его музыка замечательная… даже лучше, чем у Верди. Тот, кто сочиняет такую хорошую музыку, не может быть совсем плохим. Вот что я думаю.
Согласиться с этим было трудно, но, возможно, тут имелась крупица правды…
Эмилио встал, давая понять, что визит закончен, и Нико тоже поднялся, однако к двери не пошел. Протянув руку, он осторожно взял правую кисть Эмилио и, низко склонившись над ней, поцеловал. Смутившись, Эмилио попытался отступить, отказаться от этой присяги, но мягкая хватка Нико казалась несокрушимой.
– Дон Эмилио, – произнес Нико, – я убью или умру за вас.
Эмилио, понимавший этот код, отвернулся, пытаясь сообразить, как откликнуться на такое проявление незаслуженной преданности. Был возможен лишь один ответ, и, закрыв глаза, Эмилио вгляделся в себя, чтобы понять, сможет ли сказать это с честностью, которой заслуживает Нико.
– Спасибо, Нико, – вымолвил он наконец, – Я тоже тебя люблю.
И не заметил, как Нико ушел.








