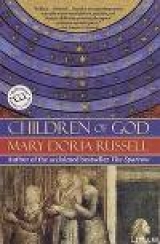
Текст книги "Дети Бога"
Автор книги: Мэри Дория Расселл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
Внезапно Строкан схватила Джхолаа за руки и потянула, вынуждая встать.
– Вон там! Облака разошлись, и они там! – напористо прошептала она, держа голову девочки так, чтобы та смотрела в правильном направлении; поэтому Джхолаа смогла увидеть светящиеся диски, похожие на маленькие холодные солнца: луны, проступавшие из чернильной черноты, прекрасные и далекие, словно горный снег.
– На ночном небе есть и другие существа, – сказала Строкан. – Дочери лун! Крохотные сверкающие малютки.
Глаза джана'ата не были приспособлены к таким зрелищам, и Джхолаа могла лишь принять заверения няни, что это правда, а не какая-то глупая рунская сказка.
Это было единственным памятным событием ее детства.
Какое-то время Джхолаа делила уединение с Китери Рештаром, своим третьерожденным братом, Хлавином. Его титул означал «запасной», и так же, как у нее, его целью было просто существовать – в готовности подхватить наследство, если кто-то из старших братьев не оправдает надежд. Не считая Строкан, Хлавин был единственным, кто Джхолаа замечал, рассказывая ей истории и развлекая секретными песнями, несмотря на то, что за песни Хлавина били, если на этом его ловила наставница. Кто, кроме Хлавина, мог вызвать у нее смех, когда жены Дхерая и Бхансаара заполнили детские детьми, заменившими Хлавина и Джхолаа в очередности наследования рода Китери. Кто, кроме Хлавина, плакал бы от сочувствия к ней, растроганный ее рассказом о лунах и признанием, что с каждым вновь рожденным племянником или племянницей сама Джхолаа все больше и больше ощущает себя похожей на лунное дитя: невидимая для собственного народа, сверкающая в невообразимой темноте.
Потом у Дхерая родился собственный Рештар, затем и у Бхансаара; порядок наследования сочли надежным, и Хлавина убрали от нее, сослав в портовый город Гайджур, дабы обезопасить жизни его племянников от разочарованного честолюбия юного дяди. Но даже в изгнании Хлавин нашел способ петь для нее, послав Джхолаа радиоприемник, чтобы она могла услышать собственные слова о лунных дочерях, скачущих на волнах, невидимых, точно звезды, – вплетенные в великолепную кантату, исполненную при его первой радиопередаче из Дворца Галатны. Хлавину это позволили, потому что он пел не традиционные хоралы, предназначенные для тех, кто родился первым или вторым, но нечто новое и совершенно другое.
Почему-то этот концерт вызвал у Джхолаа гнев, словно бы эти слова были у нее украдены, а не взяты в качестве дара. Когда музыка кончилась, она смахнула приемник с подставки, словно это он был виноват.
– Где находится Галатна? – потребовала ответа она, когда Строкан, нагнувшись, стала собирать обломки.
– Он помешен, точно драгоценный камень, в гору, возвышающуюся над Гайджуром, а это рядом с океаном, моя госпожа, – ответила Строкан, вскинув на нее голубые глаза. – Там воды столько, что можно стоять на краю ее и смотреть, сколько хватит зрения, но другого края не увидишь!
– Ты лжешь. Такой воды не бывает. Все руна лгут. Вы бы убили нас, если б могли, – с холодным презрением сказала Джхолаа, уже достаточно взрослая к тому времени, чтобы испытывать страх рабовладельца.
– Глупости, маленькая! – с добродушным изумлением воскликнула Строкан. – Ведь во время красного солнца и истинной ночи все джана'ата спят, и никто вам не причиняет вреда! Эта преданная не лжет своей дорогой хозяйке. Луны были реальными, моя госпожа. И океан существует! Его вода соленая на вкус, а у воздуха там запах, незнакомый жителям суши.
В то время возмущение было единственным средством, способным вывести Джхолаа из апатии, в которой она пребывала целыми днями. Она стала ненавидеть злосчастных рунских служанок, бывших ее единственными собеседницами, презирать возможность этих бесстыдных шлюх выходить в мир неприкрытыми и неохраняемыми, видеть океаны и ощущать запахи, которые Джхолаа никогда не узнает. Зацепив изящным когтем ухо Строкан, Джхолаа начала отрывать его, смягчившись, лишь когда рунао признала, что сама она океана не видела и не пробовала его воду, а лишь слышала рассказы кухарки, пришедшей с юга. Хлавин рассказал бы своей сестре правду об океане, но он был для нее потерян, поэтому Джхолаа позволила трясущимся рукам няни гладить ее, успокаивая, и вдыхала соленый запах крови, а не океана.
Позже, тем же вечером, лежа в темном, бесполезном свете маленького красного солнца, Джхолаа решила казнить Строкан за то, что она посмела подумать, будто может убивать джана'ата во время их сна, – а заодно прирезать детей женщины, дабы очистить линию.
«Все равно Строкан старая. Тушеное мясо!» – подумала Джхолаа, выбрасывая это из головы.
Вот почему некому было предостеречь Джхолаа или подготовить ее к тому, что произошло после бракосочетания, – ее служанки боялись хозяйки и ни у одной не хватало смелости разъяснить, почему ее одевают для торжественной церемонии. Но Джхолаа привыкла, что ее демонстрируют на таких мероприятиях, и не удивилась, оказавшись в парадном зале, наполненном ослепительно выряженными чиновниками и всеми своими родственниками-мужчинами, продолжавшими петь, словно бы ее тут не было.
Пока длились нескончаемые церемониальные декламации, Джхолаа стояла неподвижно; похоже, это могло продолжаться целые сутки, и она давно перестала вслушиваться. Но, различив в песне свое имя, она стала слушать внимательней, а затем узнала мелодию, которой скрепляли брак, и поняла, что ее только что юридически связали с мужчиной, чье родовое имя она никогда раньше не слышала. Расширив глаза, укрытые за инкрустированной драгоценными камнями золотой вуалью, Джхолаа повернулась, чтобы спросить у кого-нибудь – хоть у кого-то! – не посылают ли ее в другую страну, но прежде чем она успела открыть рот, ее окружили отец и братья и повели к центру зала.
Рядом снова возникли ее горничные, и, когда они стали снимать с нее платье, Джхолаа заговорила, громко спрашивая, что происходит, – но мужчины лишь смеялись. Взбешенная и напуганная, она пыталась прикрыться, но человек, чье имя она не вполне запомнила, подошел к ней так близко, что она ощутила его запах, и сбросил с себя мантию. И он… Он не просто смотрел на нее, но, сдвинувшись к ней за спину, ухватил ее за лодыжки и…
Джхолаа сражалась, но ее вопли и звуки борьбы тонули в одобрительном, веселом реве свадебных гостей. Позднее она услышала, как ее отец прокомментировал с горделивым смешком: «Девственница! Теперь никто не сможет этого отрицать!» На что старший из ее братьев ответил: «Дралась почти столь же яростно, как чужеземец, коего пользуют Хлавин и его друзья…»
Когда все закончилось, ее увели через зал, по этому случаю празднично разукрашенный, в маленькую, с закрытыми ставнями комнату, где она сидела, оглушенная и растерянная, слушая стихи, распеваемые в честь четверторожденной Джхолаи Китери у Дарджан, против всех шансов слученной с третьерожденным торговцем, который и вовсе никогда не стал бы производителем, если бы не чужеземный слуга Сандос. И когда Джхолаа наконец родила этого ребенка, в его родословной нельзя было усомниться; это было, как она поняла, единственным оправданием ее собственного существования.
Похожая судьба, полагала она, ожидает и ее дочь. Госпожа Джхолаа даже не взглянула на своего ребенка в первые мгновения его жизни, а когда акушерка отпустила ее руку, попыталась распороть ему горло – из жалости и отвращения. Позже, когда к ней заглянул ее брат Дхераи, сообщив, что младенец – калека, Джхолаа приняла это равнодушно.
– Так убейте его, – вот все, что она сказала, желая, чтобы кто-нибудь сделал то же самое с нею.
6
Неаполь
Сентябрь 2060
На то, чтобы успокоиться после визита папы, ушло несколько часов, и Эмилио Сандос только что заснул, когда стук в дверь напугал его настолько, что он едва не слетел с постели.
– Боже! Что еще? – воскликнул он, снова падая на подушку. Лежа на животе, измученный, Эмилио решительно закрыл глаза и прокричал: – Убирайся!
– Надеюсь, вы обращаетесь к Богу, – откликнулся знакомый голос, – потому что я возвращаться в Чикаго не собираюсь.
– Джон?
Вскочив с кровати, Сандос локтями распахнул высокие деревянные ставни.
– Кандотти! – изумленно произнес он, высунув голову в мансардное окно. – Я думал, после слушаний они отправили вас домой!
– Так и было. А теперь послали обратно.
Усмехаясь ему, Джон Кандотти стоял на подъездной дорожке, длинными костлявыми руками обнимая пластмассовую коробку, и в свете позднего дня его римский нос делал наполовину лысую голову похожей на солнечные часы.
– Ну, в чем дело? Я должен сделаться папой, чтобы меня пригласили войти?
Сандос перегнулся через деревянный подоконник, упершись в него локтями, а его лишенные нервов пальцы свесились, точно ветви ивы ста'ака.
– Поднимайтесь. – Он вздохнул с театральным смирением. – Дверь не заперта.
– Итак! Эль Кахуна Гранде рассказал мне, как вы только что проинтервьюировали его святейшество на предмет лаборантской субсидии, – сказал Джон, взобравшись по ступеням и нырнув под притолоку, которая никогда не казалась Эмилио низкой. – Отличная игра, Сандос. Очень ловко.
– Весьма признателен, что вы на это указали, – откликнулся Эмилио, вдруг заговорив скорее на английском Лонг-Айленда, нежели Пуэрто-Рико. Склонившись над столиком, он надевал скрепы. – Теперь почему бы вам не сделать мне эдакий симпатичный разрез и не брызнуть на него лимонного сока?
– Билли Кристал. «Принцесса-невеста», – сразу же определил Джон, опуская коробку в угол. – Дружище, вам нужно обновить репертуар. Вы посмотрели какие-нибудь из рекомендованных мной комедий?
– Угу. Больше всего мне понравилась голландская, «К востоку от рая», «Нет признаков жизни» тоже неплоха. Но я не понимаю шуток в новых картинах. И как бы то ни было, – воскликнул Сандос, теперь уже негодуя, – откуда мне было знать, кто сейчас папа? Какой-то старикан возникает у моего порога…
– Если бы вы приняли мой совет, – произнес Джон, теряя терпение словно раздраженный наставник семинаристов, – то понимали бы новые шутки. И узнали бы этого чертового папу, когда он к вам заявился!
Сандос проигнорировал его слова, как игнорировал сорокапятилетнюю дыру в новейшей истории – сперва слишком больной, чтобы из-за этого волноваться, а ныне просто отказываясь это признать.
– Вы хоть представляете, насколько важно то, что Геласиус к нам приехал? Я вам говорил: пора наверстывать! Но разве вы меня когда-нибудь слушаете? Нет!
«Ты и сейчас не слушаешь», – понял Джон, наблюдая за ним. За последние два месяца Эмилио заметно продвинулся в надевании скреп, но эта процедура все еще требовала немалой концентрации.
– … а Джулиани просто стоял там, глядя, как я рою себе яму! – ворчал Сандос, вставляя каждую кисть в открытую скрепу, а затем покачивая атрофированными предплечьями, чтобы задействовать включатели. Когда плоские ремешки и электронная оснастка сомкнулись над его пальцами, запястьями и предплечьями, послышалось тихое жужжание. Он выпрямился.
– Когда-нибудь, Джон, мне действительно захочется всыпать этому сукиному сыну.
– Удачи, – сказал Джон, – Хотя я думаю, что скорее уж «Щенки» выиграют чемпионат мира.
Они сели за стол: Сандос сгорбился на стуле, стоявшем ближе к кухне, а Джон занял место папы – напротив него. Пока они обменивались цитатами из фильмов «К востоку от рая», «Глухие улицы» и пары старых лент Мими Дженсена, Джон озирал комнату, измятую постель, носки на полу, тарелки в раковине, а затем с подозрением уставился на Эмилио, взъерошенного и небритого. Обычно Сандос был аккуратистом: черно-серебряные волосы расчесаны, конкистадорская бородка тщательно подстрижена, на одежде ни пятнышка. Джон ожидал, что и квартира будет опрятной.
«Всякая духовная просветленность начинается с аккуратно прибранной кровати, – нараспев произнес Кандотти, широким взмахом указав на этот бедлам. – Погано выглядите. Когда вы спали в последний раз?
– Минут пятнадцать назад. Затем приперся некий старый друг – он же заноза в заднице – и меня разбудил. Кофе хотите?
Поднявшись, Эмилио прошел на крохотную кухню, открыл буфет, достал кофе в зернах и занялся делом, повернувшись к Кандотти спиной.
– Нет. Сядьте. Не уходите от вопроса. Когда вы спали до этого?
– Провалы в памяти.
Сандос сунул кофе назад, хлопнув дверцей буфета, и снова плюхнулся на стул.
– Не опекайте меня, Джон. Ненавижу.
– Джулиани говорит, что боль в руках по-прежнему мучит вас, – настаивал Джон. – Не понимаю. Их же вылечили! – воскликнул он, указав на них обвиняющим жестом. – Почему они до сих пор болят?
– Мне с научной точки зрения объяснили, что центральную нервную систему сбивают с толку мертвые нервы, – произнес Сандос с внезапной язвительностью. – Мозг начинает тревожиться, поскольку долгое время не получает сигналов от рук. Он подозревает, что те угодили в беду, и, подобно моему надоедливому старому другу, привлекает к этой ситуации внимание, вываливая на меня кучу дерьма!
Несколько секунд Сандос смотрел в окно, восстанавливая самообладание, затем взглянул на невозмутимого Джона, привыкшего к подобным вспышкам.
– Простите. Эта боль меня выматывает, понимаете? Она возникает и проходит, но иногда… – Подождав минуту, Джон закончил за него: – Иногда вы боитесь, что она не пройдет никогда. Эмилио не подтвердил, но не стал и отрицать.
– Искупительную ценность страдания – по крайней мере, исходя из моего опыта, – чрезвычайно завышают.
– Для меня это слишком по-францискански, – согласился Джон.
Эмилио рассмеялся, а Джон подумал: если Сандос смеется – ты на полпути к цели.
– Сколько длилось на этот раз? – спросил он.
Пожав плечами, Сандос пренебрег вопросом, пряча глаза.
– Мне лучше, если я работаю. Помогает сосредоточенность на чем-то. – Он бросил на Джона взгляд, – Сейчас я в порядке.
– Но с ног валитесь от усталости. Ладно, – сказал Джон. – Я дам вам отдохнуть.
Хлопнув ладонями по бедрам, он поднялся, но вместо того чтобы уйти, подошел к звукоанализирующей аппаратуре, установленной вдоль торцевой стены, напротив лестницы. С любопытством оглядел ее, затем небрежно произнес:
– Я лишь хотел отметиться у своего нового босса – конечно, если вы еще не наняли папу.
Сандос прикрыл глаза, затем извернулся на стуле, чтобы посмотреть через плечо на Джона:
– Простите?
Джон повернулся, усмехаясь, но, когда он увидел лицо Эмилио, его ухмылка исчезла.
– Вы сказали, вам нужен человек, который говорит на венгерском. И на английском или на латыни или испанском. В латыни я не шибко силен, – признал Джон, запинаясь под холодным взглядом. – И все равно у меня четыре попадания из четырех. Я ваш. Если вы не против.
– Вы шутите, – произнес Эмилио бесцветным голосом. – Не пудрите мне мозги, Джон.
– Шестнадцать языков, из которых можно выбирать, а вам понадобились именно эти. Послушайте, я не лингвист, но разбираюсь в компьютерах и умею учиться, – сказал Джон, защищаясь. – Родители моей мамы из Будапешта. После школы обо мне заботилась бабушка Тоз. На самом деле я говорю по-венгерски лучше, чем по-английски. Бабуля была поэтессой и…
Сандос качал головой, не зная, смеяться или плакать.
– Джон, Джон!.. Не нужно меня убеждать. Дело лишь в том, что…
Он скучал по Кандотти. Он нуждался в помощи, но не хотел о ней просить, нуждался в коллегах, но боялся взяться за обучение новичка. Отец Джон Кандотти, чьим великим даром было умение прощать, узнал о Сандосе все – и все же не стал его ни презирать, ни жалеть. К счастью, когда Эмилио нашел нужные слова, его голос остался ровным:
– Я думал, тут какой-то подвох. В последнее время меня не баловали хорошими новостями.
– Никакого подвоха, – объявил Джон уверенно, ибо жизнь не учила его быть всегда готовым к внезапным ударам, и направился к лестнице, ведущей к гаражу. – Когда я могу начинать?
– По мне, так прямо сейчас. Но используйте библиотечный компьютер, ладно? А я ложусь спать, – объявил Сандос настолько твердо, насколько ему позволил зевок, едва не свернувший челюсть. – Если не проснусь до октября – а я искренне на это надеюсь – разрешаю меня разбудить. Тем временем вы можете начать с учебной программы для руанджи – у Джулиани есть нужные коды. Но дождитесь, пока я смогу помочь с файлами к'сана. Этот язык, Джон, чертовски сложен.
Положив левую руку на стол, он качнул рукой наружу, чтобы раскрыть скрепу, но вдруг застыл, потрясенный мыслью.
– Боже, – сказал он. – Джулиани отправляет вас со следующей группой?
Последовала долгая пауза.
– Ага, – наконец сказал Джон. – Похоже на то.
– А вы хотите лететь?
Джон кивнул, глядя на Сандоса серьезными глазами.
– Да. Да, я хочу.
Стряхнув с себя оцепенение, Эмилио откинулся на спинку стула и с холодной напыщенностью процитировал Игнатиуса:
– «Готовый выступить немедленно, с уже застегнутым нагрудником».
– Если умру на Ракхате, – торжественно произнес Джон, – прошу об одном: пусть тело мое переправят для захоронения в Чикаго, где я смогу продолжать участвовать…
– … в политической жизни Демократической партии, – заключил Эмилио. Издав смешок, он покачал головой. – Что ж, вы знаете: тамошнее мясо лучше не есть. И вы большой. Есть шанс отбиться, если какой-нибудь чертов джана'ата вас возжелает.
– Полагаю, Джулиани тоже так считает. Если я слегка подкачаю мускулатуру, из нас сможет получиться вполне приличная линия обороны для НФЛ. Остальные парни – гиганты.
– Так вы уже встречались с ними?
– Лишь с иезуитами – не со штатскими, – ответил Джон, вернувшись к столу. – Настоятель – парень по имени Дэнни Железный Конь…
– Лакота?
– Наполовину… есть также французская и шведская кровь, по его словам, и он вроде бы довольно чувствителен к этим вещам. Насколько я знаю, лакотская часть его родичей покинула резервацию четыре поколения назад и его сильно достали люди, ожидающие, что он будет носить перья и разговаривать без сокращений – понимаете?
– Много лун идет Чоктау… – нараспев произнес Эмилио.
– Случилось так, что вырос он в пригородах Виннипега, а свои габариты, должно быть, унаследовал от шведов. Но на нем прямо нарисован Блэк-Хилс, поэтому он постоянно нарывается на это дерьмо. – Джон поморщился. – Я завел его почти с ходу, начав рассказывать о парне, с которым знался в Пайн-Ридже. Он меня тут же срезал: «Ни кос, ни духов, приятель. Я не пьяница и никогда не был в парной».
Сандос присвистнул, вскинув брови.
– Да… обидчивый. Но кто он?
– Один из лучших политологов ордена, насколько я слышал, а ведь у нас их полно. Поговаривают, что когда-нибудь он станет Генералом; но едва Джулиани и предложил ему Ракхат, Дэнни не раздумывая оставил профессорство в Григорианском университете. Он просто пышет энтузиазмом.
– А другие? – спросил Эмилио.
– Есть химик из Белфаста – он будет проверять те нано-блочные субстанции, которые производят на Ракхате. Я встретил его лишь на прошлой неделе, но Джулиани натаскивает этих парней уже несколько месяцев! Как бы то ни было, усвойте следующее: его зовут Шон Фейн.[12]12
«Шинн Фейн» – легальное политическое крыло ирландских сепаратистов
[Закрыть]
Сандос непонимающе смотрел на него. – Вдумайтесь, – посоветовал Джон.
– Вы шутите, – сказал Сандос спустя минуту.
– Нет, но его родители пошутили. Папа был…
– Еврей, – вставил Сандос с непроницаемым лицом.
– Оценка: «отлично». А его мать была политиком…
– Шон Фейн, Шин Фейн, – сказал Эмилио сочувственно. – Не просто шутка, но еще и глупая.
– Ага. Я спросил у Шона, станет ли ему легче, если я скажу, что в среднюю школу поступал с пареньком, которого звали Джек Гофф. «Нисколько», – вот и все, что он ответил. Самый угрюмый ирландец, которого я когда-либо встречал, – моложе меня, но ведет себя так, будто ему сто лет.
– Похоже, группа подбирается веселая, – сухо прокомментировал Эмилио. – Джулиани сказал, что отправляет четверых. Кто же четвертый?
– О, вам понравится… Вы просили кого-нибудь с баскским языком, верно?
– Эускара, – поправил Сандос. – Мне нужны люди, привыкшие иметь дело с совсем другими грамматическими конструкциями…
– Ну, неважно, – пожал плечами Джон. – В общем, он заходит – огромный парень с невообразимо густыми волосами – и я понял: «Ба! Так вот кому достались и мои тоже!» Затем он говорит что-то непонятное, с чудовищным количеством согласных. И я не знал, то ли сказать ему «привет», то ли вмазать! Вот – он записал это для меня. – Джон выудил из кармана клочок бумаги. – Как, черт возьми, это произнести?
Приняв листок правой кистью, все еще оснащенной скрепой, Эмилио подвигал им туда-сюда на длину руки.
– Игра на невидимом тромбоне! Не различаю такой мелкий шрифт, – уныло заметил он, но затем все же сфокусировал взгляд. – Джозеба Гастаиназаторре Уризарбаррена.
– Хвастун, – пробормотал Джон.
– Говорят, однажды баскский язык попытался освоить сам дьявол, – сообщил Сандос. – Сатана сдался через три месяца, выучив лишь два слова на эускаре… причем оба – ругательства, но оказалось, что они все равно были испанскими.
– Ну и как нам, несчастным смертным, его именовать? – спросил Джон.
– Джо Алфавит? – предложил Эмилио и, зевнув, стал расстегивать вторую скрепу, но первое имя действительно похоже на «Джозеф». Это легко: Хо-сэй-ба.
Джон попробовал выговорить и остался доволен результатом – при условии, что от него не потребуют одолеть больше первых трех слогов.
– В общем, он эколог. Кажется милым парнем. Спасибо Господу за малые милости. Черт – извините! Я и забыл, как вы устали, – сказал Джон, когда Эмилио зевнул в третий раз за три минуты. – Все, ухожу! Отдыхайте.
– Увидимся завтра, – сказал Эмилио, направляясь к кровати. – Джон… Я рад, что вы здесь.
Кандотти со счастливым видом кивнул и, поднявшись, двинулся к выходу. Но перед лестницей оглянулся. Эмилио, слишком измотанный, чтобы раздеться, уже рухнул на матрац.
– Эй, – позвал Джон, – а вы не хотите спросить, что в коробке?
Эмилио не открыл глаз.
– Джон, что в коробке? – покорно спросил он, после чего пробормотал: – Как будто мне не наплевать.
– Письма. И это только те, что написаны на бумаге. Почему вы никогда не проверяете свой почтовый ящик?
– Потому что все, кого я знал, умерли. – Глаза Сандоса распахнулись. – Кто же, черт возьми, стал бы мне писать? – с риторическим удивлением спросил он у потолка. Затем, искренне веселясь, воскликнул: – О, Джон, вероятно, это любовные письма от мужчин-заключенных.
Кандотти фыркнул, изумившись этой идее, но Сандос вскинулся на локтях, захваченный ее восхитительной абсурдностью. Его лицо оживилось, а вся усталость на минуту испарилась.
– Мой дорогой Эмилио, – начал он и, вновь упав на постель, продолжил импровизировать, непристойно и весело, на вольную тему тюремного романса и в терминах, от которых Джон зашелся смехом.
В конце концов, когда Сандос выдохся сам и исчерпал тему, а Кандотти вытер глаза и перевел дыхание, он воскликнул:
– Вы так циничны!.. Эмилио, у вас множество друзей.
– Будьте снисходительны, Джон. Цинизм и сквернословие – единственные пороки, на которые я сейчас способен. Все прочие требуют сил или денег.
Кандотти опять рассмеялся и наказал Сандосу дважды прочитать молитву – за наличие столь живописных нечистых помыслов. Помахав ему рукой, он стал спускаться по лестнице и уже открыл дверь, когда услышал, что Эмилио его окликает. Держась за дверную рукоять и все еще ухмыляясь, Джон оглянулся:
– Да?
– Джон, я… я нуждаюсь в услуге.
– Конечно. Что угодно.
– Я… Мне нужно будет подписать кое-какие бумаги. Я ухожу, Джон. Я покидаю орден.
Кандотти обмяк, словно от удара под ребра, привалившись к косяку. Секундой позже снова зазвучал голос Сандоса, тихий и запинающийся:
– Сумеете вы закрепить ручку, чтобы я мог ее держать? Как вы делали это с бритвой?
Джон стал подниматься по ступеням, но на полпути остановился, также как и Сандос, не желая вести этот ужасный разговор лицом к лицу.
– Эмилио. Послушайте… Я понимаю вас… Но вы уверены? То есть…
– Уверен. Я решил это сегодня днем.
Кандотти молча ждал, а затем услышал:
– Джон, на мне много грехов. Не хочу притворяться. Нельзя ненавидеть, как я, и при этом быть священником.
Грузно осев на ступеньку, Джон растер ладонями лицо, а Эмилио тем временем говорил:
– Наверное, нужна какая-нибудь клинообразная штуковина, поддерживающая ручку под углом. Новые скрепы хороши, но у меня не получаются точные сжатия.
– Ладно. Нет проблем. Я что-нибудь для вас соображу. Джон встал и опять направился вниз по ступеням, ощущая себя лет на десять старше, чем был пять минут назад. Когда он шаркающей поступью поплелся к главному корпусу, то услышал возглас Эмилио, донесшийся из мансардного окна:
– Спасибо, Джон.
Не оглянувшись, он уныло махнул рукой, зная, что Эмилио его не видит.
– Конечно. Ну еще бы, – прошептал Джон, ощущая на лице противное щекотание, пока ветер, прилетевший из неаполитанского залива, не высушил слезы.








