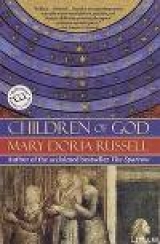
Текст книги "Дети Бога"
Автор книги: Мэри Дория Расселл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
12
Деревня Кашан
2046, земное время
– Супаари привез кое-кого домой! – радостно позвала Кинса, когда баржа ненадолго причалила к причалу Кашан.
Прилепившаяся к обрыву деревня находилась на расстоянии неполного дня пути от Кирабаи, и все это время Супаари провел, блаженно подремывая на согретых солнцами досках палубы вместе с пассажирами-руна, не строя планов, не думая ни о чем, держа на руках малышку Ха'аналу да болтая с Кинсой и попутчиками. Сгрузив свой багаж, он бросил взгляд вверх, на руна, высыпавших из высеченных в камне жилищ, и улыбнулся, когда они хлынули по скалистым тропкам к речному берегу, точно весенний поток.
– Сипадж, Кинса: они беспокоились о тебе, – сказал он девушке, прежде чем ответил на прощальный крик рулевого баржи, исчезающей в южном рукаве реки.
Но вакашани столпились вокруг самого Супаари – все они раскачивались, дети пищали. «Сипадж, Супаари, – был главный рефрен, – тебе здесь небезопасно».
С трудом он восстановил некое подобие порядка, громким голосом перекрывая сумбурный гомон руна, и в конце концов убедил всех подняться в самую большую комнату, предназначенную для собраний, где он мог их нормально выслушать.
– Сипадж, народ, – заверил Супаари, – все будет хорошо. Не из-за чего поднимать такой фиерно.
Он заблуждался, причем по обоим пунктам.
Декларация достигла его родного города, Кирабаи, всего через несколько часов после отплытия баржи, когда восстановили поваленную бурей радиобашню. Инброкарское правительство объявило Супаари изменником. Хлавин Китери, ныне Предполагаемый Верховный, требовал жизнь Супаари в расплату за убийство всей семьи Китери и какого-то человека по имени Ира'ил Вро, о котором Супаари никогда не слышал. А в Кашан уже явился охотник за головами.
– Сипадж, Супаари, – сказала одна из старейшин, – акушерка Пакварин послала нам слово. Она воспользовалась твоими деньгами, чтобы нанять гонца.
– Поэтому, когда пришел охотник, мы уже знали, – прибавила другая женщина, а затем все заговорили хором:
– Сипадж, Супаари, Пакварин тоже умерла.
Конечно, подумал он, закрыв глаза. Пакварин знала, что я этого не делал… И хотя свидетельство руна почти ничего не значит.
– Ее взял охотник, – сказал кто-то. – Но ее гонец это видел и пришел к нам.
И снова поднялся крик:
– Тебе здесь небезопасно!
– Сипадж, народ! Кое-кто должен подумать! – взмолился Супаари, прижав уши к голове, чтобы заглушить галдеж.
Ха'анала уже была голодна, тычась мордочкой в плечо Кинсы, но перепуганная девушка лишь бессмысленно раскачивалась.
– Кинса, – сказал Супаари, положив ей на голову свою руку, все еще лишенную когтей, – дитя мое, вынеси малышку наружу и покорми. Провизия в багаже. – Снова повернувшись к старейшинам, он спросил: – Охотник, который сюда пришел, где он сейчас?
Внезапно наступила пугающая тишина. Ее нарушила юная женщина.
– Кое-кто его убил, – сказала Джалао ВаКашан.
Если бы она разразилась пением, Супаари был бы ошеломлен меньше. Он переводил взгляд с одного лица на другое, видя подтверждение в раскачивании и ерзании тел, и думал: «Мир сошел с ума».
– Джанада говорят: должен быть баланс, – произнесла Джалао, не опуская ушей.
Ей было, наверно, семнадцать. Выше, чем сам Супаари, и столь же сильная. Но без когтей. Как же она…
– Рождение за рождение, – говорила Джалао. – Жизнь за жизнь. Смерть за смерть. Кое-кто сделал баланс за Пакварин.
Супаари откинулся на свой хвост, точно безродный пьяница. Он слышал о подобных случаях – были и другие руна, смевшие убивать джана'ата, хотя после этого большинство мятежников отбраковывали. Но здесь, в Кашане? Да как такое возможно!..
Осев на каменный пол, Супаари стал обдумывать ситуацию. О том, что он торгует с деревнями Кашан и Ланджери, знали многие. И ни в одном из южных городов ему не укрыться. Его видели на барже, поэтому за речными портами будут приглядывать. Кусочки его постели разошлют по всем постам: куда бы он ни попытался бежать, его запах будет там известен.
– Сипадж, Супаари, – услышал он чей-то голос.
Манужай, понял Супаари и, вскинув глаза, увидел того впервые после смерти его дочери Аскамы, случившейся почти три года назад.
– А ты не можешь сделаться хаста'акалой?
– Сипадж, Манужай, – тихо произнес Супаари. – Кое-кто сожалеет о твоей утрате.
Уши вакашани уныло поникли. Супаари вновь повернулся к остальным, слыша, как невыполнимая идея о превращении его в хаста'акалу прокатилась по толпе.
– Никто не примет этого как хаста'акалу, – произнес он. – Когда кое-кого сделали Основателем, он отдал все, что у него было, на обеспечение новой линии. У него нет имущества, чтобы расплатиться с попечителем.
– Тогда мы станем твоими попечителями, – воскликнул кто-то, и эту идею подхватили с энтузиазмом.
Намерения у них был и добрые. Попавший в беду человек мог обменять свое имущество и свои титулы на неприкосновенность от судебных преследований, если находил того, кто брался его содержать, удерживая от включения в списки государственных пособий. В обмен за кров и стол хаста'акала отдавал попечителю всю собственность, а его кисти рассекались – пожизненная гарантия против превращения его ввахаптаа, браконьера.
Супаари встал, чтобы все могли его хорошо видеть.
– Кое-кто сейчас объяснит. Попечитель должен быть способен кормить того, кого принимает как хаста'акалу. Этого вы не сможете кормить, – сказал он как можно мягче.
Теперь они поняли. У руна не было доступа к государственным мясным пайкам, и, само собой, они не имели права охотиться. Раздался негромкий перестук хвостов, поднимаемых и роняемых на камень в жестах смятения и сожаления, а общий гомон сменился унылым молчанием.
– Сипадж, Супаари, – сказал тогда Манужай, – мы можем кормить тебя сами. Кое-кто готов на это. Его жена и ребенок умерли. Кое-кто лучше станет твоей едой, чем добычей постороннего.
Манужая поддержали другие:
– Сипадж, Супаари, мы можем сделать тебя хаста'акала.
– Вакашани могут за тебя поручиться.
– Этот кое-кто тоже готов.
– Мы сможем тебя кормить.
До конца своих дней Супаари будет помнить это чувство, когда под его ногами будто закачался грунт, словно началось небольшое землетрясение. И первые мгновения ощущение было столь реальным, что он окинул руна изумленным взглядом, удивляясь, почему они не выбегают наружу, спасаясь от неминуемого обвала.
«Почему бы нет?» – подумал Супаари затем. С незапамятных времен руна разводили для того, чтобы они служили джана'ата при жизни и поддерживали их после своей смерти. Манужай явно тоскует в одиночестве; и если этот рунао не хочет жить… Супаари вновь ощутил, как закачалась земля. Даже сейчас он не колеблясь съел бы пищу, которую привез с собой из Кирабаи! Но она не была… плотью знакомых людей. Супаари никогда не брал мяса из своих деревень или своей резиденции. На самом деле, он даже никогда не убивал свою добычу. Он же городской человек! Он получал уже готовое мясо, ему и в голову не приходило… Тут нет ничего неправильного; это вполне естественно. Все умирают. Было бы расточительством, если…
Знакомые рунао.
Выйдя из зала для собраний на край террасы, где скала круто обрывалась к реке, Супаари уставился вдаль и расплакался бы, как ребенок, если бы был один. Нет, подумал он, оглянувшись на вакашани и видя их новыми глазами. Лучше умереть с голоду. Подумав так, он наконец, спустя столько времени, понял, почему Сандос, который, как Супаари знал, был плотоядным, живя в Гайджуре упрямо настаивал, чтобы его кормили как рунао. «Но я не могу есть, как рунао, – сердито подумал Супаари. – И я не буду жрать падаль!»
Для него и его ребенка оставался единственный достойный путь. Пещера из сна, вспомнил Супаари, и увидел себя – заблудившегося, с дочкой на руках.
Когда он заговорил, голос его звучал твердо:
– Сипадж, народ, этот кое-кто не может принять ваше предложение.
– Но почему? – поднялся крик.
Супаари пожал плечами – жест, которому он научился у Сандоса, чужеземца, запертого в ловушке, из которой он не мог сбежать и которую едва ли понимал. Но руна были практичным народом, и поэтому Супаари прибегнул к очевидным фактам.
– Как хаста'акале кое-кому рассекут кисти. Этот кое-кто не сможет… добывать пропитание, даже когда его предлагают с такой сердечной щедростью.
Манужай произнес:
– Сипадж, Супаари, мы сделаем тебя хаста'акалой, а Джалао будет добывать еду за тебя. Она знает как. А остальные научатся!
Снова раздался взрыв радостного согласия. Вакашани окружили Супаари, хлопая по спине, заверяя в своей поддержке, довольные тем, как они решили его проблемы, и счастливые помочь этому джана'атскому торговцу, который всегда был с ними добр и порядочен. Противиться было почти невозможно, но Супаари встретился глазами с Джалао, стоявшей в стороне от других.
– Лучше умереть по достойной причине, – сказала Джалао, удерживая его взгляд, точно охотник, но казалось, она предлагает смерть самому Супаари, а не Манужаю.
Остальные радостно поддержали эту мысль; ни один варакхати – ни руна, ни джана'ата – еще ни разу не говорил: «Лучше жить».
Не в силах вынести пристальный взгляд Джалао, Супаари отвел глаза. Он согласился обдумать предложение хозяев и пообещал к утру принять решение.
Изготоваливаемые из вулканического стекла рунские лезвия были острее любой стали, а образовавшиеся при раскалывании края были столь тонкими, что Супаари вряд ли бы почувствовал боль. Несколько быстрых, точных ударов по кожистым перепонкам между пальцами, и эти короткие, массивные персты почти бескровно распадутся, оставшись незакрепленными. В какой-то мере Супаари уже адаптировался к уменьшению их полезности, откусив себе когти несколько дней назад. Он ожидал, что его кисти станут еще более неловкими, но в его распоряжении всегда были руна, заботившиеся о его одежде, записывавшие за него, открывавшие ему двери, приводившие в порядок его шерсть, готовившие еду. Бывшие его едой.
В физическом смысле хаста'акала было тривиальной процедурой – но необратимой. Необратимое изменение в статусе! Прежде Супаари встречал неприятности с убежденностью, что сможет каким-то образом повернуть их к своей выгоде, но если он примет хаста'акалу, то признает свою вину. Он на всю жизнь будет помечен как зависимый, причем от руна! И хотя Супаари признался себе, что всегда зависел от руна, – все равно это было ужасно.
Если не считать Сандоса, Супаари не был знаком ни с одним хаста'акалой. Как только их принимали попечители, эти люди переставали интересовать правительство, и ничто не мешало им свободно разъезжать – ничто, кроме стыда. Теперь Супаари понимал, почему джана'ата, подвергшиеся этой процедуре, почти всегда отстранялись от общества, уединялись, точно женщины, не желая, чтобы их видели. Он и сам с трудом выносил присутствие жителей деревни, весь вечер продолжавших радостно обговаривать свои планы по уходу за ним и обсуждать очередность, в которой Джалао будет забивать старых…
Ночью, во время нескончаемой слепой муки, не облегченной сном, Супаари понял, что их исполненная благих намерений задумка не сработает. Если деревенская корпорация станет кормить Супаари и Ха'аналу; она не сможет сдать государству свою квоту. И то, что рунская корпорация берет под свое попечительство хаста'акалу, было беспрецедентным. А рунао, забивающий другого рунао, – допустимо ли это? И что решит Суд, предугадать нельзя. Скорее всего, это соглашение не выдержит судебного расследования, а даже если выдержит, Хлавин Китери может своим указом аннулировать контракт на хаста'акалу.
К первому рассвету Супаари принял решение уйти в пустыню и умереть там вместе со своим ребенком.
– Сипадж, народ, – воззвал он, когда руна проснулись, а его зрение обрело остроту. – Вы в опасности, если кое-кто здесь останется. Этот кое-кто будет лишь угрозой для Кашана и для всех его жителей. Кое-кто возьмет Ха'аналу и покинет деревню, чтобы не причинять вам вреда.
Они бы просто не позволили Супаари уйти; они были руна, и без консенсуса тут не могло происходить ничего. Дискуссия показалась ему бесконечной, и он все сильней хотел убраться из деревни, теперь и вправду боясь того, что может произойти, если его здесь обнаружат.
В конце концов Джалао уронила хвост на камень и бесстрастно произнесла:
– Отведите его в Труча Саи.
13
Неаполь
декабрь 2060–июнь 2061
– Почему нет? – спросила Селестина.
– Потому что он просил нас не приходить, cara, – очень внятно произнесла Джина Джулиани, теряя терпение при четвертом прохождении через линию допроса.
Было трудно справиться с собственным разочарованием, а тут еще снова и снова приходится объяснять Селестине. «Так и живем», – подумала Джина и постаралась удержать вздох, сливая воду из кастрюли с пастой.
– Но почему? – хныкала Селестина. Упершись локтями в кухонный стол, она покачивала маленькой попкой вперед-назад.
– А что Елизавета будет есть? – спросила она лукаво: внезапное вдохновение.
Джина вскинула взгляд. «Неплохо, – подумала она. – Очень неплохо». Но вслух сказала:
– Я уверена, что у брата Косимо сыщется для Елизаветы много овощей. – Она посмотрела на Селеcтину. – Это ровным счетом семьсот тридцать первая порция макарон с сыром, которую я тебе приготовила. Причем лишь в этом году.
– Это много пальцев, – сказала Селестина и хихикнула, когда ее мама засмеялась. – А завтра мы сможем пойти?
На секунду Джина закрыла глаза.
– Cara. Пожалуйста. Нет! – громко сказала она, добавляя к пасте сыр.
– Но почему нет! – завопила Селестина.
– Говорю тебе: я не знаю! – завопила в ответ Джина, брякнув тарелку на стол. Переведя дыхание, она сбавила тон: – Cara, садись и ешь. Голос дона Эмилио звучал немного сипло…
– Что такое «сипло»? – спросила Селестина, не прекращая жевать.
– Проглоти, прежде чем говорить. Сиплый означает хриплый. Как у тебя, когда ты на прошлой неделе простудилась. Помнишь, как смешно звучал твой голос? Возможно, он заразился от тебя и неважно себя чувствует.
– А сможем мы пойти завтра? – снова спросила Селестина, набив рот.
Вздохнув, Джина села напротив дочки.
– Какая ты упрямая! Послушай. Подождем до следующей недели, а там поглядим, как он будет себя чувствовать… Может, спросим у мамы Пии, нельзя ли ей прийти поиграть после ленча? – весело предложила Джина и возблагодарила Бога, когда отвлекающий маневр сработал.
Этим утром Эмилио Сандос впервые позвонил Джине Джулиани, неудовольствие, которое она при этом испытала, мигом улетучилось, когда он спросил, нельзя ли отменить их обычный пятничный визит. Естественно, Джина согласилась, но поинтересовалась, все ли у него в порядке. Прежде чем Сандос успел ответить, она придумала объяснение для необычной резкости его тона и с некоторым беспокойством спросила, не заболел ли он. Последовала долгая пауза, затем Джина услышала холодный ответ:
– Надеюсь, нет.
– Извините, – сказала она чуть обиженно. – Вы правы. Мне следовало понять, что привозить Селестину не стоило.
– Возможно, мы оба ошиблись в своих суждениях, синьора, – произнес он, и холод в его голосе сделался ледяным.
Оскорбившись, Джина огрызнулась:
– Я понятия не имела, что она больна. Да и простуда была не такой уж сильной. Селестина выздоровела через несколько дней. Я уверена, что и вы выживете.
Когда Эмилио вновь заговорил, она почувствовала, что его гложет что-то, но не могла понять, что именно.
– Mi scuzi, signora.[16]16
Прошу прощения, сеньора (ит.).
[Закрыть] Вы не поняли. Вина никоим образом не лежит на вас или вашей дочери.
«Вице-король», с досадой подумала Джина и пожалела, что Эмилио не включил видео, – впрочем, когда он такой, по его лицу мало что можно понять.
– С вашего позволения, мне кажется, что в данный момент вам не… удобно сюда приезжать.
Он помолчал, подыскивая слова, что удивило Джину. Обычно его итальянский был превосходен.
– «Удобно» – неправильное слово. Mi scuzi. Я не хотел вас обидеть, синьора.
Озадаченная и разочарованная. Джина заверила его, что ничуть не обиделась, и хотя это было ложью, она вознамерилась превратить ее в правду. Поэтому Джина сказала Сандосу, что ему полезно сменить обстановку, и наказала провести вечер в Неаполе. Она не сомневается, что к середине декабря простуда Эмилио пройдет.
– Никто не празднует Рождество так, как неаполитанцы, – заявила Джина. – Вы должны это увидеть…
– Нет, – сказал он. – Это невозможно.
Джина чуть было не обиделась, но она уже немного знала Эмилио и верно истолковала его суровость как страх.
– Не волнуйтесь, мы поедем вечером! Никто вас не узнает – наденьте перчатки, шляпу, темные очки, – предложила она смеясь. – К тому же, мой свекор всегда приставляет ко мне и Селестине охрану. Мы будем в совершенной безопасности!
Когда и это не помогло, Джина чуть сдала назад, заверив – с изрядной долей иронии, – что не посягает на его добродетель, и пообещав, что Селестина будет их дуэньей. Ей тут же пришлось пожалеть б своих словах. Последовала новая серия чопорных извинений. Когда разговор завершился, Джина была изумлена тем, что ей хочется плакать.
В тот же день доставили цветы.
Через неделю Джина – решительно поборов сентиментальность – выбросила их на компостную кучу. Но карточку сохранила. Конечно, на ней не было подписи – лишь стандартная записка, явно написанная продавщицей: «Мне нужно время». Что, как она предположила, было правдой, хотя и непонятной. Поэтому Джина Джулиани дала Эмилио Сандосу время – до Рождества.
Рождественский пост в этом году выдался трудным. Джина провела его с родственниками и старыми друзьями, стараясь не думать, где сейчас Карло (или с кем) и что могут означать цветы, присланные ей Эмилио. Не думать об этом Джине Джулиани удавалось плохо. Декабрь казался ей бесконечным, как и Селестине, страстно желавшей, чтобы этот месяц быстрее кончился и пришло время для большой крещенской вечеринки у Кармеллы. Как раз тогда все дети наконец узнают, что им перепадет: уголь или подарки от Бефаны – ведьмы, встретившей волхвов, когда те останавливались в Италии, направляясь повидать младенца Христа.
Все старались, чтобы рождественский праздник Селестины не был испорчен, но вместо этого портили подарками ее саму. Особенно щедры были родственники Джины со стороны мужа. Они тепло относились к Джине, которая была матерью их обожаемой внучки, и заботились, чтобы Кармелла приглашала ее на все свои вечеринки. Но хотя дон Доменико всегда отзывался о сыне с неодобрением, Карло был членом их семьи, а кровные узы значат немало.
На вечеринке Кармеллы эту тему подняла лишь семидесятичетырехлетняя Роза, тетка Карло, несклонная к излишней деликатности. Пытаясь избежать скопления друзей и родственников, а также оглушающего шума, производимого дюжиной детей, возбужденных и алчных, она и Джина укрылись в библиотеке.
– Карло придурок, – откровенно заявила Роза, когда обе женщины расселись в мягчайших кожаных креслах, забросив ноги на стильный столик. – Мужчина-то он эффектный – я понимаю, Джина, почему ты на него запала. Но он никогда не был нормальным парнем. Он сын моего брата, но я говорю тебе: Карло трахает все, что шевелится…
– Роза!
– Мальчиков, собак, шлюх, – продолжила Роза, столь же непреклонная, как Селестина. – Они думают, я не знаю, но у меня есть уши. На твоем месте я пальнула бы этому ублюдку прямо в яйца.
Прищурив таинственные и неистовые глаза заговорщицы, тощая старуха подалась вперед и с удивительной силой стиснула руку Джины.
– Хочешь, я сама пристрелю его? – спросила она.
Восхитившись этой идеей, Джина рассмеялась.
– Я справлюсь! – заверила Роза, вновь усаживаясь с комфортом. – И мне за это ничего не будет. Кто рискнет судить старую кошелку? Я помру раньше, чем подадут апелляцию.
– Роза, это соблазнительное предложение, – с нежностью сказала Джина, – но, выходя за него, я уже знала, что он – мерзавец.
Роза пожала плечами, нехотя соглашаясь. Ведь ради Джины Карло оставил свою первую жену. Что еще хуже, Джина Домиано познакомилась с великолепным Карло Джулиани в гинекологической клинике; она была медсестрой, ухаживала за любовницей Карло после чудовищного аборта, сделанного с изрядным опозданием. Джина до сих пор помнила отстраненное ощущение собственной глупости, когда, загипнотизированная его внешностью, вдруг осознала, что приняла неотразимо очаровательное предложение Карло поужинать с ним в тот первый вечер.
Ей не следовало удивляться, застав его с новой любовницей, но в то время Джина была беременна Селестиной и совершила ошибку, дав волю гневу. Первое избиение стало для нее таким шоком, что она едва могла поверить в случившееся. Позже Джина вспомнила синяки девушки, которую выхаживала, и объяснения Карло. Признаков было более чем достаточно – Джина сама виновата, что их игнорировала. Она подала на развод; затем поверила его обещаниям; опять подала.
– Как бы то ни было, ваш брак все равно бы не сложился, сказала Роза, прерывая мысли Джины. – Я не хотела говорить этого перед свадьбой – всегда надеешься на лучшее. Но Карло так часто в разъездах – вся эта космическая чепуха!.. Даже если б он не был мерзавцем – его же никогда не бывает дома.
Наклонившись вперед, Роза понизила голос.
– По-моему, это главным образом вина моего брата, – продолжила она. – Видишь ли, обличьем Карло пошел в родню моей невестки. Даже когда они только поженились, Доменико гулял направо и налево и не мог представить, что его жена этого не делает. Никогда не верил, что Карло – его сын. Постоянно брызгал на него ядом. И чтобы компенсировать, моя невестка баловала Карло, испортив его напрочь. Знаешь, почему Кармелла получилась такой славной?
Вскинув брови, Джина покачала головой.
– Родители ее игнорировали. Это было лучше всего! Они были так заняты, сражаясь из-за Карло, что никогда не отвлекались на дочь. А теперь взгляни на нее! Хорошая мать, отличная стряпуха, прекрасный дом – и, Джина, она очень деловая. Неудивительно, что теперь Кармелла заправляет всем!
Джина засмеялась:
– Оригинальный метод воспитания! Заведите двух малышей и сосредоточьтесь на том, чтобы погубить одного.
– По крайней мере, тебе не придется за Карло ухаживать, когда он состарится, – философски заметила Роза. – Я думала, Нунцио никогда не умрет!
Джина знала, что это блеф. Роза любила Нунцио и очень по нему тосковала, но, в отличие от большинства неаполитанцев, не желала впадать в оперную банальность. Это была черта, которая сближала обеих женщин – через поколения.
– Мужчины говнюки, – заявила Роза: – Найди себе двенадцатилетку и воспитывай должным образом, – посоветовала старая леди. – Это единственный способ.
Прежде чем Джина успела ответить, в комнату ворвалась Селестина – щедрая компенсация за недолгий брак с эффектным мерзавцем. Рыдая, она выдала обширный список претензий, обвиняя своих кузенов, Стефано и Роберто, в нескольких злодеяниях, проделанных с ее новой куклой-невестой и космическим грузовозом.
– Безнадежно, – всплеснув руками, молвила тетя Роза. – Даже мелкие – и те говнюки.
Покачав головой, Джина направилась в детскую комнату, чтобы установить перемирие.
* * *
В ту зиму Джина иногда вынимала из ящика комода цветочную карточку и глядела на нее. Вскинув руку, она громко, с присущей Сандосу античной церемонностью произносила: «Не требуется никаких объяснений». А их и не будет, поняла она, когда недели обернулись месяцами. Каждую пятницу Джина оставляла в трапезной у Косимо корм для морской свинки и мешочек со свежей подстилкой. После первых двух визитов она взяла себе за правило выполнять это, пока Селестина находилась в детском саду. Было достаточно тяжело объяснять малышке отсутствие и непостоянство Карло, чтобы пытаться объяснить еще и поведение Эмилио Сандоса. Однажды в начале весны Джина, доведя себя до ярости, подумала, не постучать ли в дверь Сандоса, дабы сказать ему, что он волен игнорировать ее, но не Селестину. Но почти сразу расценила это намерение как смещенную эмоцию, нацеленную скорее на Карло Джулиани, нежели на бывшего священника, которого она едва знала.
Джина сознавала, что ее интерес к Эмилио Сандосу замешан на романтическом идиотизме, уязвленной гордости и сексуальных фантазиях. «Джина, – говорила она себе, – Карло, разумеется, придурок, но ты – дура. Хотя с другой стороны, – прозаично думала она, – фантазировать о смуглом, погруженном в себя мужчине с трагическим прошлым куда занятней, чем рыдать из-за того, что некий мерзавец променял тебя на мальчика-подростка».
И Эмилио прислал ей цветы. Цветы и несколько слов: «Мне нужно время». Это подразумевает что-то, разве нет? Она не все выдумала. У нее есть записка.
Возможно, Джина хотела некой золотой середины между беспредельно изобретательным красноречием Карло и суровым, замкнутым молчанием Эмилио Сандоса. Но в итоге она решила играть по правилам Эмилио, даже если не вполне их понимала. И, похоже, иного выбора у нее не было – разве только вообще про него забыть. А это, как обнаружила Джина, был явно не выбор.
Что он ей мог сказать? «Синьора, возможно, я заразил вас и вашу дочь смертельной болезнью. Давайте надеяться, что это не так. Но прежде, чем мы узнаем, пройдут месяцы». Не было смысла ее пугать – он достаточно напуган за обоих. Поэтому Эмилио Сандос взял себя в заложники – до тех пор пока не сможет с полной убедительностью доказать себе, что не представляет опасности для других. Это потребовало от Эмилио усилий воли и полного изменения стратегии в его войне с прошлым.
Жизнь в одиночестве позволила ему с честью отступить с поля битвы, которым сделалось его тело. Служа когда-то источником удовольствий, оно стало нежеланным бременем, которое – за его непрочность и уязвимость – следовало наказать равнодушием и презрением. Эмилио его кормил, когда голод начинал мешать работе; давал ему отдохнуть, когда уставал настолько, что мог спать, несмотря на кошмары; ненавидел, когда оно подводило: когда почти ослепляла головная боль, а руки болели так сильно, что Эмилио смеялся, сидя в темноте, – боль, комичная в своей интенсивности.
Никогда раньше он не ощущал такой полной отчужденности от самого себя.
Эмилио не был девственником. Не был он и аскетом; обучаясь на священника, он пришел к выводу, что не сможет жить в целибате, если будет отрицать или игнорировать телесные потребности. Это мое тело, сказал он своему безмолвному Богу, это то, что я есть. Он обеспечил себя сексуальной разрядкой и знал, что ему это столь же необходимо, как еда или отдых, как отсутствие греховности, как желание бегать, играть в бейсбол, танцевать.
И все же Эмилио сознавал, что слишком гордился своей способностью контролировать себя и что это стало одной из причин его реакции на изнасилования. Когда он начал понимать, что от сопротивления ему делается лишь хуже, а те, кто им пользуется, получают еще большее удовольствие, то попытался сделаться покорным, игнорировать их, насколько возможно. Но это оказалось выше его сил: нестерпимо, невозможно. И когда он больше не мог выносить насилия, то решил, что скорее убьет или умрет, чем покорится еще раз, – и это стоило Аскаме жизни. Было ли изнасилование его наказанием за гордыню? Чудовищный урок смирения, однако такой, который Эмилио мог бы усвоить, если бы за его грехи не погибла Аскама.
Во всем этом не было смысла.
Почему Бог не оставил его в Пуэрто-Рико? Эмилио никогда не искал и не ждал духовного величия. Много лет он, не жалуясь, был solo cum Solus – одиноким с Одиноким, не слыша и не ощущая Бога, ничего не ожидая от Него. Эмилио жил в обществе, не будучи его частью, и жил в непостижимом, не будучи его частью. Он был доволен своей судьбой: бывший ученый, приходской священник, работающий в трущобах своего детства.
Но на Ракхате, когда Эмилио Сандос открыл свою душу, ее, против всех ожиданий, наполнил Бог – даже не наполнил, а наводнил! Эмилио ощущал себя затопленным, утонувшим в сиянии, оглушенным этой мощью. Он не добивался этого! Он не гордился этим, не воспринимал как награду. То, что его заполнило, было несоизмеримым, незаслуженным, невообразимым. Это было Божьей милостью, дарованной ни за что. По крайней мере, так он тогда полагал.
Было ли это самонадеянностью и неверием: считать, что миссия на Ракхат является частью некоего плана? До той самой секунды, когда джана'атский патруль начал убивать детей, не было ни предупреждения, ни намека, что они совершают роковую ошибку. Почему Господь покинул их всех: и землян, и руна? Откуда это безмолвное, жестокое равнодушие – после столь явного вмешательства?
«Ты совратил меня, Господи, и я позволил Тебе, – плача, читал он слова Иеремии, когда ушел Калингемала Лопоре. – Ты изнасиловал меня, и я сделался объектом осмеяния».
Возмущенный тем, что вера может подвергаться такому испытанию, стыдясь, что провалил этот экзамен, Эмилио Сандос знал лишь, что не смог принять неприемлемое и благодарить за это Бога. Поэтому он оставил свое тело, оставил свою душу безоговорочно сдал их силе, чем бы она ни была, нанесшей ему поражение, и попытался жить исключительно рассудком, над которым еще сохранял власть. И на какое-то время нашел если не мир, то, по крайней мере, некое шаткое перемирие.
Дэниел Железный Конь положил этому конец; что бы ни произошло на Ракхате и кто бы в этом ни был виновен, но Эмилио Сандос был жив, и от него многое зависело. А потому, сказал он себе, взгляни правде в глаза.
Эмилио стал питаться три раза в день, принимая еду словно лекарство. Он опять начал бегать, петляя по спящим садам, окружавшим приют, и преодолевая каждое утро, при любой погоде по четыре мили. Дважды в день Эмилио заставлял себя делать перерыв в работе и, осторожно ухватив гантели, методично нагружал мышцы рук, которые выполняли двойную работу, через механизмы скреп косвенно контролируя пальцы. К апрелю он почти добрался до второго полусреднего веса, а рубашки больше не болтались на нем, как на вешалке.
Приступы головной боли продолжались. Кошмары не прекращались. Но Эмилио упорно отвоевывал потерянную территорию и на сей раз намеревался ее удержать.
Было необычно прохладное утро начала мая, а Селестина находилась в детском саду, когда Джина Джулиани, выглянув в окно кухни, увидела в конце аллеи человека, разговаривавшего с охранником. Купленный ею серый замшевый пиджак она узнала раньше, чем самого Сандоса, и собралась было сделать что-нибудь со своими волосами, но передумала. Натянув шерстяную кофту, Джина через заднюю дверь вышла ему навстречу.
– Дон Эмилио! – с широкой улыбкой сказала она, когда тот приблизился. – Вы не выглядите больным.
– Я здоров, – произнес он без тени иронии, откликаясь на машинальную шутку, словно понял ее буквально. – Раньше я не был уверен, но теперь знаю. Синьора, я пришел просить прощения. Я посчитал, что лучше быть грубым, чем тревожить вас понапрасну.








