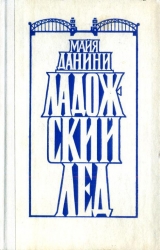
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Бабушки так суетились возле нее, готовя ушицы и вареники с вишнями или черникой, а она не ела совсем эту всю их снедь и сердила их нещадно, но и заставляла слушать себя: «Мне не так уж важно, что именно я ем».
Да, мы завидовали ей, очень, очень завидовали и сердились особенно потому, что она нисколько, ничуть не завидовала нам, не думала о нас вообще, не знала, почти не знала нас. Этот ее мостик, ее пьедестал, ее одиночество – все это так занимало нас, так удивляло и даже приводило в расстройство, потому что она была вполне довольна всем.
Она читала, да, она много читала и подробно, так небрежно-углубленно, так быстро-углубленно, так великолепно читала, что казалось, будто она и не читает даже, но все равно знает.
* * *
И вот она приехала, и мы видели, что выгружают велосипед, прекрасный, сверкающий, новенький велосипед выгрузили из машины и вкатили в сарайчик – такую прелесть – велосипед… Мы так загляделись на него, что не рассмотрели даже толком Раю, которая помахала нам рукой и даже улыбнулась нам – прекрасная Рая, любимая Рая, выросшая настолько, что уж нам и подойти было страшновато, ведь она казалась всегда взрослой, теперь была взрослой. Вилась по спине ее коса до колен, ах какая коса, какие волосы, шея, ноги. И самое удивительное – плечи, грудь. Мы, все еще плоские, как щепочки, мы, все еще способные купаться в одних трусах или даже без трусов, а она – в купальнике, и этот ее теплый взгляд уже совсем взрослый и даже не высокомерный, потому что она и в самом деле была взрослой, подросшей девушкой, длинноногой и величественной, как аист.
Велосипед отвлек наше внимание настолько, что мы даже не посмотрели, что с ней приехал мальчик, меньше ее ростом и вообще младше, но приехал и разгружал вещи. У него тоже был велосипед, поменьше, чем у Раи, только был тоже, а у нас не было велосипедов, совсем никогда, даже плохих, старых, ржавых, о чем мы сожалели.
Только через некоторое время мы разглядели мальчика – какой смешной и славный мальчик, курносый, веселый, общительный и приветливый, полная противоположность Раи, но оказалось – ее брат! Брат? Столько лет его не было, и вот явился уже взрослый брат.
Да, брат, братик Саша со своим маленьким велосипедом, со своим смехом, книгами, картонками, коробками, удочками и даже надувным матрасом, латаными-перелатаными, смешными, выгоревшими шляпами, будто он был туристом, альпинистом, прошел все горы-окияны, прошел моря и реки…
Смешной Саша, никак не похожий на Раю, даже такой белокурый, что страшно было смотреть, будто он альбинос, такой голубоглазый, такой бледный, с розовым носом, такой неуклюжий рядом с ней, а она тоже как-то неуловимо стала похожа на него, особенно в улыбке и в повадках, – он оставался на ее попечении, и она улыбалась ему его улыбкой, снисходила.
Они спокойно и просто разговаривали друг с другом, будто всегда так вот жили вместе и всегда только и делали, что приезжали на дачу, это их нисколько не утомило, не привело в то несчастное и даже жалкое состояние, в котором пребывали мы, когда прибывали – будто из далекого похода. Мы приезжали совершенно замотанные, на грузовике, привозили все: от продуктов до кресел, от подушек до цветов, привозили котов и аквариумы, привозили даже то, что не имело никакого назначения – например, сундучки для того, чтобы они не оставались дома, старую обувь и всякую всячину, которая могла бы служить кому-то там – хозяевам – для чего-то. Помню, что привезли однажды елочные игрушки – правда, случайно в коробке, в спешке захватили не тот ящик, привезли, чтобы тут же отправить назад, потому что они могли потеряться и разбиться – старинные игрушки, когда здесь, возле наших мест, был завод, и где с петровских времен выдували стекло, и в том числе игрушки. У каждого в доме были эти игрушки – красивые и безобразные, старинные куски стекла под драгоценные камни, просто глыбы стекла и даже дорогие хрустали, которые отливали золотом и серебром.
Здесь игрушки совсем никому не были нужны.
Мы привозили все, а они будто ничего, только велосипеды и самое необходимое, после оказывалось, что у них все есть, а у нас только и есть, что пустые сундучки да игрушки. Мы, например, привозили самовар, чтобы однажды, дважды в лето почистить и поставить его, хотя у хозяев был свой самовар, который всегда кипел. Наши сундучки очень нравились хозяевам, и они оставляли их себе с радостью, равно как и старую обувь и всякие вещички, которые хозяйка переделывала, или носила, или плела из них половички, ткала коврики, шила из лоскутков одеяла или просто наряжалась в праздники. Например, ходила в шляпе, прекрасной когда-то шляпе, с вуалеткой: надевала ее и перчатки и выходила на огород полоть, полола мелкую травку, и руки ее оставались чистыми в этих лайковых перчатках, а в праздники наряжалась в старинную скатерть, которую принимала за шаль и накидывала на плечи.
Они приехали, все сразу переменилось, будто стало новым и особенно занимательным, не только тем, что занимало до сих пор, но еще и тем, что занимало их. А его, Сашу, занимало все – он ведь был здесь в первый раз, он не знал наших мест, ничего не знал из того, что знали мы сами. Он не знал даже, что здесь водятся утки и ондатры, не знал, как нам нравится и как мы хотим жить на мельнице, не знал даже само озеро и его глубину. О, мы почувствовали себя такими владетельными, такими богатыми и хотели радоваться его глазами, не только своими.
Погода! Какая была погода, редко стоит такая погода, когда легко дышать и жить на свете. Бывает солнце, тепло, но тяжесть и нерадость даже от этой прекрасной жары и ветерка, бывает тягостно все, особенно медленно и тяжело идет такое время – ожидания, волнения и всякой ерунды, а бывает легко в дожди и ветер, в снег и бурю, только люди не различают этого своего состояния, а сердятся.
Саша был веселым и не знал расстройства вообще. Смеялся он как ребенок, хотя ему было столько, сколько и нам. Он смеялся во весь рот, он кричал и бегал точно так, как мы, сломя голову, точно так он восхищался всем, радовался озеру и всякой травинке, радовался и дому: пустому, доброму, заждавшемуся за зиму садику и спуску к озеру.
– Какой песок, какая тень, какая вода! – кричал Саша.
Ему нравилось все, и нам – особенно, следом за ним.
Чужие глаза, которые рады твоему счастью, особенно радуют тебя, когда ты умеешь радоваться. В доме так славно пахло духом детской новизны, и я знала, что Рая мечтала сразу поставить и надуть матрасик, лечь на него в тени черемухи, раскрыть книгу и читать, есть шоколадку или другую какую-то сладость, припасенную на случай вкусного чтения и вкусного первого дня загара и солнышка; так оно и случилось, так все и было: она лежа читала, пока комары не заели ее. Погода уже ленилась быть хорошей и светлой, природа вдруг вся расцвела разом – от сирени до черемухи, и даже сама Рая стала теплее и ленивее. Она пришла к нам с Сашей. Теперь она была нашей только потому, что соскучилась. Она угощала нас шоколадом и велосипедом, гамаком и собой, главное – собой, своей улыбкой, своим откровенным и спокойным взглядом… О, мы были рады, так рады этому!
Мы уезжали на мельницу и там показывали им, как надо восстановить эту мельницу, и Рая, смеясь до слез, помогала нам одной рукой или совсем не помогала, только смеялась и сидела возле реки. Зато Саша старался изо всех сил, он один старался, и больше нас. Всякую нашу глупую затею он понимал раньше нас и принимал как должное. Он умел сделать все лучше нас, куда лучше. Он умел даже найти где-то гвозди, тут, на мельнице, старинные гвозди, и приколачивал ими доски, которые тоже вынимал из воды, из грязи, куда их бросали под колеса, чтобы вытащить машины или телеги, которые там застревали.
И скоро можно было пройти по мосту, скоро можно было войти на мельницу и посмотреть в окно, скоро можно было уже даже вылезти из окна, пройтись по мосткам, пробежать и снова войти на мельницу.
Это нам нравилось, даже очень нравилось – лазать туда и сюда, бегать и скакать по одной доске новых мостков через реку.
И Рае нравилось, хотя она все равно смеялась над всеми затеями Саши – нашими затеями, смешными, конечно, но мы так гордились ими, этими мостками и долго рассказывали после, как было великолепно на реке.
Мы садились на велосипеды – на раму, на багажник и ехали, ухали, ахали, смеялись, пока не сломали Сашин велосипедик, пока он не треснул, пока не вылетели спицы и мы следом за ними с велосипеда, вместе с Сашей.
Велосипед, казалось, уж кончился, пропал совсем, мы шли пешком, все так же смеясь и радуясь неизвестно чему – просто тому, что были веселый теплый день, и веселый голод, и хорошее настроение.
Мы хохотали и тащили на себе велосипед. «Тебе теперь попадет!» – говорили мы, забывая, что не от кого ждать наказания Саше и Рае, совсем не от кого. Это нам могло попасть или не попасть, это нам могли не дать чего-то, а не им. Они были одни, и оказалось, у них было даже запасное колесо. Было целое колесо. Саша его переставил сразу же, и велосипед снова покатил, только уж мы не садились на него все разом.
* * *
О, как я хочу снова попасть в тот острый, пахнущий, светлый и темный, яркий и блеклый, богатый и бедный мир моего дачного детства, с его ласковым и нежным ветерком, пахнущим навозом и вкусной, тонкой, как пудра, пылью, с его колючим вересковым духом, банным, лопушиным, комариным, коровьим, грибным, черничным духом свежести и прелести бытия, когда просыпалась от тягучего коровьего мычания и сразу, с первого взмаха ресниц, радовалась или даже не сразу, а через некоторое время приходила в себя и, чувствуя горячий и радостный плеск солнца на окне, предвкушала день, весь из желаний, часто перебивающих друг друга – что лучше: читать в гамаке, бежать за черникой в лес, купаться и плыть за хлебом в чужое дачное место, где все казалось красивее, чем у нас, вдыхать аромат свежего черного хлеба и съедать его углы, пока везешь домой, хлеба с маслом, вдыхать даже дух сельского магазина, вдыхать влажный болотный дух или дух сосен, крапивы, молока и колодца.
Как мне хочется воскресить все в том новеньком виде, как было тогда, когда смеялись и веселились волосы и лаковая моя челка, когда пятки щекотали иголки от хвои на тропинке, когда важно и горделиво шагала Лиля, ездил возле нас кругами Саша и мы обе, не отдавая себе отчета в том, старались его пленить, вовлечь в ту игру, о которой столько начитались, наслышались, но все еще не ведали, а он не начитался и совсем не ведал ее – игры во влюбленность, в почитание женщин, девочек, он ее не знал и знать не хотел совсем, и мы, стыдясь того, что знаем и вовлекаем, вдруг поддавались его желаниям бежать, рушить, строить, прятаться, катать мяч, кидать и ловить его, срывать репейники, сбивать их головки прутом и кричать не своим голосом.
Тот новенький мир без машин и мотоциклов, без всех возможных и невозможных транзисторов и моторов – он есть, он тут, под боком, и даже в лучшем виде – прибран и чист, асфальтирован и доступен, тут ходит автобус и не надо плестись за тридевять земель пешком через леса и болота, шаткие мостки и броды, тут и озеро то же самое, обмелевшее и тинистое, озеро, которое уже не пахнет той первозданной чистотой и чистым бельем, озеро, которое уже не манит так яростно окунуться, погрузиться в его чистоту, оно кажется подозрительно мутным, а тропинки истоптанными, пустыми, без единого грибка и ягодины, без всякого таинства, радости, что сулила тогда всякая ямка под ногой, каждая перелеска, даже вид ствола и корня.
«Здесь должны водиться белые, я нашла в прошлом году», – говорили мы и долго искали грибы прямо на дороге, в каждой колее, в которой действительно нашли когда-то там, в какие-то грибные времена.
Боже, как хочется воскресить – и воскрешаешь, сколько можешь, всю остроту бытия, осеннего, осенней радости, грибной, пахучей, усталой, полнокровной радости осени, особенного грибного утоления, когда всякий найденный гриб казался таким лакомым, когда каждый желтый лист был шляпкой гриба, когда постоянно хотелось есть, хотелось вкусного, и каждая малинка таяла во рту и казалась конфетой, а липкая конфета была такой ценностью, с которой могло равняться только мороженое.
Видела малину, ветку из окна, гнутую, украшенную ягодами, казавшуюся нарядной, как елка, и застывала в созерцании этой малины, а потом срывалась и сшибала с ног Сашу или Лилю, бежала с криком: «Малина!» – будто ее не было целую вечность, прорывалась сквозь липкие, паутинные кусты, царапавшие меня, мое лицо, но не замечала ничего и добиралась до этой малины, рвала ее и ела, ощущая дивное блаженство сладости и аромата ягод.
* * *
Дом Саши и Раи, пустой, без взрослых, священный дом, где можно было делать все, что угодно, даже валяться на постелях, даже топить печь; пустой, прелестный дом, коричневый от времени и в то же время чистый, как баня, где не было никаких признаков чужого запаха, чужой жизни, только запах веников и щелочи, где камни пахли копченым, где можно было бы даже поцеловать Сашу или разрешить ему поцеловать – о чем, собственно, и мечтали, вероятно, и он, и мы, но никогда не целовали, – где можно было бы даже изжарить колбасу, купленную Раей, картошку. Дом без взрослых – как это было прекрасно, как это манило и радовало, что это было такое! Дом, где мы одни, и темные балки стен, светлого пола, особенной чистоты – нашей, детской чистоты, никому не ведомой, дачной чистоты, пахучей, с окном в сад, с окном на озеро. Кто может вспомнить, как прекрасно было ощущать себя в своих никем не контролируемых комнатах, как душно и плохо пахло в чужих домах, где парилась печь и сохли грибы, где чужие одеяла источали противный взрослый дух и даже тленный дух, а здесь все было нашим и молодым, свежим, где можно было бы делать все, но мы не делали ничего предосудительного, только топили печку, низали грибы на палки, играли в блошки на столе и упивались одиночеством, дивной бесконтрольностью, беспечием, тем, что никто не мог нас остановить, спросить, подозревая нечто безобразное, что даже нам не приходило в голову.
О, как они не понимали, взрослые, что нам так надо было войти в дом и почувствовать, что мы без надзора и без всех их воспитательных затей, окриков, подозрений не можем ничего натворить, а только отдохнуть от их тягостного воспитания, только отойти от их благих намерений, от их устремлений к тому, чтобы мы были примерными и в том стиле, как им того хотелось, чтобы действовали автоматически, не сердили их и были бы во всем удобны им.
Нам было так неудобно с ними, так тягостно, так неприятно и скучно слышать воспитательный тон, зная, что они сами в свое время тоже тяготились таким тоном и тоже хотели одиночества…
Только так редко оно случалось им и нам тоже. И вот было это – дом Раи и Саши. Книги, игрушки, конфеты, слипшиеся в коробочке, малина из окна и стол, покрытый одеялом, – наш стол. Все здесь было нашим, даже воздух наш, где никто никогда не курил, не источал тяжелого дыхания, не сердился и не воспитывал. Здесь были наша обитель и наша воля, замкнутая на засов. Все было нашим, и мы царили, входя в дом, говорили друг другу:
– Хочешь, зажарю быка?
– Котлету.
– Картошку.
– Кисель.
– Кисель не жарят, его варит.
– А как жарят котлеты?
Мы не знали, как жарить котлеты, как их готовить.
– Кажется, котлеты мелют в мясорубке.
Это говорила Рая, взрослая Рая, даже я знала, что котлеты мелят, а потом уже жарят. Нашлась и мясорубка, нашлась и сковорода, вот только не было мяса.
– А я попрошу у бабушки мяса, – сказала Лиля.
Это было бы волшебно – сделать самим котлеты и изжарить их, проглотить горячими и полусырыми, и мы с замирающим сердцем ждали, дадут ли нам мясо для котлет. И они выдали нам кусочек мяса, лук и булку, масло и соль. Нам дали все и оставили нас в покое: мы знали, что Лилина бабушка очень хочет, чтобы Лиля научилась делать котлеты и всякую снедь, и вечно приобщала ее к хозяйству. Она отдала даже мясо, которое возили и носили, ценили очень. Она все это дала Лиле, и та принесла нам мясо. Какой восторг и счастье – мясо, мясорубка, все то, что было у них, у взрослых, все то, что они умели и мы получали только из их рук, теперь могли произвести сами. Сделать то, что они, и даже накормить их. И мы привинтили мясорубку, мы промололи мясо срывающимися руками, выворачивая себе руки, почти смолов и пальцы вместе с мясом, мы сделали даже котлеты, мы развели огонь в печке и услышали уже даже дух котлет, распустив масло на сковороде, мы уже приготовились сделать эти котлеты и съесть их – горячими, обжигающими, когда забарабанили в дверь, когда почти выломали дверь с криками:
– Что вы делаете, что там происходит, ведь пожар будет! Откройте!
Все было кончено: бабушка Лили, дав ей мясо, не подумала о том, что надо еще и жарить котлеты на огне, и для этого нужен огонь в печи, она-то думала, что мы будем просто молоть мясо и готовить сырые, игрушечные котлеты, но мы так хотели есть, что ей было и не понять этого никогда, мы так хотели сами зажарить котлеты, сами сготовить их, и вот теперь, когда было уже почти все готово, когда весело плясал огонь и скворчили, радовались котлеты на сковородке, когда их аромат уже раздразнил нас совершенно, когда все было готово, бабушка ворвалась к нам и, можно сказать, вынула котлеты прямо изо рта с криком:
– Кто разрешил! Кто? Кто?..
Мы даже не понимали, о чем речь:
– Вы же разрешили, вы дали нам мясо.
– Я думала – для игры, а кто разрешил топить, и дым во всем доме, во всем поселке!
И мы молчали, снова и снова было это, ужасное: их власть и наша провинность, вечная наша провинность перед ними – виновность.
– Но ведь котлеты жарят? – полувопросительно, полудостойно спросила Рая.
– Да, жарят, но кто разрешил?
– Ну, значит, все так, как надо. Ведь я часто топлю, если холодно. Я ведь живу, и я мерзну, если дождь. Я здесь живу, – еще раз повторила она, и бабушка Лили сдалась, утихла. Она смотрела на Раю с таким видом, будто нечто нестерпимо неприличное происходило на ее глазах, но она не могла прекратить это неприличное, безобразное, дикое, она не в силах была его остановить и уничтожить. Она смирялась перед ним, останавливалась. Так длилось несколько минут, пока мы все стояли и потеряли всякий интерес к нашей затее, потеряли и аппетит, все под грозным окриком и тяжестью своей – опять! – вины и подневольности, но в этот миг (мы уж все забыли про котлеты) ее профессионально-котлетный нос чуял, что котлеты горят…
Горели наши прелестные, розовые, румяные котлетки на открытом огне, горели и пахли уж не тем блаженством собственности, а жженым, противным, взрослым и даже старческим, чем так часто пахло именно от Лилиной бабушки, – тут она мгновенно отключилась от нас и стала переворачивать котлеты, срывать сковороду с огня и кричать:
– Они горят!
В мгновение ока она преобразилась и из злобной, давящей нас фурии стала уютной, хлопотливой поварихой, для которой честь дороже всего. Она перевернула котлеты, открыла печь, поправила огонь и выпустила чад на улицу, она увидела через открытое окно салат, маленький огурец и подобрела совсем. Через несколько минут она уже послала Лилю за уксусом, сахаром, а меня в огород за этим первым – с грядки – огурчиком, и скоро мы сидели над тарелками с салатом и котлетами, и она приговаривала:
– Вот это обед с салатом и огурцами, только вы могли так сготовить, только дети так умеют жарить и все устраивать.
Она льстила нам, и мы знали, что никогда нам не приготовить ничего более восхитительного, чем она, – этот салат и эти чуть-чуть пропахшие подгорелым котлеты, которые в сочетании с салатом и уксусом казались необыкновенными, будто действительно приготовленными нами, имевшими наш вкус, а не ее. Мы принимали эту ложь и отталкивали ее.
– Никогда нельзя врать, никогда нельзя не слушать взрослых, а делать только то, что положено.
Но это уже было уксусом и перчиком к тем же котлетам, это было только немножко запаха горелого мяса, который можно было и простить ей за тем славным деревенским столом, за которым мы сидели и ели.
* * *
Какое это было великолепное лето, полное всяких удовольствий и счастья, оно казалось таким пышным, а счастье таким вечным, что никогда, никогда не приходило в голову, что может быть нечто другое, кроме этого состояния.
Такой легкостью и прелестью было все в тебе – каждая мышца дышала и радовалась, а ты была уже почти взрослой и такой ловкой, ладной, что, казалось, ничего другого не может быть лучше. И в самом деле не было ничего более славного, чем то состояние – осеннее, грибное и ягодное.
Луна топилась каждый вечер в озере и таяла, таяла, луна продолжалась в воде, вытягивала свой лик и растекалась, растекалась. Проливались легкие дожди, яркие, светлее театральных люстр, светлее светлого, ярче воды под лучами, и снова вспыхивали вечерние блики на воде и траве, на каждом листке, и мы в восторге таяли вместе с ними. Пел шмель, облепляя жухлый клевер, ероша его и перебирая лапками, доставая засохший, самый сладкий мед. И вдруг под мостками проплывала ондатра, прямо у нас на глазах, огромная, распластавшаяся, с толстым хвостом, проплывала не боясь нас, не зная, что мы смотрим, что мы тут. Откуда она? Мигом мы срываемся, бежим следом, преследуем ее – ондатра, быть того не может!
Теперь и не поверить, что в местах, где стоят огромные дома рядом с маленькими домишками, где все такое уж не деревенское, а городское, в местах, где машины едут с большой скоростью, свободно плавала ондатра. Но это была настоящая ондатра, да и теперь они, вероятно, есть в этом озере – оно осталось еще чистым…
И осень кидала нам под ноги свои сухие листья, высыпала шляпки грибов и бросала такие краски на все и даже на тусклые, старческие лица, что казалось, они могут тоже вдруг стать молодыми.
Осень поднимала из земли такую красоту, такое обилие, что нельзя было и вместить в себя, собрать и нельзя было оставить, пройти мимо – никак нельзя.
Там, где все ходили, топтались, все, кто был с нами, и ездили, там вдруг прямо на дороге появлялись грибы, росли в колеях на опушках, на кострищах. Мы собирали их и тащили домой – в корзинках и платочках, в руках, за пазухой.. Мы приносили их и высыпали на крыльцо, разбирали их, играли ими, любовались. Уж банки, кастрюли, все было полно грибами, и тогда наполнили и аквариум. Огромный мой аквариум белыми толстоногими грибами. Высадили моих рыб в банку, даже предлагали их выпустить в воду, но оставили, слушая мои вопли.
Смеялась и светилась Рая, делала то, что ей хотелось, она и должна была быть смелой в своих действиях, должна была быть такой вот радостно-величественной, даже смешной в своих действиях.
А на дорожки высыпали белые, было их так много, и все их бархатные шляпки, тугие ноги так будоражили нас, так восхищали и заставляли бежать в лес каждый день, каждый день.
Грибы лезли из травы, как жуки, ползли и ползли прямо в руки, мы их хватали, брали, дарили друг другу, а иногда отнимали, спорили, кто увидел первым, чей гриб, и все это буйство природы делало и нас буянами. Мы не замечали времени, не могли остановиться, это было похоже на бой, на атаку, и в то же время это было просто прогулкой в лес, детским лепетом на опушке.
* * *
И в этой грибной вакханалии, и в этом разгуле грибов и брусники, в дни, когда рожь клонилась до земли, появился человек в кожаной куртке, человек с кинокамерой, человек в машине, вернее, человек из машины, страшно иссушенный, весь искусственный, он шел во ржи и в этом поле казался марсианином. Он был небрежен до безобразия, он был весь из другого мира, и мы, полные жизни, смеха, цветов, остановились перед ним.
Он снял очки и показался нам оголенным без этих сложных, странных очков, похожих скорее на бинокль, чем на очки. Он снял их и глядел на нас, а мы на него во все глаза. Кто это? Кто он, откуда? С Луны? Он рассматривал нас, а мы даже и смотреть не могли, таким диким казался он на фоне яркой ржи, рядом со своей машиной.
Он был будто бы и живой – и не совсем, будто бы из гроба – и не совсем. Жалость, сострадание и даже некое понимание смешались в нас, и мы глядели на него очень долго. Все в нем и заставляло разглядывать его во все глаза, и в то же время отталкивало нас, а он, будто и не глядя на нас, все видел, и мы знали – смотрел на Раю, милую Раю, всю раскрасневшуюся и такую живую, такую полную сил. Это был уже роман, еще не совершившийся, но уже роман – вот уже совершающийся и такой, какой ему был необходим, маленький и в то же время долгий, как того хотела она, роман в одну минуту, который тянется годы.
Рая, румяная, розовая, в своем ситцевом халатике, в резиновых сапогах, такая небрежно-ладная, вся из солнца, воды и светлого песка, и он – из табачного дыма и бензина, будто синтетический.
– Где можно умыться, вымыть руки? – он говорил, будто не совсем владея языком.
– В озере! – сказали мы. – В озере же!
– В озере, – рассеянно сказал он опять с запинкой, и мы поняли, что это ему так дико, что ему нужен кран, обыкновенный кран или даже не совсем обыкновенный, а кран с горячей водой и душ.
– Озеро – это прекрасно, – грустно сказал он.
Наш поток счастья, запах леса и воды, грибов и мха, наше здоровье – все это будто бы притягивало его и заставляло оживать, и в то же время было ему тяжко.
– Я подвезу вас, – сказал человек.
Мы все согласились разом, кроме Саши, который не мог же погрузить свой велосипед в машину, да и не хотел, а нам так хотелось и было необходимо скорее, скорее добраться домой, что мы посыпались в машину, как град.
– А где озеро? – опять спросил человек.
– Да вот же! – снова в один голос сказали мы. – Вот, ехать прямо и на шоссе.
Странно было, что человек не видел озера, и как он мог не видеть его небесную, призрачную красоту, которая сияла всем в глаза, бросалась и виделась всюду, даже в той низинке, где мы стояли.
– А… – протянул он и поехал не в ту сторону. Он петлял по полю, будто его преследовали, и у самой дороги попросил нас выйти из машины и вполз на шоссе.
И все-таки мы доехали, вылезли из машины, высыпали из машины, полные своими грибными заботами помчались в дом, не спрашивая его, куда он денется, а он никуда не делся, он пошел вместе с нами, за нами в дом и оказался на крыльце, потом и в доме, и мы не могли сказать ему, что это наш дом, что мы в нем живем одни, что нам сейчас надо во что бы то ни стало окунуться и заняться грибами. Они и так уже все крошились и портились, пока он просил нас влезать и вылезать из машины, когда въезжал на горку, пока петлял в поле. Я уже чувствовала, что Рая хочет совсем выйти из машины, но она покорно влезала и вылезала, хотя ей этот человек был уж невмоготу, но она сдерживалась, только раздувала ноздри и поджимала губы, но теперь, когда он вошел в дом так вот – не спрашивая ничего и никого, – так вот вошел, и все, теперь она просто онемела.
Он в машине чувствовал себя совершенно хорошо, будто родился в ней, будто и не был только что как шальной в лесу, зато теперь, в доме, он тоже чувствовал себя как дома и сидел здесь преспокойно, курил и, казалось, сейчас заснет.
Он вошел, и мы сразу ощутили страшную неловкость – ведь не могли же мы прямо сказать ему, что он мешает, что ему тут нельзя быть, что вот озеро рядом и шел бы на озеро. Рая что-то пролепетала, но махнула рукой. Он будто и не слышал даже. Она сказала, что даст ему мыло и полотенце, тогда он будто очнулся, сказал:
– Да, да, – но не двинулся с места. Он полулежал и глядел на нас, а мы суетились, хватая купальники и полотенца, мыло и тапочки.
Мы не знали, где нам переодеваться, и толпились в маленьких сенцах, прятались, хихикали, а он и не замечал этого всего, он просто не замечал нас, только видел Раю, которая мучительно не хотела, чтобы он оставался в доме. А он прямо засыпал в доме, он не хотел и двигаться даже, ему было хорошо здесь, он опять курил и чувствовал себя гораздо лучше, чем в лесу, а у нас была своя затея – выкупаться и разобрать грибы – грибы, которые портились с каждым часом, с каждой минутой, мы знали это их свойство – вдруг из целых, крепких, чистых грибов сделаться старыми, червивыми и никуда не годными осклизлыми, даже противными кляксами, которые уже совсем никуда не были годны.
Но он не двигался, зато суетились мы: ведь не оставлять же было его одного в доме – он бы мог тут заснуть на нашей кровати и остаться навсегда. Неловкость его присутствия царила в доме, ведь не могли же мы ему сказать просто – уходите, и все тут, нам надо уходить, переодеваться и вообще – он здесь жить не может, мы здесь существуем одни, и все тут, но он этого и не понимал совсем. Нам надо было все сделать по-своему, а он не давал нам простора, он тут присутствовал, и хотелось крикнуть: «Да ищите же себе дачу! Мы здесь одни, и никто не может быть с нами!» Мы шептались в углах и делали друг другу большие глаза, говоря: «Он никогда не уйдет!» – и правда, он не уходил, а зевал и произносил:
– У вас тут рай! Просто прекрасно! – блаженствовал.
И тут влетел Саша с целым мотком гороха на шее, не Саша, а копна гороха на велосипеде. Где он раздобыл его, мы не знали, но он примчался, смеясь и торжествуя, не зная еще всех наших тревог, не зная, что человек в очках пришел к нам поселиться навек, что он выжил нас в сенцы и мы теперь будем там крутиться, тесниться и надевать трусы задом наперед, стукаясь лбами об углы и проклиная его, помня о грибах, которые с каждой минутой промедления становились все невзрачнее и невзрачнее, и наши грибные сердца съеживались вместе с ними и падали с высот счастья в такую бездну, из которой уже не вынырнуть.
Саша влетел со своей улыбкой, с физиономией, которая торчала из копны гороха и смеялась, как всегда, смеялась, но смех мгновенно оборвался, как только Саша увидел его в нашем доме. Все помрачнело, даже горошины посыпались сами собой на пол, раскатились по всем углам. «Он – здесь?! Он здесь лежит? С какой стати?» – говорило лицо Саши, но вслух он сказал только:
– А я думал – моется в озере… – Он пробормотал это довольно невнятно, и человек совсем не расслышал его слов.
Рая вдруг воспряла духом и сказала громко:
– Мы все уходим! Пойдемте купаться, – и властные, взрослые нотки послышались в ее голосе, – все на озеро!
Человек будто очнулся от дремы и сказал:
– Да, да… у меня ничего нет с собой.
– Вот, вот полотенца! Их сколько угодно, даже купальные простынки, даже трусы, – Рая срывала с веревок полотенца и кидала ему – одно, другое, третье. Саша кидал ему тряпки, которыми вытирали ноги, даже Раины ленты и обмылки…








