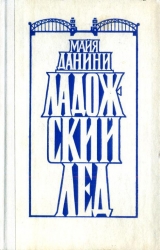
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
ДЕКЛАМАЦИЯ
Когда я слушала впервые стихи, то, еще не понимая слов, любила эти слова и повторяла их про себя, особенно рифмованные:
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Все было понятно: огонь, темнота, хата (не очень понятно, но смутно понятно, что это – дом), кроме слова «версты», да еще «полосаты».
Спрашивала, но мне отвечали туманно:
– Прежде на дорогах стояли столбы, окрашенные полосами, верстовые столбы.
– А сейчас они попадаются?
– Иногда кое-где в глуши, наверно, можно увидеть, – рассеянно говорила бабушка, и я запоминала: «где-то в глуши».
Помню, тогда же мама возразила:
– Ну что ты, какие же сейчас версты, то было в пушкинские времена, а сейчас вообще не версты, а километровые столбы!
– Я говорю, что, может быть, где-то сохранились, – говорила бабушка, уже отвлекаясь от этого спора и забывая, что все это спросила я, которой совсем непонятно, что есть километр, что – верста, почему столб есть верста, как это все совместить и разобраться в этом.
Они забывали это мгновенно, но не я.
Вдруг мне говорили, что я поеду на дачу куда-то далеко, и я слышала слова, обращенные не ко мне:
– Но ведь это такая глушь, как же туда с ребенком?
Запомнила только слово глушь и втайне радовалась тому, что поеду в эту глушь. Надеялась, что в этой глуши я найду те самые версты. В дороге, во время поездки, я все-таки спросила однажды бабушку:
– Значит, мы едем в глушь?
– Да, да! Очень неприятно так далеко от Ленинграда…
– Значит, там могут встретиться версты?
– Версты?
– Да.
– Какие версты?
– Полосаты.
– Что?
– Версты полосаты, которые иногда встречаются в глуши.
Озабоченная нашим переездом, бабушка только пожимала плечами, но я про себя надеялась, что непременно, во что бы то ни стало разгляжу эти версты, знала про себя, что я очень счастливая, что мне всегда удается то, что не всякому удается: например, мне однажды удалось найти на траве в садике сумочку – чужую сумочку, и сколько было восторгов, когда я нашла ее и кто-то взрослый отдал тому, кто потерял эту сумочку. Тогда меня так благодарили, обнимали, хвалили – за что, я не очень поняла, но поняла и запомнила, что я умею кое-что находить, теперь – так же, как и сумочку, – надеялась найти версты.
И вот после душного, надоевшего поезда мы очутились в комнате, пропахшей смолой и березовым веником, мы очутились в каком-то доме, и я заснула под лоскутным одеялом на пестрых подушках, заснула и проснулась в дивное утро, полное свежести, игры солнца и теней, утро, которое поразило меня своей тишиной и щебетом птиц. Удивилась тому, что если было тихо, то так тихо, что ничего не услышишь на улице, а если кто-то говорил, то не боялся нарушить эту тишину – кричал громко, как только мог. Громко мычали коровы и кричали петухи, громко скрипел колодец, и еще громче кто-то звал:
– Мань! Мань, глянь, што, Пань спит ли орет?
Музыкальность этих слов удивила меня, я повторила их про себя. Потом я услыхала страшный грохот и после того двойной плач – это шестилетняя Мань потянулась к своему братцу Пань и упала со скамеечки. Тогда послышался страшный крик матери, грохот ведер и дом наполнился таким шумом, что я заткнула уши и заплакала сама. Теперь уже кричали все – Мань, Пань, я и наша хозяйка, она одной рукой поднимала скамейку, а другой шлепала дочь и кричала на всех.
К счастью, Паша скоро успокоился, Маня тоже перестала плакать, и только я всхлипывала, уткнувшись в подушку: мне было жаль тишины. Но скоро и я перестала плакать, отправилась с бабушкой на речку, помня еще страх этого переполоха, но уже думая о своем, о том, как хорошо идти по тропинке среди высокой травы и как важно не поскользнуться и не упасть в воду. Бабочки летали надо мной и иногда садились на меня, а я их немножко боялась, хотя прекрасно знала, что они не кусают – просто прикосновение, и внезапное, такого летящего существа мне было непривычно. Но скоро я освоилась на даче, привыкла и уже не ходила осторожно, и бегала вниз к речке и обратно столько раз, что мне стали знакомы все повороты тропинки и каждая примятая мною травинка. И вот тут-то на тропинке, ведущей к реке, однажды, когда я бежала к дому, я вдруг увидела, что трава, полегшая от моих же ног во время бега, мелькает какими-то равномерно повторявшимися полосами, и, увидев это, я остановилась и вернулась. Снова побежала и снова увидела, и хотя меня звали и ждали на крыльце, я все возвращалась и бежала снова и снова, чтобы увидеть это полосатое и странное мелькание травы под ногами. Тут пришла догадка: это же и есть версты полосаты! Вот они – я их нашла.
Я прибежала и сказала бабушке о своей находке, но бабушка никак не знала всей сложности моих ассоциаций, она поджала губы и вздохнула:
– Где ты нашла версты?
– Тут у нас, на тропинке, пойдем, я тебе покажу!
– Завтра, – сказала бабушка, – теперь уже темно.
Я знала, что она не поверила мне, что ей кажется, что я вру и никаких полосок на земле нет.
Утром я повела бабушку туда, где видела свои версты, и при медленной ходьбе не увидела ничего сама.
В отчаянье я говорила:
– Надо бежать, а не так плестись, как ты, бежать надо, тогда увидишь!
– Что увидишь? – вздыхала бабушка, пугаясь той настойчивости, с которой я утверждала явную с ее точки зрения ложь.
Я побежала и снова увидала, а бабушка так и не побежала.
– Ну попробуй, – умоляла я, готовая плакать, – попробуй идти быстрее.
– Я не могу, да ты и сама хорошо знаешь, что все это твоя выдумка.
– Это не выдумка, не выдумка, я вижу, вижу версты вот тут под ногами!
– Но версты, то есть столбы, не лежали под ногами, они стояли вдоль дороги, и не на тропинках, а на больших дорогах. Мы ехали по железной дороге, и они там стояли, я просто забыла тебе показать.
– Они здесь, у меня под ногами! – плакала я. – Я вижу, а ты не хочешь даже побежать и посмотреть!
Но она так и не стала стараться увидеть мои версты полосаты, она после, когда мы ехали в Ленинград, все время показывала мне какие-то мелькавшие в окне палки и объясняла, что это – версты, объясняла, что значение «верста» перешло на этот столб, говорила все так скучно, что я нарочно не глядела на ее версты. У меня были свои полосатые версты, которые знала только я и любила их, как и прекрасное звучание стиха:
Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег… Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне…
Как долго вспоминала то свое вечернее открытие верст прямо на земле, когда действительно наступала ночь, вдали стояли хаты, было страшновато бежать одной, когда увидела свои таинственные версты, про которые так много думала до того, как увидела, – они мелькнули и исчезли, но зато ощутила прелесть открытия и горечь непонимания окружающими этого открытия и меня, осужденную за это, непонятую.
В те годы так много говорили о декламации, о Яхонтове, о Шварце, что совершенно невольно все как-то относились к этому: плохо ли, хорошо, но относились. Кто-то говорил, что не любит такого чтеца, а любит другого, кто-то, кто в самом деле был далек от искусства, стеснялся говорить о том, что ему не нравится бывать на концертах, не хочется и идет он просто по необходимости.
Но для меня декламация была единственным и вечным наслаждением, самым первым развлечением, только я не желала слушать других чтецов, кроме самой себя. Я понимала, что голос Яхонтова красивее, чем мой, что он играет каждой своей нотой, даже дыханием, но ничуть не видела разницы между его интонациями и своими (кстати, на лету схваченными у него), не видела ни малейшей разницы в том чувстве, которое я вкладывала в свое чтение, даже больше того, мне казалось, что я лучше, только об этом я не говорила никому и удивлялась, что мне этого не говорят. Но я столько хотела похвал, столько старалась всем понравиться, что в конце концов прослыла первым чтецом в школе и, делая невероятные логические ударения (свои, не яхонтовские), так что в слове шалун («шалун уж отморозил пальчик») ухитрялась обе гласные сделать ударными, растягивала слово до невероятности, виляя голосом то вверх, то вниз, произнося его так, как это делают родители, боясь за сына и в то же время восхищаясь им. Фраза получалась деланная, интонация претенциозная, но на моем лице при чтении был выражен такой восторг пред самой собой и такое ожидание успеха, что слушатели подчинялись моему самогипнозу и восхищались.
Меня заставляли читать еще и еще раз – того я сама хотела, – и они слушали, и я, входя в опьянение, кричала свое «ша-а-а-лу-уун» так неистово, что зал взрывался.
Этого только мне и было надо. Со своей декламацией я кочевала из школы в школу, в дома пионеров, в какие-то студии детского чтения, где тщетно допытывались у меня, почему именно на слове шалун я делаю такой акцент, на что я быстро отвечала: «Потому, что мальчики обычно бывают шалунами». И, слыша усмешку в ответ, принимала ее за поощрение и продолжала свою декламацию, вернее сказать – гастроли на школьных вечерах и утренниках до тех пор, пока однажды, где-то на концерте в филармонии, не услышала чтение этих стихов – такое грустное и сдержанное, такое точное, что вдруг поняла, что до сих пор до меня никак не доходил даже смысл стихов. «Его лошадка, снег почуя, плетется рысью, как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка…» Не ставя точку между этими строками, я читала так, будто это одна и та же лошадь то плелась, то бежала рысью, то летела, взрывая бразды пушистые. Тот чтец совершенно проскальзывал мимо моего шалуна, делая логическое ударение на слове пальчик, и то без всякого нажима, без особой остановки: «Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно». И я, почувствовав, как он прав, уловив скрытую музыку в простоте его интонаций, вдруг решила, что отныне я буду читать именно так, а не иначе, и в первый же вечер впервые прочла эти стихи сносно, легко подражая его манере. И что же? Послышались жалкие хлопки, меня никто не вызвал больше, и даже учительница, которая всегда так поощряла меня и каждый раз выражала свое восхищение после моего выступления, вдруг сказала мне:
– Сегодня ты не в духе, да? У тебя ничего не болит?..
…Прежде чем я научилась понимать стихи, я уже их декламировала. Но в какой-то день я, повторяя про себя стихи для того, чтобы запомнить их, вдруг почуяла особенную красоту строк: «Из перламутра и агата, из задымленного стекла, так неожиданно поката и так торжественно плыла». Эти строчки были, казалось, одним всплеском волны – в них звучало «л», которое придавало плавность всей фразе, наполняя ее торжественною легкостью. Меня околдовали эти стихи и, после того как я их запомнила и уже не хотела повторять, повторялись сами, без моей воли. Я могла говорить их невольно, когда хотела сказать совсем другое, так начиналось мое страдальческое отношение к стихам – любовь до страдания, полнейшего подчинения ритму и музыке, до крика: не хочу слышать стихов, музыки, тишины хочу! Но, увы, самое глубокое страдание не одно и то же, что глубокое понимание, хотя иногда мне казалось, что я одна во всем мире понимаю тайный смысл стихов, их скрытое значение, какую-то глубочайшую шифровку, космический знак в строке, в такой, например: «Меня проносят на слоновых носилках, слон девицедымный…», пока не узнавала, что это просто гравюра, Хлебников разглядывал ее и писал о ней то, что видел: слона, носилки и бога Вишну, мышцы слона казались художнику состоящими из дев. Все было просто и далеко не таинственно. А ты-то видел такое великое и надзвездное. Все твои построения рушились перед простой картинкой.
Так рушилось таинство, но все-таки стихи влекли меня не только тем, что я их разгадывала или не разгадывала, они влекли меня еще и своей музыкой, силой образа: «У капель – тяжесть запонок» – такая мелочь и такая верность.
Всякая строка, каким-то образом застрявшая в моей голове, была всегда для меня чистой, что бы она ни выражала, хоть неприятный намек, который я и различала, но отбрасывала от себя, заставляя строку светиться тем сочетанием слов, какое мне было приятно и понятно.
Глава двадцать третьяЦВЕТ
Веселый свет лампы напоминал мне мой первый шелковый сарафанчик, который я требовала у мамы каждую весну, а мама удивлялась тому, что я помню этот сарафанчик: он был у меня, когда мне было года полтора, и я давно выросла из него.
Этот веселый свет заставлял меня каждое утро залезать на стол, трогать абажур руками и представлять себя в этом абажуре. Думать, что если бы чуть-чуть был шире ободок, в который продет шнур, то я бы могла пролезть в этот абажур и ходить в нем, как в кринолине. В то время я, конечно, не знала слова «кринолин», но видела такие платья и, крутясь под абажуром на столе, представляла себе, что я уже в этом платье и танцую медленный, прекрасный танец, какой я видела на елке или уж не знаю где – в кукольном театре?
Не любила холодный, стеклянный свет люстры, плохонькой люстры в другой комнате, люстры, состоявшей из одинаковых, казавшихся всегда пыльными, ледышек и ничуть не украшавшей комнату, а посылавшей на пол такой же пыльный свет. В то время как нежно-кремовый абажур был радостным и теплым, окрашивал все предметы цветом весны и настоящего солнца, тусклая люстра казалась мрачным декабрьским днем, длинным, стылым и скучным.
В комнате, где горела моя лампа с абажуром, я всегда любила рисовать и ощущала, что цвет карандашей под этой лампой – ярче и сочнее.
Цвет весело настраивал меня или приводил в уныние и тоску. Мрачными казались самые неожиданные цвета, например, розовый – густой, ядовитый, липучий цвет, и нисколько не казался мрачным черный цвет, например мамино черное платье, в котором мама была совсем молоденькой и даже маленькой, так контрастировал черный цвет с ее светлыми волосами и лицом.
И самую большую радость цвета помню от голубой акварели, название которой «берлинская лазурь», – дивный, теплый, солнечный цвет этой лазури пронзил меня, как только я его увидела.
Сколько помню себя, отец, вернувшись из экспедиции, всегда рисовал карты, которые я очень любила.
Он всегда выбирал самые дорогие карандаши, откуда-то привозил и сам тер туши, знал все тонкости изготовления красок и очень гордился своими работами.
Когда отец садился к столу, я тоже садилась и выпрашивала у него его карандаши, они казались мне всегда самыми лучшими и особенными – эти точеные карандаши, маленькие пики и крошечные огрызочки, которых мне тоже не давали, потому что и они были для отца ценными.
Мне давали другие – мои карандаши, их тоже прекрасно затачивали и показывали, как надо штриховать, но сколько бы ни говорили, что эти карандаши тоже хороши, я знала, что они плохи и никогда не дают настоящего цвета. Тогда мне давали один голубой карандашик, коротенький, как винтик, едва державшийся в пальцах, и я делала им несколько штрихов с удовольствием, которого не могу описать.
Мечта о настоящем длинном карандаше, которым я буду так же хорошо рисовать, как и отец, была настолько заманчивой, что дни и ночи я думала, как вот все заснут и я открою его бюро, возьму карандаши и буду рисовать изумительные картины, такие, что все ахнут. Только надо было выждать момент, когда все будут спать, но такого момента никак не случалось.
И вот однажды, когда отец долго рисовал свои карты, а я долго просила его дать мне карандаши и наконец получила, унесла эти карандаши в кровать вместе с кусочком ватмана, – однажды это произошло. Я проснулась раньше всех. Все спали, а я нет.
Еще с вечера я, засыпая, видела перед глазами великолепный ковер из разных пятен, ковер разных цветов, напоминавший ту же самую карту отца, но рисованную мною, а не им.
Я видела все оттенки этой карты: она дрожала у меня перед глазами, переливаясь из желтой в густо-красную, голубую и коричневую. Эта карта-ковер нисколько не сердила меня тем, что мои штрихи лежали на ней вкривь и вкось, передавая то густой, то расплывающийся тон, а радовала меня тем, что я рисую так же ровно, как отец. И вот я открыла глаза утром и увидела карту, отец забыл ее убрать.
Карта была пестрая, разноцветная, отец делал ее несколько ночей. Я смотрела на нее и не могла оторваться, я гладила рукой шершавые от краски пятна и любовалась картой до тех пор, пока не вспомнила, что хотела взять карандаши. Я уже тянула эти карандаши из коробочек, примерялась, как мне лучше слезть, когда заметила целую шеренгу баночек и в одной из них – кисточку. Я знала, что это. Это были туши! Те самые запретные туши, которые всегда прятали от меня. К этим тушам нельзя было и прикасаться, не то что пробовать ими рисовать. Хорошим карандашом можно нарисовать более гладкую поверхность, но все равно будет видно, что полоски не легли одна к другой, а тушь обязательно разольется и даст такой непрерывно ровный цвет, что к нему не придерешься.
Отец мог слить штрихи в сплошной цвет, одним взмахом кисточки залить белый кусочек на карте или нарисовать такую линию, в которой явственно, хотя и искаженно проступал профиль мамы, и я даже знала, что это не мама, а карикатура, ее я, конечно же, не любила, но поражалась линии, которую умел провести отец, придав ей сходство с маминым профилем.
Я никак не понимала: отец ли так искусен, или хорошие карандаши сами бегут под его пальцами, а туши разливаются, как ему того хочется. Мои пальцы жили сами по себе; держали карандаш так, что он крутился или, зажатый с силой, ломался, и отточенный кончик кракал с легким хрустом, которого я боялась гораздо больше, чем сердитых окриков отца. Этот хруст означал, что больше вообще не будет ни цвета, ни линии, будут только разговоры:
– Опять сломала?
– Да, – и слезы с моей стороны.
Лучше бы, думала я, сломался мой палец. Я выгибала его что было сил и приговаривала пальцу:
– Ломайся, ломайся!
Но палец не ломался, даже не хрустел.
Теперь я чувствовала такое вдохновение, что обмакнула кисточку в тушь и провела линию прямо по своей руке.
Бумаги рядом не было. Первая линия вышла куда лучше, чем все мои прежние линии, – она оказалась ровной. Это настолько вдохновило меня, что я села прямо на карту и стала рисовать на руке одну за другой линии, так что они слились в ровный тон и совсем обрадовали меня. Что было за удовольствие ощущать, что ты можешь, можешь провести так, как хочешь.
Тушь быстро сделала мою руку восхитительно синей, и раскрасила все пальцы и запястье и дальше руку до локтя.
После, уже мокрой рукой, нельзя было искать бумагу. Я смутно, как сквозь сон, чувствовала что-то неладное – карту рядом со своей рукой, но никак не могла даже вспомнить, что именно омрачает мою радость раскрашивания, красила и красила.
Я уже красила свое лицо: разделила его ровно на две половины от лба к носу и подбородку. Разделив, стала расписывать лицо от этой линии: справа – синим, слева – красным, и когда было уже почти все готово, когда я хотела пойти и проверить, как ровно я себя раскрасила, тогда вошел отец.
Я сползла очень быстро, и следом за мной сползла карта и тут же закрутилась рулоном. Отец бросился к карте и развернул ее.
Я залилась синими и красными слезами, и не потому, что меня бранили и грозили не пустить туда-то и туда-то, не дать чего-то, лишить и прочее, мне было страшно потому, что отец душным голосом говорил:
– Нет, положение безвыходное. Я просто не вижу никакого выхода!
Его сдавленный голос, его жесты выражали полную безвыходность, будто бы он был не он, а я, которая никогда не смогла бы нарисовать такую карту. Отец потом прекрасно сделал доклад и показал подчищенную карту и только посмешил всех рассказом обо мне, расписанной синей и красной краской. А меня долго мучил своей холодностью и презрением. Я ничего не знала, и для меня слово безвыходность означало что-то тесное, страшное – саму смерть, которую я боялась, ненавидела и надеялась никогда не умереть.
Ожидание целой жизни впереди, ожидание веселья и радости делало смерть невыносимой. Смерть была ни на что не похожа – ни на болезнь, ни на тошноту, ни на боль, так мне объясняли. Смерть была что-то дикое, провал, чернота.
При всем своем остром ощущении цвета, я совсем не видела картин. Даже если меня водили по музею, и показывали что-то, и говорили всякие великолепные слова о разных мастерах, о том, как они умеют передавать цвет, объем и так далее, – я не видела на картинах ни цвета, ни объема, не видела фигур, а ощущала особенный холодок Эрмитажа и толпу, которая меня отвлекала и нравилась гораздо больше, чем все то, что мне показывали.
Мне говорили, чтобы я посмотрела, как дивно сочетаются краски вот там, как изумительно светится живое тело и прямо дышит на той картине, но я была увлечена всем происходящим в музее: веселой толпой и той особенной тишиной, которую боялась нарушить каким-то своим громким возгласом, нарушить стройное движение толпы возле картин и остаться вдруг одной в холодном зале с огромными людьми на картинах.
Мама или бабушка – кто водил меня – выбивались из сил, стараясь объяснить мне, как удивительно контрастируют лица и темные одежды, как великолепно написан бархат, а я рассеянно верила всему их потоку слов, не находя ничего сверхъестественного в этих некрасивых, на мой взгляд, лицах и толстых фигурах.
Из музея приходила и углублялась в свои картинки. Долго, часами разглядывала старые гравюры: подробные, вычурные фигуры, благородные до невероятности лица, неподвижные, засахаренные, милые своей знакомостью, своей возвышенностью и еще тем, что, рассматривая эти картины и зная их наизусть, могла вдруг в уголке найти какую-то кошку, которая тут же ела косточку или даже мышь, а в другом уголке найти цветок или рабочую корзинку и котенка, который катал клубок. Эта находка в картине была мне так приятна, что я настраивалась особенно весело и благодушно, в то время как из картинной галереи могла прийти со слезами и раздражением: не любила сразу много картин, не могла их все запомнить и вместить в память.
Много лет спустя – уже после блокады и эвакуации – пришла в Эрмитаж все с той же детской неприязнью и еще с голодным раздражением и все-таки не хотела, не могла видеть никаких картин, пока постепенно не прониклась сперва Дюрером, потом Боттичелли, потом Брейгелем. И вдруг узнала, что все это может не только нравиться, но и угнетать, что может быть таким прекрасным, что уже становится страшным для тебя.








