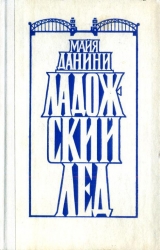
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
И чистому воздуху предпочтут все, ленивому существованию на поляне, полной чистой воды и воздуха, ягод и грибов. Для чего все остальное, когда легкие дышат, глаза видят, язык ощущает все вкусное, когда ноги и руки, кожа и каждая клетка тела живут и радуются, ждут новых и новых лучей солнца и воды, прикосновения песка и травы к ладоням? Для чего все остальное?
* * *
А где же Валентина и все ее страсти, где ее пылкий румянец, который горит, как яростный пожар, горит и манит? Где же Бобриков, который бежит и не жаждет, спасается? Потому его и ловят, что он бежит.
Вот там, под окнами, у самой калитки, кружит на велосипеде человек лет шестнадцати, как и Валентина, он просто катается на велосипеде, сверкает спицами, и кажется, что искры сыплются от спиц, – он тоже в страсти, но не желает, чтобы поняли, глядит вперед, и только, но достаточно сказать ему: «Эй, погоди, я тоже поеду на велосипеде!» – так он – даже если очень далеко ему, кажется, и не слышно совсем – услышит, повернет. Остановится у самой калитки, услышит. Только она не позовет его, и он сам знает наперед, что не позовет, не остановится и не скажет.
Но она позвала его вдруг, выбежала к калитке и позвала. Он остановился и повернул, а она нырнула в сарайчик и вышла уже с велосипедом, вышла в шортах, в кедах, такая вся статная, литая, ладная – кукла, И они поехали по горушкам, аллейкам, попадая то в солнечный столб света, то в призрачную тень.
Чужие страсти! Ах ты боже мой, как страшны чужие страсти. Кажется, что там детишки и их страстишки? А нет. Именно их страсти и есть страсти, не смиренность, а вечная страсть. Когда она полыхает, то кажется, будто дерево со всеми своими корнями, ветками, плодами прорастает из тебя, как из земли, рвется к солнцу и попирает тебя. От него не спастись, не убежать, не скрыться, оно с тобой вечно. И ты так и будешь с ним, как с ношей, которая тебе не под силу. Но если ты освободишься от этого груза и останешься один, легкий, будто невесомый, то такая тоска бездействия и бессчастия охватит тебя, такая страшная тоска.
* * *
Мне хотелось крикнуть Вале: «Эй, Валентина, где твой роман? Роман под названием «Тетрадка в косую линейку?» Где Бобриков?» А правда, где Бобриков? Уехал рыбачить? Поехал в город за яблоками и помидорами? Уд-рал? Уже удрал? А как же роман? А он заплатил за дачу вперед? Он дал задаток? А где прелестные картины в духе Франсуазы Саган – купание на лодке, пляжи, кофий на веранде? Ну хоть не кофий, так чай с малиновым вареньем, и чтобы из самовара или по крайней мере чай из электрического чайника, и Бобриков с тортом приехал или с пирожными, а варенье Наталья Ивановна подавала на стеклянных блюдечках под хрусталь, и молоко, густое, прекрасное, в кувшине, и васильки с ромашками в старинной стеклянной банке, по форме напоминающей кринку. И там, в тени вишни, сирени и ползучих мелких роз, пить этот чай так долго, с таким удовольствием. И Бобриков рассказывает про… Что, про что? Про то, как он был в Чехословакии или в Болгарии, про балет на льду? А Валя фыркает, пьет чай с блюдечка – нарочно, нарочно, просто для балды. Знает, что это не престижно, но пьет именно с блюдечка, так ей хочется посердить всех – особенно мать, – и пьет. А потом приходит и уходит сосед Иван Иванович, славный такой, любимый сосед, человек, который из корней и пеньков режет фигурки, составляет их из веток и прочих шишек-елок-метелок, и у него целый сад таких поделок, а еще есть щенок по прозванию Шаньга. «Если хотите, пойдемте смотреть щенка и сад!» О, сад, усеянный корнями – скульптурами и всякими поделками!
И нет особой охоты смотреть эти поделки, а идешь и смотришь: «Ах, да, чу́дно!» (то бишь чудно́ – хотел бы сказать), но говоришь чу́дно. А щенок (жуткий Барбос) – прелесть! Ах, прелесть, а не щенок.
Но тут все зависит от настроения. Коли выспался да умылся или окунулся даже в Ладоге, коли напился прекрасного молока с пирогом, который испекла хозяйка, то и стал примерно таким, как хозяйка, таким вот прекрасным существом, которое никогда не утруждало себя книгами, да мыслями тож, фильмы смотрела – и не видела их, книги иногда читала, но все равно не помнила, и для нее Валентина и ее тетрадки (иначе она их не называла) – это позорище последнее, но вот ныне макулатуру сдавала да покупала книженции на талоны: все покупали. Так надо было. И пошли к соседу в гости.
Нас встретил щенок, обыкновенный толстый щенок, веселый, резвый и суматошный, такой преданный и униженный, нет, пожалуй, даже не униженный, а радостный, будто никто никогда не бил его, или он сразу забывал это, или знать не хотел зла. Знал, но не хотел знать – радовался тому, что он жив-живехонек на свете и может лизнуть кого-то там в руку или даже в лицо – все равно кого.
Он прыгал вокруг, суетился, молча, поспешно выискивал миг, когда вы наклонитесь, чтобы погладить его или просто дать конфету, сухарик, что случилось, что завалялось в сумке, – и в этот момент лизнуть и сплясать короткий танец вокруг вас, даже и не желая той конфеты, сухарика, просто сплясать свою короткую, полную энергии и счастья мазурку, обтаптывая вам ноги, разрывая чулки, обгрызая шнурки на ваших туфлях. Он был ужасен в своей суете и прекрасен, он был невыносим и наделял вас уверенностью, что жить на свете необыкновенно, он обращал вас в бегство и в то же время привлекал к себе, потому что нет на свете ничего более прекрасного, чем счастье и жизнерадостность.
Это счастье заливает весь мир, оно распространяется вокруг, оно заставляет сверкать листья и каждую каплю росы, оно обливает вас.
Щенка звали Шаньгой. Это была собачонка, а не собака (очень не люблю слово сука, такое оно щучье, ругательное и скверное). А шаньги бывают розовые, пышные и прекрасные, как розы, не угловатые розы, а простодушные, круглые и свежие. Пышные розы. И щенок был пышный. Он лакал из миски воду, крутился на всех своих лапах, вдруг окунул голову в миску, и я посмотреть на миску не успела, как он закусил ее и понес пустую куда-то. А он был в экстазе – несся как вихрь, но даже в его полете и мелькании этой миски я различила, что она – не простая. И много надо было труда, чтобы отнять ее от щенка, взять в руки и рассмотреть. Миска была старинным ковшиком, до того старым и странным, что вся почернела, была заляпана, замурзана, но все равно привлекала к себе своей странностью – она была плетеная, покрыта лаком, была будто соткана из бересты или лыка, да так, что держала воду, и зазоринки не было нигде, и найти невозможно было.
Отняв у щенка его игрушку, я была вся оцарапана, истоптана, потому что он старался отнять – не злобно, не сердито, а так, играючи. Он был уверен, что я все равно отдам ковшик. И тут явился хозяин щенка и ковшика. Хозяин, который глядел хмуро на всю нашу игру. А щенок все прыгал, и я услышала, как хозяин сказал грозно:
– Н-ну?
Можно было подумать, что он говорил это не только щенку, но и мне. Весь его вид был довольно сердитый: «Нечего играть с чужими собаками, нечего хватать чужие миски-ковшики. Что это за дело?»
Хоть дом не был огорожен, стоял себе так просто, но все, что было возле дома, принадлежало ему, дому, и хозяину тоже.
Щенок не очень огорчился, не очень присмирел, но послушался, зато хозяин смягчился:
– Добрая собака будет!
Я все держала в руках берестяной ковшик и не знала, как заговорить с хозяином о том, что очень мне нравится этот ковшик.
Трудно всегда получить то, что очень понравилось, и хоть знаешь, что хозяевам все равно: миска эта из жести, алюминия или дорогая вещь, все равно они, уловив твой особый интерес к вещи, непременно заупрямятся и будут говорить на одной ноте: «Нет, положь, пусть будет тут… собака привыкла из нее лакать». И хоть собаке всего-то месяц и она вполне может привыкнуть к другой посуде, не уступят нипочем, так, из упрямства, оттого что дом не растаскивай – пусть будет, и все тут… Потому я решила не оттенять мое желание получить миску, а просто посмотрела на нее еще раз и поставила за завалинку. Обратит хозяин внимание на то, что я не на место ее положила, а на завалинку, обросшую травой?
Он не обратил внимания.
Это меня порадовало.
Ах, каким тонким дипломатом почувствовала я себя! Какой замечательно умной и сообразительной. Прекрасное чувство! Если бы думать, что всегда можешь положиться на свою сообразительность, на то, что сделаешь все, как надо, без промаха, но в то же время не всегда тебе стоит являть свою светлую голову, стоит и уступить другим, дать им поумничать, поговорить, сказать за тебя. Только есть опасность уступания. Это знакомо не всем. Посторонился по привычке, чтобы пропустить человека, глядь, а он уже впереди тебя стоит-сидит-существует, да еще и разглагольствует, что ты просто-напросто мазила и ворона, так тебе и надо… Тогда можешь гневаться и кричать: «Я – Багира, присовокуплю к своим словам быка – берите!» – только смотришь, и быка съедят, да и не запомнят, что съели. А потом и Маугли могут слопать, хотя Лягушонок может и огонь раздобыть.
Надежда на Лягушонка…
Плоховатая, но есть…
А хозяин играл теперь со своей доброй собакой Шаньгой, и надо было ему подыгрывать, чтобы завести разговор о туеске-ковшичке, тем более, что у меня была маленькая коллекция туесков и здесь, в далеком Сельце, я уже высматривала всякую всячину такого рода, но ничего не находила, кроме корзин.
* * *
Теперь все собирают коллекции. Знала такого человека, который собирал коллекцию печатей и одну – самую ценную – первую печать японских императоров – нашел на дворе в старом доме, почти закопанную в землю, каменную, огромную. Он поднял ее и прочел стертую надпись. Написал в музей, и оттуда ответили, что такого не может быть, что эта печать утрачена в каком-то там веке. Он еще раз написал – в другой музей, и тогда его пригласили в Японию вместе с печатью.
Он долго не мог собраться, но поехал наконец, и принимали его как императора. Оказывали такие почести, что он оторопел совсем, не знал, куда деваться от всевозможных церемоний. Его кормили жареными хризантемами и всякой всячиной, имя которой он не ведал, но чувствовал к ней некоторую опаску, если не сказать больше, чем огорчал людей вокруг несказанно, и они все спрашивали, что, что ему приготовить, как уложить, куда повезти, что показать. Он хотел простой жареной говядины в достаточном количестве, хотел свежее яйцо всмятку, а не курицу под соусом из водорослей, но его кормили всеми видами водорослей и рыб, которые пахли розами, а на третье подавали розы в рыбном рассоле.
Его приглашали еще и еще, и он приехал еще раз, но тогда ему сказали, что в третий раз древнейшая из печатей уже не выедет назад в Россию, таков закон Японии. И он остерегся, не поехал, хотя за два путешествия в Японию попривык и к церемониям, и к поездкам на яхтах, привык к тому, что надо созерцать природу после обеда, да и к самому обеду привык.
Он уже даже скучал без рыбного рассола из хризантем на завтрак. Но – не поехал. Слушая его рассказы и зная его лично, я с тех пор всегда на старых двориках оглядываю камни: авось тоже случится найти такое вот чудо. Но не случалось даже и туеска порядочного отыскать. И вот нашелся ковшик, который скромно лежал на завалинке, а я скромно стояла возле, потрагивая его, будто от нечего делать. Хозяин и внимания не обращал на ковшичек. Он покуривал, поглядывал на щенка, хотел только, чтобы мы посмотрели его корни, а то и их не хотел показывать, а только щенка.
– Вот ковшичек этот мне нужен – воду черпать…
Он и не глянул на ковшик.
– Пить, что ли, хочешь?
– Не пить, а воду вычерпывать из лодки, – у меня и голос дрожал.
– Бери.
Я мгновенно взяла ковшик и пошла отмывать-отмачивать его в реке. Шла и думала, что он не понял, какой мне ковшик нужен, для чего. Спохватится – отнимет. Решила пойти в магазин и купить простую миску или отдать ему взамен наши – эмалированные, если не найду в магазине. Но я ошиблась, ах как ошиблась! Этот ковшик совсем не был единственным в доме и очень старым, это была его работа, да и какие ковшички тут были, какие корзинки, лапотки, резные копилки, тарелки и прочие вещи. Можно было рассматривать эти вещи без конца и края, мне это нравилось, я могла просто все купить или выпросить. Иван Иванович был доволен и доверял нам, хотя я уже успела выпросить ковшик. Но разве простодушному человеку понять, что такое коллекционер?
Допустим, я имею самую маленькую страстишку к собиранию этих вещей, допустим, я только изредка умею загореться именно собирая и находя такие вещи – редко, очень редко получаю их, но все-таки страсти разгораются, как и аппетит во время еды. Уж если есть нечто, то и другое надо, и третье. И я стала рассматривать все его драгоценности, чем его обрадовала еще раз.
И тут влетел в комнату вихрем щенок, кинулся к хозяину, ко мне, снова к хозяину, потом завернулся в половик, скрутил его, и грозные окрики: «Н-ну!» – не действовали на него нисколько, будто он не слышал ничего от радости. Был пнут, был выброшен ногой – не больно, просто отброшен за порог, и снова ворвался, и снова ему дали легкий пинок, но он даже не взвизгнул, не тявкнул, а молча опять продрался к хозяину и затих на время, чтобы снова грызть половик и закрываться им.
Быстры щенячьи радости, легки и просты. Его так манит день, солнце, река, трава, всякая вещичка в доме от веника до ложки на полке – прекрасной ложки, которая так и просилась в рот, до того была тонка, изящна и отполирована. Она не была под лаком, просто липовая ложка, но ей и лака не было нужно – она и так сияла своей точеной, литой, прямо костяной плавностью, будто ее отлили. Я разглядывала ложку, а щенок пытался вырвать ее из руки хозяина, что молча хмурился, глядя на щенка, – уж потерял терпение бороться с ним, а только искал веревку на окне, шнурок, приговаривая:
– А где ремень у меня?
Хозяин совсем не интересовался тем, что я перебираю его работы и все выглядываю, что самое интересное.
Он просто привык к тому, что его хвалят, его почитают, у него покупают или выпрашивают его поделки, он знал, что они привлекают внимание всех, что они хороши.
Он нашел наконец веревку и стегнул слегка щенка. Тот притворно испугался – и в этот миг вырвал у меня ложку из руки, которую я опустила.
Корни и пеньки были куда хуже всего остального, хотя хозяин именно ими гордился. Он работал все время. И я стала наблюдать за тем, как хозяин работал: он работал дни и вечера, все время, что мог, то и пилил-строгал-шкурил, полировал в руках. Шел на дворик, в руках держал тонкую шкурку, и все двигались его пальцы, шевелились, будто в руках он держал четки.
Помню, мне рассказывали, что четки делали из персиковых косточек, которые были отшлифованы пальцами тех, кто перебирал их, – они стирались до того, что не было видно рельефа косточки, только паутинка.
Так и хозяин беспрестанно вертел в руках свои поделки. Пальцы его мяли шкурку, трогали дерево, и это дерево будто становилось мягким, прозрачным и в то же время твердым. Оно напоминало теперь уже не просто слоновую кость, но старинные вещи из кости. Хозяин ел – и то держал свои деревяги возле тарелки, смотрел на них и, верно, думал, что ему предпринять дальше, а может быть, и не думал, а мысленно продолжал работать. И в воскресенье он не сидел сложа руки, и вечерами тоже.
– Иди, – кричала ему жена, – наколи лучины да Шаню загони, самовар ставить буду!
Хозяин не вдруг поднимался, не сразу отзывался. Он раскачивался долго, глядел неотрывно на то, что было у него в руках, потом еще держал это, что делал, перед носом, потом уже вставал и нехотя шел во двор. Там он разглядывал то полешко, которое надо было перевести на щепки: не то ли, которое ему нужно, пригодиться может, не то, что высохло и все в рисунке, – когда он убеждался, что нет, не то полено, только тогда он щипал его и собирал мелкие стружечки-колечки – не пригодятся ли на то, чтобы сделать из них деревянную муку для шпаклевки. Конечно, у него дерево висело на стенках, на полках лежало штабелями – высушенное, твердое, легонькое, завощенное с торцов, иногда и покрытое не то суриком, не то черт знает какой позолотой-бронзой-медом, сахаром, будто это были не полешки, а куски торта, похожие на сливочное полено, шоколадное, вкусное, просто съел бы, и только.
Я видела однажды человека, стоящего возле дома, который рушили, – старый дом, маленький, дачка старинная, его ломали, и летела пыль, стоял треск, и он, человек этот, весь в пыли, все ждал, когда кончат ломать, чтобы кинуться в самую пыль и грязь и извлечь оттуда старые балки, старые доски. И он кидался, нырял в этот пыльный омут и извлекал оттуда балки. Тащил их в сторону, пилил, оглядывал с великой нежностью, оглаживал, ласкал и пилил, пилил, сколько мог. Рабочие стояли кругом и глядели без всякой издевки, без всякой насмешки над этой работой – понимали его. Это был мастер скрипок. Больше того, эти рабочие, мне казалось, даже завидовали его страсти, его глазу на старое дерево, его умению видеть в дереве то, что оно может дать после. Петь, звучать, продолжать жить века.
Но если даже и не поет дерево, то оно может стать прекрасным и необычайным в руках такого любителя. Не просто там туеском-корзинкой, но вещицей, которая сама по себе уже нечто необыкновенное. Страсть в нем, глаза его, руки останутся – и даже настроение. Чужое тяжелое настроение передается. Не только человеческое, но даже собачье.
* * *
Кто таков чудак? Да просто человек, который делает все, как ему этого хочется: вот ему уж подыграли, открыли все двери, сделали все возможное, а он все равно идет своей дорожкой, идет совсем не той тропинкой или ломится изо всех сил в те двери, которые как раз закрыли перед носом. Он шел себе бы и шел туда, куда велели, куда так просто было войти, но он только взглянул в открытую дверь и пошел в другую…
Не поверил? Или сам хотел открыть свою дверь?
Человек обаятельный и текучий так просто вливается в толпу, так ловко идет и всегда улыбается, так легко благодарит – и все открывается ему само. А чудак сердит. Он раздражает особенно своей манерой путать игру.
Вот уж ясно, что собака не собака, а просто вихрь страстей самых разнообразных и не будет доброй собаки, ан нет, он силится доказать всем, что это и есть его собака, и будет натаскивать ее до последней потери сил, потому что и он привязан к этой собаке, он любит ее. Нет ведь ничего более страшного, более заманчивого, более притягательного, чем любовь чужая.
Неведомо мне, научил хозяин Шаньгу таскать палки и находить корни, но только мне Шаньга помогал носить корзины и искать землянику. Шли мы с ним, шли по лесу, искали-искали полянки с грибами и земляникой – не очень попадались нам с ним места. Избили ноги, устали, легли на поляне – комары допекают, слепни, вышли на поле, спугнули рой бабочек и жуков. Шаньга бросился догонять каждую, ловить и смотреть – куда полетели эти шельмы, которые, как ему казалось, тоже могут куснуть – кто их знает. А Шаньга уже меня охранял от всех, кто мог кусать. Так его заели, что он всех жалел, меня тем более. Меня защищал. Не дай бог защита глупого – не знаешь, куда деваться от лая и суматохи, от страшного его аллюра, кажется, все цветы испугались, все облака улетели от этого щенячьего восторженного писка и визга, от его защиты. После Шаньга провалился в канавку, я его искала, тащила, потом он залез в чужой дом, и там на него напали собаки, потом он попал в болото, только вдруг он затих и затаился. Исчез совсем. Нет щенка и нет. Звала, бегала, рукой махнула. Ну, придет, вероятно, найдется сам. Такой закон пропавшей вещи – не ищи – сама найдется.
Пошла назад и вижу, что стоит пес посреди такой полянки, что заглядеться можно – красна поляна, и на ней пес выкусывает что-то там, выискивает, на меня не смотрит, наклонилась – ягоды ест, лягушонка лапой придавил, играет с лягушонком. Покричала на него – как смеешь не отвечать и таиться? Он и внимания не обратил совсем, смотрит рассеянно, оглядывается, ушами встряхивает и снова ловит несчастного лягушонка. Отняла лягушку и прикрикнула на него, только полянка меня утешила – просто загляденье. В одну минуту полстакана ягод собрала, съела и того больше, потом отошла в сторону – еще и еще ягоды. И снова он набрел на поляну в стороне, полную ягод. Снова собрала и опять пошла – прошли несколько шагов, и вижу, что стоит он над кустиком, поглядывает на меня: «Вот тебе еще! Бери…» Заметила, что он ягоды может куснуть, жует нехотя и не глотает, хотя иногда может и съесть, потому только, что он все мог есть, даже бумажки, веревки и всякую всячину, что приходило ему под настроение.
Шли после домой еле-еле, – может, дойдем, а может, и упадем. Пить хотелось, вытянуть ноги, сесть в тень и задремать, но шли и шли. Он очень устал, как и я, только все-таки был куда бодрее, но и я, глядя на него, шла, двигалась, шла и шла вперед.
Добрели, и блаженная усталость, после того что выпили несколько огромных глотков холодной воды, блаженная усталость слетела, спала, отошла от нас. Сидели в тени и глядели друг на друга. Мы пили воду и говорили: ты мне друг? Я тебе друг…
И это была правда – он был другом, и я знала, что он никогда не предаст, никогда не оставит в тоске, только и не утешит, увы. Не может утешить, когда вдруг все станут поносить, угнетать, перестанут понимать совсем и даже будут бранить как смогут.
А и то бывает прекрасно, когда бранят и злят, и то бывает хорошо и весело на душе, когда там, в черной тесноте непонимания, вдруг вспыхивает твое противление всему, что происходит.
Сопротивляешься как можешь всему тому, что делается кругом, и ощущаешь радость существования на земле, свою особенную близость ко всему и проникновение во все на свете. Весь мир принадлежит тебе, и ты – ему, ты знаешь его, и он – тебя, ты его любишь, и он – тебя. Страшна только жалость к тебе, сочувствие, которое сродни отвращению. Ты не принимаешь мер, и он тебя отвергает, откидывает от себя, ты его не слышишь, и он – тебя.
А пес? Он может тебя оделить радостью и тоской, но твою тоску он может только разделить с тобой. Поскулить, когда ты плачешь, повизжать, положить морду на колени, заглянуть в глаза, может принести тебе что-то – подарить, но не может сказать слова, которые тебя утешат.
* * *
Кто сказал, что Наталья Ивановна не читает ничего? Она вот сидит и читает, читает. Уже час читает или около того. Я сижу и читаю тоже. Вали нет, никого, кроме нас с Натальей Ивановной и прекрасной погоды. Мне надо давно бросить читать, а ей тоже надо бежать в магазин и еще куда-то там, а она все читает. И вдруг слышу – плачет, просто навзрыд рыдает и смеется – ну и ну, и что бы это все значило! – и идет-бредет ко мне, сморкаясь и утираясь концами платка, вся трясется от слез и рыданий. Садится возле меня.
– А где Валя? – спрашиваю дрожащим голосом.
– Ва-аля… – утихает она с таким видом, будто я утешила ее совсем. Вздыхает и смотрит на меня и на книгу. Вдруг снова начинает рыдать и сморкаться.
– Я ведь ее ро-ман… прочла.
Прочла, значит… Господи!
Молчим и глядим в стороны. Она знает, что нельзя было читать, верно, Валентина прятала этот роман в щели, под матрас, ночью не спала, думала, куда спрятать бы этот роман подальше, с собой на пляж таскала, и в лес, и в кино – всюду, но мать подстерегла ее, когда она вдруг уехала, нашла и прочла.
Снова плач:
– Нет, ты прочти только! Прочти! – вздыхала. – А может, она тоже… поэтессой будет? (Это значит и деньги получать станет, да не такие малые деньги, а работать не так уж сложно, не лес валить!) Ты бы тоже прочла.
Я вздыхаю. О, как не хочется говорить и всячески объясняться, уж лучше с собакой сидеть в доме, уж лучше уйти подальше.
– Не хочешь… Говоришь, что… Осуждаешь, что я прочла, да? Нельзя чужие тетрадки читать, а я вот взяла и прочла, потому что дочь она и должна я с ней возиться еще! Я за нее отвечаю, да и не то все это, не то, что тебе говорить.
Ясно, что мне говорить все это незачем. Так вот сидим, вздыхаем, и про себя каждая все понимает, а может, и накручивает лишнего – что накручивать?
Так все странно: знаем, что этот вот Бобриков, который исчез, пропал, уехал, этот великолепный Бобриков витает тут, существует и долго будет существовать. И для чего читала, душу травила, для чего плакала и смеялась? Могла бы и подождать Валю, а теперь она так наэлектризована всем прочитанным, что ее не остановить, не утешить, она думает только о том, что там пишет и делает Валентина, что с ней дальше будет. И говорить может только о том же самом Бобрикове и Вале, о том, что Валя страдает.
И мне кажется, что Валя страдает безмерно, что она не на шутку взвинчена и все делает себе во зло, что ее собственный роман страшнее того, что она пишет, и нет в ней той силы и смелости, простой трезвости, которая нужна для того, чтобы одержать верх.
И тут с шумом, звоном, смехом и криком, падая на забор, смеясь и поднимаясь, влетела Валя на велосипеде, а у ворот остановился велосипедист, ее провожатый. Они были мокрые, разгоряченные, радостные, совсем не такие, какими мы их ожидали, совсем не те, о которых мы скорбели и печалились, другие приехали, и Валя кричала:
– Мама, мама, он такой… такой… – смеялась и не могла выговорить дальше ни слова.
– Кто?
– Прекрасный, теплый…
– Кто?
– Он только вот тяжелый и толстоват…
Мать перевела глаза на велосипедиста.
– Кто? Ты говори.
– Его немножко переделать, – и Валя провела рукой по коленям.
Мать стала вдруг совсем багровой:
– Ты говори толком.
Валя уже поняла, что она морочит матери голову, и продолжала нарочно, продолжала уже подыгрывать тому, что мать предполагает.
– Он вот такой, – и она развела руками, – он хороший, добрый зверь, зверик, по прозванию тулуп.
И снова она смеялась от всей души, сморкалась, слезы капали из глаз.
Потом она вытерла глаза и сказала:
– Тулуп дядя Федя продает – хороший тулупчик и не очень дорого, правда. Я его сейчас привезу, покажу. Хороший зверик и новый, мягкий совсем, да? – И она стала ластиться к матери, как ластятся все дети, особенно девочки, которым, знают, купят игрушку, непременно ее купят и подарят, стоит только попросить, стоит только приласкаться и стать хорошей-прехорошей дочерью.
И она ластилась.
– Тулуп, – тупо сказала мать, – какой тулуп?
Валя махнула рукой своему велосипедисту:
– Привезешь, а то у меня уже солнечный удар будет.
Тот кивнул и исчез.
– Тулуп, – повторяла мать, – а сколько дядя Федя хочет?
И Валя сказала сумму не очень великую, вполне сносную.
Они обе сидели совершенно спокойные. Валя и не подозревала, что происходило только что.
Через несколько минут они рядились в тулуп и меня приглашали смотреть, мерить его и оценивать – стоит ли брать или нет, хорош или нет.
И тут появился Бобриков, в тот миг, когда Валя, облаченная в тулуп, вертелась на лужайке, и ее мы оглядывали, оглаживали, смотрели, как сидит – что в спине, на плечах, рукава? И оказывалось, что хоть и великоват тулуп, да хорошо ей, и она в нем такая славная, будто зверюшка, и Бобриков оценил это, а мы, как нарочно, подыгрывали.
Только что Валина мать рыдала, что Валя пишет роман, разыгрывает его, размазывает в тетрадке, делает все не то, и вдруг все забыли, и сцена случилась сама собой, как по сценарию: все наоборот, накал страстей все нагнетался и нагнетался.
– Вот какая у нас Валентина!
– Прямо картинка!
– Вся из модного журнала.
– Какая красотка!
Это говорили и Наталья Ивановна, и я, и мальчик, что привез тулуп, и даже Иван Иванович и его жена за заборчиком. А Шаня лаял громко и пытался проникнуть в наш двор.
И Бобриков согласился:
– Да уж Валечка хороша, да, хороша…
И тут Валя сняла тулуп, бросила его небрежно, отвернулась, и все спохватились – чего ради подыгрывали роману? Только что обрадовались, что она будто сбросила с себя всю свою влюбленность, всю эту канитель – каталась на велосипеде и думала про тулуп, даже разыгрывала нас, и вот, как только все пропели ей свои песни, так снова она погрузилась в этот поток своих страстей, разогретых нами.
И снова Бобриков сказал свое:
– Ва-а-лечка! – которое, все знали, только сердило и взвинчивало ее, да и нас тоже. Это «Ва-а-лечка» как бы зачеркивало все ее настроение приподнятости и радости, все его похвалы и то внимание, которое он обратил на нее.
Тут громко залаял Шаник, звонко и слезливо. Тут все разбрелись в разные стороны, и одиноко остался лежать тулуп, а мальчик за забором тоже оттолкнулся от калитки и уехал.
– Ну давай, – сказала Наталья Ивановна, – купим тебе тулуп, ладно?
Валя не отозвалась.
– Ну что ты? Расхотела?
Валя пожала плечами.
– Говори же! – вскипела Наталья Ивановна.
– А что говорить, – сказала Валя.
– Да берите, не думайте, – сказал Иван Иванович.
– Возьмем?
А Валя уже ушла.
И скрылся Бобриков. Он у себя в комнате скрылся, окно открыл и лег на диван – хороший диванчик, включил приемник – тихо-тихо. Он всегда включал тихонько, за что и любим был хозяйкой и всеми нами особо, но не Валей. Валя любила и музыку, и все, что от него исходило, любила слышать его, одного его, а все кругом мешали, и то, что он один делает, уже не было слышно.
– А что я скажу, – вдруг выглянул Бобриков, – на базаре грибов полно, да каких! Приглашаю за грибами съездить на катере. Что, Валечка? Наталья Ивановна?
Валя встрепенулась сразу, выбежала, будто вылетела из окна.
– Да, да, поедем!
– Иван Иванович, мы за грибами поедем! Вы хотите?
– Да можно, – отозвался Иван Иванович, и Шаня взлаял.
* * *
Все думала, что такое отдыхать? Потом поняла – это значит радоваться. Только и всего. Радуйся дома, радуйся где хочешь, веселись на полянке, на озере, в музее, в библиотеке, у кого-то там в гостях, в бане, радуйся, сидя в тесном вокзале, ожидая поезда-самолета, радуйся где хочешь – и отдохнешь душой.
Значит, Шаник всегда отдыхал, потому что он радовался поминутно, всегда, радовался, когда бежал полем и вдыхал запах клевера и тонкой пыльцы пшеничного поля, радовался, когда вдыхал сосновый живительный, острый дух, радовался, когда, проваливаясь в болоте, ковылял за лягушкой, радовался, когда видел хозяев, когда ел или хотел есть, радовался, когда даже защищал хозяина и его двор от охотников. Он тосковал только для того, чтобы страшно обрадоваться, когда встречал хозяев. Он радостно спал и радостно просыпался, его ничто не могло вывести из равновесия, даже наказания хозяев: он чувствовал, что это – временно, просто так и сейчас все кончится благополучно, и он вновь обретет свободу и их любовь, их желание смотреть за тем, что он вытворяет, что теперь выкинет еще.
Радоваться – это значит ни о чем не думать, ничего не ощущать совсем, кроме свободы, легкого дыхания и кожи. Есть, конечно, и другая точка зрения – есть люди, которые только и рады тому, что думают. Ничего другого им не нужно – только сам процесс размышления, только движение мысли. Таких тоже много.








