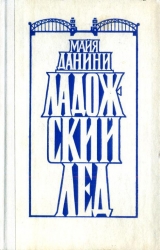
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
ЯДОМИТЕЛЬ ЦНИГРИ
С трех лет слышала разговоры в доме тети Мани и у себя:
– Доклад в ЦНИГРИ…
– Иду на доклад…
– Ртутные выпрямители…
– Механика грунтов…
– Деформация балки…
И повторяла про себя:
– Механика ЦНИГРИ, балка доклада, выпрямители доклада, иду на грунт…
Отлично знала, что все перевираю, в голове отпечатались навек устойчивые словосочетания, такие, как механика грунтов и ртутные выпрямители, но так однообразно звучали эти слова, которые для меня ничего не значили, вызывали только образы тетки Ирины или дедов. Механика грунтов была для меня мягкой, как влажная земля, а ртутные выпрямители казались градусником или даже скорее разбитым градусником и капельками ртути. Только что разбила градусник и катаю ртуть по одеялу – знаю, что нельзя поймать эту ртуть руками, она ускользает. Могу повторять: «Ах ты выпрямитель несчастный!» Предчувствую всякие нарекания по поводу разбитого градусника и этой ртути, которую не взять, да и нельзя брать в руки. Знаю, что она вредная, очень плохо может быть, если ее проглотишь, даже можешь умереть. Ртуть – это яд. Выпрямитель яда, ядомитель ЦНИГРИ. Что-то было томительное в этих многозначительных словах, для меня ничего не значивших, тем не менее – томительное, может быть, утомительное.
Всякие слова любила выворачивать наизнанку, переиначивать, выдумывать. Играла ими, как с кубиками, переставляя так и этак. Слышала, как говорят о пьесе «Судья в ловушке», слышала название книжки – «Судьба Милены», тут же говорила: «Судьба Милены в ловушке».
– Вы идете смотреть эту судьбу в ловушке?
Такие мои словечки повторяли, передавали, я этим гордилась необыкновенно, но знала, что эту гордость надо скрывать от всех, делать вид, что ничего не понимаешь, что сказала свое слово так, случайно и ничуть не жаждешь похвал, а то непременно тебе прочтут нотацию о том, что нельзя восхищаться собой, нельзя искать успеха.
Технические и научные термины застряли у меня в ушах с детства, но не заинтересовали меня, наоборот, чем больше я погружалась в чертежи – деду для книги вычерчивали с братьями рисунки, – тем больше не хотела иметь с техникой никакого дела. Все понимала – как полезно, нужно, прекрасно, но – не хотела, зато рано начала чувствовать, как давит все это рациональное, умное, полезное на меня – нерациональную, бесполезную, как они все не понимают моей пользы, моего умения, моего знания. Чтобы защититься от них, нападала сама.
– Вы все делаете от противного! – говорила я брату или деду, имея в виду теорему, которую доказывают от противного. – Вы все делаете от неприятия, то есть – от неверия, а я делаю все от доверия, от веры, вот и разница.
Они понимали это по-своему. Сердились. Говорили:
– В чем же разница?
– В доверии.
– В легковерии?
– Пусть так.
– Нет большего греха, чем легковерие, оно похоже на глупость.
– Нет большего греха, чем недоверие.
– Это из другой оперы.
– Так не говорят! Это страшно примитивно говорить «из другой оперы».
– Но все-таки это не одно и то же – недоверие и доказательство от противного. Ты все путаешь, и нарочно путаешь. Тебе лишь бы устроить каламбур.
И это была правда. Мне нравился каламбур больше, чем всякое измышление, всякое доказательство, мне нравился спор, нравилось остаться в выигрыше, даже если я не выигрывала в смысле, а только в том внешнем рисунке спора, то есть мне уступали не по существу спора, а потому, что я все запутывала и без умысла и не без умысла, запутывала, чтобы выпутаться.
Виктор говорил:
– Она спорит, чтобы переспорить.
Именно это он не любил, именно это и не нравилось ему, сердило и заставляло думать.
Ссорились из-за споров без конца, даже плакали, жаловались друг на друга тетке, чтобы в один прекрасный день – через двадцать пять лет – понять, что нисколько не сердились, а только радовались тому, что было это желание спорить.
И спорить стало не о чем. Они делали то, что им было понятно, приятно, легко, я делала то, что я могла. Их логика принадлежала им, мне – моя. Она казалась им такой нелогичной, как если бы я пыталась писать ушами, а слушать музыку руками. Но был смысл даже в том, чтобы слушать музыку руками. Был смысл в том, в чем совсем не было смысла, в этом самом ядомителе ЦНИГРИ, и когда в институте на занятиях русским мне дали фразу для синтаксического анализа: колома болдонула бокла или что-то в этом роде, я была так счастлива, как если бы мне сказали, что отныне я – единственная – права. Я готова была тут же побежать к моим оппонентам и дать им эту фразу как лучшее из доказательств моей правоты, но не к кому было уже бежать: дед умер, брат занимался своими делами, его было не найти, остальные мои дядюшки – кто спорил со мной – давно смирились с моим упорством. И я, торжествуя, анализировала: колома – подлежащее, болдонула – сказуемое, бокла – дополнение.
Глава двадцать восьмаяБРАТЬЯ
Милые мои братья и все, все, все, кто жив и здоров, бранит меня, что я не прихожу вовремя в гости, не звоню и не пишу, не сердитесь, я сама так часто удивляюсь – почему я не прихожу, почему мы так редко видимся, особенно с братьями. Говорите, что виновата я, что я, вослед маме, не соблюдаю ритуалов, не соблюдаю всех церемоний. Вы и по сей день видитесь часто, а я в своем отдалении от вас, может быть, ощущаю ностальгию, которая и заставила меня писать о вас? Во всяком случае, не простое желание вспомнить детство или рассказать о знаменитых дедах.
Собственно, знаменит был только один дед, о котором я еще не говорила, который однажды стал знаменитым, да так и остался на всю жизнь, а рядом с ним стали упоминать и других и называть всю фамилию династией. Это часто случается: кто раз стал знаменитым, тому уж не сойти с этой стези. Дед, может быть, и не хотел бы вовсе, чтобы его именем называли институт, а уж назвали, он, может быть, вообще хотел бы вдруг из электрика превратиться в конструктора велосипедов, а нельзя. Если он сконструирует велосипед, маленький, из самоката, скажут, что это его причуда, даже могут снять кадр для хроники – он на своем велосипеде, но никогда не дадут ему возможности заниматься своим велосипедом так, как ему этого хотелось бы.
Но дед давно умер, хотя этот кадр – он на маленьком своем велосипеде – можно иногда встретить в кино: едет дед, веселый, седой, бородатый, на маленьком велосипеде, едет и машет рукой, бородой, улыбается, бурно объясняет кому-то, как удобно ездить на таких велосипедах, как они нужны. Он был живой очень человек, совсем не торжественный, как это можно было бы от него ожидать. Жил он долго, и до сих пор странно, что он не появится вдруг в лектории и не начнет читать лекции, скажем, о необходимости купаться в проруби, хотя сам он и не купался никогда в проруби, и не помню, чтобы кто-то из родственников купался, а дед мог вдруг согласиться читать такие лекции так просто: сам прочел недавно и сразу поверил, что это великолепно – купаться в проруби зимой…
Его непосредственность, к сожалению, не передалась его сыновьям и не очень – нам, но зато некоторые люди вспоминают его так:
– А, он прекрасно ездил на велосипеде, помню, помню, как же!
– Да он не прекрасно ездил на велосипеде, а просто демонстрировал свою модель.
– Да, да, на своей модели прекрасно ездил…
Так странно совмещаются случайные кадры кино с тем, что люди помнят в самом деле.
Недавно на улице встретила двоюродного брата с дочерью и страшно обрадовалась, глядя на них. Оба эти лица – его и дочери – мгновенно соединились у меня в одно, смешались, и казалось, что я говорю не со взрослым дядей, огромного роста, а с ним – тем маленьким, у которого круглые щеки и толстые губы, они вот-вот вытянутся от обиды, а слезы покатятся по носу, когда он будет стараться скрыть их от нас и опустит голову. Мы были погодками, и тот, кого я встретила, – младше всех. Как часто он своими обидами, слезами держал нас в страхе, донимал нас настырными приставаниями – пойти туда-то с ним, дать ему то-то, рассказать ему что-то, выслушать его, отдать. Вечно он обижал сам и обижался, всегда спорил, терпеть не мог чего-то не знать. Так, он выучил сам Киселева и знал алгебру – наш учебник – еще в третьем классе, но великим математиком не стал, хотя окончил, конечно, институт и аспирантуру.
Таким родным и светлым показалось мне его лицо, это двойное видение – дочь, похожая на него, маленького, неразличимо, и он сам, огромный, бородатый (и все-таки маленький), и я чувствовала, что, стоя со мной, он тоже погружается в детство, наше с ним, с другим братом – детство, в тот огромный океан обид, радостей, горестей, который, пока плывешь по нему, кажется страшным и нескончаемым, а когда попадаешь на берег, когда кончается детство, то вдруг оказывается прекрасным и неповторимым. И только такие внезапные встречи ненадолго возвращают тебя в него.
Мы стояли, а Оля вертелась и теребила отца за руку в нетерпеливом раздражении, совсем его раздражении: «Пойдем же!» – я остановила их на пути к какому-то ее удовольствию.
Но мы не двигались и смотрели друг на друга затуманенно – вот-вот заплачем. Совсем не старые, не измученные, здоровые и даже счастливые, но утратившие детство, наше с ним желание спорить и доказывать свою правоту, наше с ним насмешливое и ревнивое чувство друг к другу, единственно чего не утратившие – нашей любви друг к другу, такой скрываемой от самих себя, неуловимой, почти несуществующей и такой явной.
Как, помню, обретя сразу двух, хоть и двоюродных, братьев, как обогатилась их раздраженной любовью, их полупрезрительной, задиристой и нежной любовью, какой стала счастливо-несчастной! Хоть нас так оберегали от нее (тетка, дед) после, когда были уже в институте, да и прежде, с шестого класса, когда она вспыхнула, как ссора, любовь, полная презрения и ненависти, – и никогда не прекратилась.
Всякие мои знакомые мальчишки – Вали, Геши и прочие – существовали и приходили, и я говорила всем, что они мне нравятся или не нравятся, но все они были будто бы случайно рядом с моими братьями, существовали сами по себе, а мои братья были всегда моими, рядом со мной и даже для меня, хотя, упаси бог, чтобы они что-то делали мне, – никогда, или всегда с таким видом, будто это им страшно тяжко, но были, и были всегда лучшими. Я это именно и ощущала, что они – мои и лучшие из всех, но не для меня. Не мне предназначены, не достижимы, потому – особенно любимые.
Какой непримиримой, жесткой становилась тетка Виктория, когда она вдруг встречала нас вместе, нас, отправляющихся на лодках куда-то на Лахту или просто по Невке, как она холодела и леденила нас своим холодом, она, добрейшее существо, любившая меня по-своему. (Сама она была замужем за своим двоюродным братом.) Когда мы вставали пред ее глазами рядом, то ее беззвучное: «Нет! Никогда!» – останавливало меня, отводило от моих братьев, и я покорялась ее немым крикам, да и они тоже. Наши прогулки оказывались испорченными, мы вдруг становились неестественными друг с другом, начинали смеяться так громко и вдруг теряли всякий интерес к тому, что задумали. Тетка уходила, но ее тень оставалась с нами и разводила нас.
Зато теперь мы захлебывались, глядя друг на друга, и что это было за ощущение! Все было нам интересно в другом: и одинаковость наших воспоминаний, разных и одних и тех же, и одинаковость наших лиц, и одна и та же гордость друг за друга. Ощущение: все-таки ты самый близкий, потому что я знаю всякую черту твоего лица, повторенную во мне, знаю всякое твое движение, которое сама могу сделать за тебя не потому, что я знаю, как ты всегда двигаешься, а потому, что привыкла с детства так делать. Я знаю, есть на свете лица красивее, чем твое, выразительнее, но ты – и не самый лучший и все-таки лучший, потому что ты – почти что я.
Это измученное слово влюбленность так мало выражает из того, что в самом деле ощущаешь, когда его произносишь, потому что оно подразумевает нечто плоско-определенное, а не то легкое состояние ясности всего существа, веселости и легкости, той силы восприятия и бесконечной детскости, которое я подразумеваю, когда говорю его по отношению к братьям. Нельзя же употребить еще более смешное выражение братская любовь, когда она вовсе не братская, потому что и теперь, когда мы встретились и глядели друг на друга, и теперь вспыхивало в голове: «А может быть, теперь?» – и сейчас же гасло, гасилось уже совсем не теткиными предостережениями, не ее трагическим: «Я все это пережила и знаю, не дай бог вам пережить – это во-первых, а во-вторых, для чего сокращать число семьи и рода, соединяя возможные варианты!»
Нет, не тетка вставала между нами, а мы сами, и я особенно, желавшая продлить свое детство, которое возникало при виде брата. Мы с ним никогда не перебирали в памяти все подробности нашего детства, тем более не произносили вслух знаменитого: «А помнишь?», но мы ощущали, как все всплывает само, мы ощущали приближение детства в присутствии друг друга.
Оба они что-то делали вдали от меня – один строил лодки, другой изучал клещей, – но оба они, помимо того что преподавали, ездили за границу, читали лекции, изобретали и строили, говорили веселые тосты, комплименты и остроты, – они еще были моими братьями, и я знала – делали примерно то, что и я, думали так, как я, и не потому, что мы одинаково воспитывались и были родными, а еще и потому, что мы, хоть и не звоня друг другу, ощущали, что происходит с каждым. Нам не было нужды звонить друг другу и видеться постоянно, мы и так слышали, что делает и думает другой.
Нас упрекали в том, что мы так мало видимся, но все эти упреки ничего не значили для нас, потому что мы могли видеться, могли и не видеться, и даже наоборот, если виделись, то часто оставались в раздражении, говорили друг другу детские колкости – привычные колкости, и не так легко, как на расстоянии, понимали друг друга, но, расставаясь, непременно все прощали и оставались в прежней связи.
О, я воображаю, как засмеются мои братья, прочтя эту главу:
– Ну, ну, ну, ну! Врешь, врешь, врешь, врешь. Ну, дружили, ну, играли, ну, еще туда-сюда, но любили, но любили – это просто ерунда! Что виделись очень редко – это да, это да, но что знали все подробно – это просто ерунда…
И все-таки я стану утверждать, что могу услышать звонок по телефону и без звонка, что могу понять, что происходит с людьми, даже если они и не звонят, как им там – хорошо или плохо, – могу почувствовать.
Эта связь, разумеется, не очень прочна, почти неуловима. Часто ошибаешься и после ошибки теряешь надежду снова понять что-то, но все-таки возвращаешься к этому своему состоянию и снова чувствуешь, что связь эта верна, если к ней привыкнуть.
Глава двадцать девятаяЛЮДИ И ВЕЩИ
Сводить концы с концами так трудно! Хочется бросить все как есть, в той естественной хаотичности, как случилось написать. Думаешь: не так уж важно, в какой последовательности все изложено, как трансформировались в моем изложении события. Иной раз одно и то же рассказываешь по-разному, переставляешь факты (факты легко смещаются в голове!), да ведь они вещь не такая уж важная.
Все, что здесь написано, не воспоминания, а просто мое удовольствие вдруг видеть то, что помнится, с такой отчетливостью и восторгом, все заново и все гораздо лучше, чем, может быть, было в самом деле. Никакой грусти оттого, что все прошло, потому что теперь это куда значительнее и светлее. И вспоминаешь детство не для того, чтобы кому-то и что-то рассказать, а потому, что тебе хочется воскресить и полюбоваться тем, что было.
Странная вещь – было много тяжкого, но даже тяжкое становится славным, когда ты это только вспоминаешь, оно приобретает какую-то особенную прелесть – то ли потому, что имело свое благополучное разрешение, то ли потому, что ты улавливаешь в том, что было, свою логику.
Помню осень сорок первого года, все ее краски и оттенки, холодную змеиную жуть аэростатов, сверкающих в лунном свете, и дикую красную луну, которая ни с того ни с сего заливала город совсем не привычным беловатым блеском, а золотила предметы. Это уже была голодная луна, голодная красота, а потом настала смертная красота. Предсмертный стук метронома и великолепие умирающего города. Умирало все: камни подо льдом, решетки под тяжестью инея – никогда ни до, ни после не было такого инея, который делал всякий завиток моста и решетки тяжким, белым и живым, словно шевелящимся, разраставшимся с каждым днем и в то же время мертвым, леденящим. Никогда ни до, ни после Ленинград не знал таких жестоких зим. Почему именно эта зима была такой страшной – для того ли, чтобы Ленинград остался, каким был, или для того, чтобы умер прежний Ленинград и сделался другим? После такой зимы многие дома не выдержали и осыпались штукатуркой, трескались, отошли от соседних – не только из-за бомбежки, но и ото льда.
Тяжкая эта красота запомнилась мне так явно, так подробно, как может все запомниться только в му́ке.
…Так и домашние предметы были для меня всегда необыкновенно приятны и имели свой смысл и свою красоту, связанную с какими-то событиями и впечатлениями, имели иногда еще и скрытую от всех красоту, которую я одна знала и любила.
Была, например, у меня детская мягкая, искусанная ложечка младенческая, когда я, еще сидя на высоком стуле, училась есть, – это была любимая ложечка, легонькая, как бумажка, немножко резавшая меня своими краями. Она была без всяких украшений, но совершенно белая, с большим процентом серебра, бо́льшим, чем делали обычно, я могла с нею играть, кусать ее или ожидать, что дадут что-то очень вкусное, – она и связывалась у меня с первыми вкусовыми ощущениями детства, потому я так и любила ее, кормила кукол и вдруг однажды потеряла. Мне говорили всегда, что нельзя брать ложку для игры, а я брала со страхом, что потеряю, – и потеряла, как мне казалось, пока не прозвучало трагическое слово торгсин, которое сначала я не связала с ложечкой, и только много месяцев спустя поняла, что ее снесли в торгсин и обратили в какое-то лакомство для меня же, но мне было уже не до лакомства, потому что самое большое ожидание лакомства связано было у меня с этой ложечкой, которой теперь не стало. Она была для меня вещью одушевленной, насколько может быть одушевленным лакомство, она же была и игрой в сладкое, которая не получалась с другими ложками. Другие ложки стали мне неприятны, да и были всегда тяжелее этой, вероятно, мне было в самом малолетстве трудно с ними справляться – словом, первое эстетическое удовольствие я получила от той ложечки, хочется сказать – из той ложечки, а утратив ее, утратила первый предмет, красоту которого различала, и с тех пор – с момента утраты – держала ее в памяти, ее, отвлеченную от конкретного, красоту.
То же самое было и с высоким стулом, который, правда, не остался для меня эталоном красоты, хотя бы потому, что в какие-то времена стал мне мал, а я по привычке старалась сесть на него и царапалась (у него уже были обломаны ручки). Когда стул сделался мал, его заменило креслице, с которого, стоя на коленях, я дотягивалась до стола. Я любила деревянные завитушки этого кресла, в вырезанных там птицах, листьях и фруктах видела другие фигурки: девочку с распущенными волосами, сидевшую повернувшись ко мне щекой, и много разных милых лиц, которые были в самом деле где-то в садике или про которых мне читали.
После те же самые завитушки уже ничего не выражали, ничего не значили для меня и даже почему-то сердили. Помню, уже после войны, когда это единственное кресло въехало в нашу тесную и тоже единственную комнату, все эти завитушки стали мне необыкновенно неприятны, мне хотелось в ту пору иметь новую, совершенно гладкую, без всяких украшений мебель, которая могла бы не мешать, не загромождать собой комнату, а служить. Кажется, я сердилась именно поэтому и еще потому, что, утратив все, не хотела иметь одно это кресло, потертое, потерявшее всякий смысл – хоть ломай все эти завитушки. Но не сломала, чтобы потом радоваться им, не сохраненным, но уцелевшим.
Глава тридцатаяПРАЗДНИК
Да, все еще жив старый дом на Каменном, все еще живут в нем мои родственники, но многих из них я уже почти не знаю. Когда я прихожу к тетке Виктории и вижу новые лица, мне даже неловко спросить, кто это, – вдруг это окажется мой троюродный брат или племянник, я видела его, но не могу теперь узнать: был толстенький карапуз, а стал немолодой дядя, у которого тоже есть дети.
Когда я прихожу к Виктории, она каждый раз говорит мне: «Какая ты была выдумщица!» В этом возгласе есть и удовольствие, хотя прежде удовольствия не было, а вместе слова «выдумщица» чаще звучало: «Неправда» или: «Не говори ерунды!» С годами тетка стала употреблять эвфемизмы, то есть «обходиться при помощи носового платка», а я перестала быть выдумщицей и кляну себя за то, что так мало выдумки в моих рассказах, нет даже шутки, а как шутили дома! Были домашние, понятные только нам шутки и домашние анекдоты, были и шутки, которые смешили всех.
Еще жива до сих пор манера говорить о самых глубокомысленных вещах так, будто все на свете легко и достойно смеха. Очень хорошо помню свою торжественную детскую привычку думать и их манеру шутить надо мной, из чего я с тоской и искренностью заключала, что они куда легкомысленнее и глупее меня, потому что я стараюсь понять, а они будто бы и не думают вовсе.
Часто я задавала себе, после – деду трагический вопрос о смысле жизни и тут же получала ответ:
– Смысл жизни в том, чтобы думать о смысле жизни.
Нисколько не утоленная и даже обиженная, я говорила деду:
– Оставь газету и говори со мной серьезно.
– А я как раз читаю о смысле жизни, вот тут, в отделе происшествий.
– Где?
– Вот посмотри сама.
Я брала газету и не находила даже отдела происшествий.
– Там нет отдела происшествий.
– Ну, милая моя, ты не умеешь читать газеты! – Он брал газету и начинал читать: – «Вчера в цирке произошло трагическое происшествие. Во время выступления укротительницы с группой тигров одна из тигриц вдруг закапризничала и отказалась слушаться. Она зарычала и…»
Я, холодея:
– И?..
– «И внезапно… – снова пауза, – внезапно укротительница, которая стояла к тигрице спиной, обернулась, набросилась на нее и проглотила ее целиком».
– Кто? Укротительница тигрицу?
– Наверно!
– Неправда! Дай, где это написано?
Брала снова газету, но, разумеется, в газете ничего не было. Дед выдумал все с начала и до конца. Это не останавливало меня, а наоборот, заставляло с еще большей важностью надуваться.
– Я, – говорила я, – просто умнее вас. Я думаю обо всем, а вы – нет.
– А мы – нет, – говорил дед и свистел мотив, который сам придумал для меня на слова моей песенки:
У енота хвост в колечках,
Хвост у крысы без волос,
У меня – пушистый, пышный.
Братец кролик, где твой хвост?
Пока я все продолжала размышлять, он иногда спрашивал:
– Нет, право же, братец кролик, где твой хвост?
– Оставь меня в покое, – говорила я и добавляла про себя: «вы просто дураки».
Вслух сказать такого никогда не решалась никому, кроме братьев. В самом деле, я тогда ощущала себя такой умной, какой бы теперь чувствовать хоть чуточку. Зато теперь, когда стоило бы задуматься над чем-то, я отшучиваюсь. Да, дедовы шутки бывали очень хороши. Как быстро он мог ответить, отрываясь от своих дел, и сказать что-то смешное, хотя, казалось, он и не слушает совсем то, что мы говорим.
Он шутил и перед смертью.
Последнее воспоминание о деде – когда он долго и мучительно умирал. Я пришла к нему, он уже лежал и еле шептал:
– Возьми, тут какая-то бумажка, твоя, наверно, – неподвижной рукой едва шевельнул в мою сторону.
Я взяла бумажку. Там была завернута брошка, старенькая эмалевая бабочка, я поняла, что он раздает перед смертью всем что-нибудь свое.
…Недавно был праздник в том доме, в большой столовой был расставлен старый огромный стол и в закутке – маленький, где сидели дети. Я сидела за большим столом возле маленького.
За нашим столом брат Виктор рассказывал что-то и потешал гостей, за маленьким его сын Никита тоже говорил детям что-то, и там слышался смех. Иногда этот смех заглушал даже общий гул, и тогда взрослые беспокоились и просили меня посмотреть, что там происходит, а там происходило все то же, что и у нас, только в роли Виктора выступал его сын. Все было просто. Я так и сказала, брат слегка надулся, но скоро забыл свою мину и продолжал веселить всех. За маленьким столом все так же смеялись, колотили ложками и вилками, Никита вставал и, утихомирив всех, говорил что-то, после чего смеялись еще громче.
Старый дом гудел, скрипели ступеньки и перила, на которых, как и мы когда-то, ползали наши дети. Дом был стар, ведь он почти один уцелел на улице, где; прежде были только дачки, и все-таки мне было жаль, что дом кончается и вместо него скоро будет парк и больше ни одного дома на улице, только деревья, кусты и дорожки, сроют и фундамент, не оставят и камешка, даже яблони из сада будут выкорчеваны, тогда не найти будет и места, где стоял дом и дорожки были вытоптаны так, что казались каменными.
Ну и пусть… Ведь этот дом не представляет никакой архитектурной ценности, он дорог только нам, а мы его все равно будем помнить.
Пусть…








